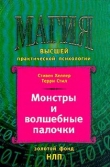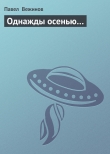Текст книги "Понятие сознания"
Автор книги: Гилберт Райл
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц)
Далее, было бы абсурдом говорить, что кто-то испытывает ощущение или чувство целенаправленно; или выпытывать у кого-нибудь, для чего тот испытывал приступ боли. Правильнее объяснять возникшее ощущение или чувство, говоря, например, что электрический ток вызвал у меня ощущение покалывания или что звук сирены вызвал неприятное чувство в животе, – при этом нет никаких ссылок на мотивы для чувства покалывания или дискомфорта. Иначе говоря, чувства не относятся к числу тех вещей, по поводу которых можно осмысленно вопрошать, какими мотивами они вызваны. То же самое и по аналогичным причинам справедливо и для других признаков возбуждений. Ни приступы боли, ни содрогания, ни чувство неловкости, ни чувство и вздохи облегчения не относятся к тому, что я делаю сознательно. Следовательно, они также не являются тем, о чем можно сказать, что я делаю это разумно или глупо, успешно или безуспешно, старательно или небрежно – или же что я вообще это делаю. Они не являются также и тем, что удается хорошо или плохо. Они вообще не управляются, хотя содрогания актера и вздохи лицемера могут удаваться и управляться лучше или хуже. Было бы нонсенсом говорить, что некто пытается ощутить приступ боли, хотя имеет смысл высказывание о том, что некто пытался вызвать его.
Отсюда следует, что мы были правы, предположив выше, что чувства напрямую не относятся к простым наклонностям. Наклонность – своего рода расположенность или готовность преднамеренно совершать определенные поступки. Поэтому такие поступки описываются как совершенные на основании такого-то мотива. Они суть проявления той диспозиции, которую мы называем «мотивом». Чувства проистекают не из мотивов и потому не относятся к возможным проявлениям такого рода предрасположенностей. Поэтому широко распространенная теория, будто такие мотивы, как тщеславие или привязанность, являются, прежде всего, предрасположенностью испытывать определенные специфические чувства, представляется неверной. Разумеется, существуют склонности испытывать те или иные чувства: подверженность головокружениям или ревматизму и есть такого рода склонность. Однако мы не пытаемся нравоучительными поучениями исправлять подобные наклонности.
С чем чувства соотносятся каузально, так это с возбуждениями; они суть признаки возбуждений, точно так же как боли в животе служат признаком расстройства желудка. Грубо говоря, вопреки господствующей теории, мы действуем преднамеренно не потому, что испытываем чувства, а, наоборот, мы испытываем такие чувства, как трепет и содрогание, потому что мы лишены возможности действовать преднамеренно.
Перед тем как оставить этот сюжет нашей общей темы, стоит отметить, что мы можем вызывать в себе самые искренние и сильные чувства, просто представив себя в вызывающих волнение обстоятельствах. Любители романов и театралы испытывают настоящие муки и воодушевление, льют настоящие слезы и неподдельно сердятся. И все же их страдания и негодования поддельны. Они не отбивают аппетита к шоколадкам, не меняют интонации голоса при разговоре. Сентиментальные существа – это такие люди, которые поддаются искусственно вызванным чувствам, не осознавая фиктивности охвативших их возбуждений.
(6) Наслаждение и желание
Слова «удовольствие» и «вожделение» играют большую роль в словаре моральных философов и некоторых школ психологии. Нам важно вкратце указать на некоторые различия между предполагаемой и реальной логикой их употребления.
Прежде всего, по-видимому, обычно предполагается, что слова 'удовольствие' и «вожделение» всегда используются для обозначения чувств. И конечно же, существуют чувства, которые могут описываться как чувства удовольствия и вожделения. Иногда возбуждение, потрясение, оживленность, смешливость указывают на чувства восторга, удивления, воодушевления, веселья, а страстное стремление, терзание, нетерпение и томление служат признаками того, что нечто одновременно и желается, и недоступно. Но душевные порывы, удивление, оживление и страдания, по которым распознаются – правильно или неправильно – данные чувства в качестве их признаков, сами по себе чувствами не являются. Они суть возбуждения или настроения, точно так же как порывы страдания, которые дети выказывают своими подпрыгиваниями и хныканьями. Ностальгия – это волнение, причем такое, которое в известном смысле можно называть «вожделением»; но это не просто чувство или серия чувств. Тоскующий по родине человек помимо того, что испытывает таковые чувства, не может также не думать и не мечтать о своем родном доме, отвергая все соображения, грозящие продлить его отлучку; при этом его не привлекают даже те развлечения, которым он обрадовался бы в другое время. Если бы он не испытывал этих и подобных им склонностей то нам не следовало бы называть его тоскующим по родине, о каких бы своих чувствах он ни рассказывал нам.
Далее, слово «удовольствие» иногда употребляется для обозначения особого рода настроений, таких, как восторг, радость и веселье. Соответственно оно употребляется для дополнения описаний некоторых чувств, таких, как дрожь, пыл и трепет. Но существует еще один смысл, в котором мы говорим, например, что человек, который настолько поглощен неким занятием, например гольф он или спором, что ему тяжело оторваться или даже подумать о чем-нибудь еще, – что он «получает удовольствие» или «наслаждение», делая то, что он делает, хотя он ни в коей мере не трепещет и не выходит из себя, а следовательно, и не испытывает каких-то особенных чувств.
Несомненно, глубоко увлеченного игрока в гольф нередко кидает в дрожь и жар восторга, по ходу игры он испытывает возбуждение и довольство собой. Но если спросить у него, получал ли он удовольствие от игры в промежутках между наплывами этих чувств, то, очевидно, он ответит: да, получал, ибо вся игра была для него удовольствием. Он ни на мгновение не желал бы прерваться, ни разу, ни мыслями, ни разговорами он не отвлекся от игры на что-то другое. Он даже не пытался сосредоточиться на игре. Ему не нужно было ни заставлять, ни упрашивать себя, поскольку он был поглощен игрой и без этого. Усилия потребовались бы и, возможно, прилагались бы, если бы нужно было обратить внимание на что-либо иное.
В этом смысле делать что-то с удовольствием, желать делать это и не желать делать ничего другого – это просто разные способы вербального выражения одного и того же. И именно этот лингвистический факт иллюстрирует один важный момент. Страстное стремление не то же самое, что трепет или пыл или же вообще не подобно им. Но то, что некто склонен делать, что он делает, и не склонен не делать этого, вполне может обозначаться фразами «он получает удовольствие, делая это» и «он делает то, что хочет делать», а также «он не желает останавливаться». Это – осуществленная предрасположенность действовать и реагировать должным образом там, где на эти действия и реакции обращается внимание.
Отсюда видно, что слово «удовольствие» может использоваться для обозначения по крайней мере двух совершенно разных вещей.
(1) Есть такой смысл этого слова, который обычно передается глаголами «наслаждаться» и «нравиться». Сказать, что человек наслаждается, копая яму, не означает, что он при копании одновременно совершал или испытывал что-то еще, бывшее результатом этого копания или чем-то ему сопутствующим; сказанное означает, что он копал, целиком поглощенный своим делом, то есть копал, потому что хотел копать, а чего-либо другого делать не желал. Это его копание и явилось осуществлением его предрасположенности. Оно само и было для него удовольствием, а не средством доставить удовольствие.
(2) Существует и такой смысл слова «удовольствие», который обычно передается словами «восторг», «порыв чувств», «восхищение», «ликование» и «радость». Это наименования настроений, обозначающих возбуждения. Выражения «слишком восторжен, чтобы говорить связно» и «без ума от радости» вполне легитимны и правильны. С такого рода настроениями связаны определенные чувства, обычно описываемые как «трепет удовольствия», «пыл удовольствия» и т. д. Следует отметить, что хотя мы и говорим, что нас охватывает трепет удовольствия или что жар удовольствия согревает наши сердца, мы все же обычно не говорим, что удовольствия охватывают нас или согревают нам сердца. Только теоретики могут до такой степени заблуждаются, чтобы и восторг, и наслаждение классифицировать как чувства. Ошибочность подобной классификации подтверждается теми фактами, что (1) копание с наслаждением не является копанием плюс переживанием некоего приятного чувства и (2) восторг, весе лье и т. д. – это настроения, а настроения не есть чувства. О том же говорят и следующие соображения. Относительно любого ощущения или чувства всегда имеет смысл спросить, получал ли их обладатель удовольствие, испытывая их, или же это было неудовольствие, или же ему было безразлично. Большинство ощущений и чувств ни приятны, ни неприятны. Мы лишь в исключительных случаях вообще обращаем на них внимание. Это относится к трепету, дрожи, пылу, а также и к покалыванию. Поэтому, хотя и правомерно описывать то, что почувствовал человек, как трепет удовольствия или, более конкретно, как колики смеха, правомерен также и вопрос, получил ли он удовольствие только от шутки или же еще и от колик смеха, вызванных этой шуткой. И нам не следует удивляться, услышав в ответ, что шутка рассмешила его до такой степени, что ощущение от этих колик было очень неприятным; или услышать от другого человека, кричавшего от горя, что этот крик сам по себе был ему слегка приятен. В четвертом разделе этой главы я обсуждал два основных мотива ошибочной классификации настроений в качестве чувств. Мотивы, по которым «наслаждение» относят к словам, обозначающим чувства, аналогичны, хотя не идентичны, поскольку получение наслаждения не является настроением. Можно только быть или не быть в настроении наслаждаться чем-нибудь.
Сходные соображения, которые нет необходимости здесь подробно развивать, показали бы, что слова «неприятность», «нужда» и «желание» не обозначают приступов боли, зуда или терзаний. (Следует упомянуть, что слово «боль» в том его смысле, в каком я чувствую боли в животе, не противоположно «удовольствию». В этом смысле боль – это только лишь особого рода ощущение, испытывать которое мы, как правило, не любим.)
Таким образом, приязнь и неприязнь, радость и горе, вожделение и отвращение не являются «внутренними» эпизодами, свидетелем которых может быть только их обладатель, но не окружающие его люди. Они вообще не эпизоды, а значит, не относятся к тому сорту вещей, которые могут наблюдаться или не наблюдаться. Разумеется, человек обычно, хотя и не всегда, может сходу, не раздумывая, сказать о том, нравится ему что-то или нет, а также о том, в каком настроении он пребывает в данный момент. Но то же самое могут сделать и его собеседники при условии, что он откровенен с ними, а не кривит душой. Если же он не откровенен ни с ними, ни с самим собой, то и ему, и окружающим придется предпринять известное исследование, чтобы выяснить истинное положение вещей, причем в этом деле его собеседники имеют больше шансов на успех, нежели он сам.
(7) Критерии мотивов
До сих пор я доказывал, что объяснять совершение действия на основе определенного мотива следует не некой таинственной причиной, но подведением его под некоторую предрасположенность или линию поведения. Но этого еще недостаточно. Примем эту формулу для объяснения действия на основе привычки, инстинкта или рефлекса, но будем отличать от этих действий, совершаемых автоматически, действия, совершенные, скажем, из тщеславия или привязанности. Я воздержусь от попытки указать на те критерии, опираясь на которые мы обычно заключаем, что человек сделал что-то не в силу привычки, а по определенному мотиву. Но не следует думать, что эти два типа действий отличаются друг от друга, как день от ночи в экваториальных странах. Они незаметно переходят один в другой, как английский день переходит в английскую ночь. Доброта незаметно переходит в учтивость сквозь сумерки предупредительности, а учтивость, в свою очередь, незаметно переходит в вышколенность сквозь сумерки этикета. Вымуштрованность ревностного вояки – не совсем то же самое, что выучка просто исполнительного солдата.
Когда мы говорим, что некто действует определенным образом исключительно в силу привычки, мы отчасти имеем в виду, что при подобных обстоятельствах он всегда действует одинаково; что он действует так вне зависимости от того, обращает ли он внимание на то, что делает, или нет; что его не заботит то, что он делает, и он не стараться исправить или улучшить свои действия; а также что он может делать это, совершенно не отдавая себе отчета в совершаемом. Подобные действия часто метафорически называют «автоматическими». Автоматические привычки часто вырабатываются нарочито интенсивной муштрой и могут быть искоренены аналогичными контрмерами.
Но когда мы говорим, что некто действует определенным образом, идя на поводу у своих амбиций или же руководствуясь чувством справедливости, то мы подразумеваем, что такое действие совершается отнюдь не автоматически. В частности, мы предполагаем, что действующий так или иначе обдумывал или следил за тем, что он делал, и не стал бы делать этого так, как сделал, если бы прежде не продумал свои действия. Но точный смысл выражения «обдумал свои действия» все-таки до конца неуловим. Конечно, я могу, взбегая по лестнице, по привычке прыгать сразу через две ступеньки, одновременно отдавая себе в этом отчет и даже отслеживая, как это происходит. Я могу наблюдать за своими привычными и рефлекторными действиями и даже диагностировать их, и все же эти действия не перестают быть автоматическими. Хотя известно, что такого рода внимание иногда нарушает автоматизм.
И наоборот, мотивированные действия все же могут быть наивными в том смысле, что действующий не соединяет, а возможно, и не может соединить свое действие с последующим рассказом себе самому или окружающим о там, что и почему он делает. На самом же деле, даже если человек комментирует свое действие про себя или вслух, эта вторичная операция комментирования обычно сама бывает наивной. Он же не может комментировать свои комментарии и так далее ad infinitum. Смысл, в котором человек размышляет над тем, что делает – когда его действие должно классифицироваться не как автоматическое, но как мотивированное, – заключается в том, что он действует более или менее внимательно, критически, последовательно и целеустремленно. Данные наречия обозначают не предшествующее или сопутствующее осуществление неких дополнительных операций принятия решения, планирования или обдумывания, но только лишь то, что данное действие совершается не бессознательно или безотчетно, но в определенной позитивной установке сознания. Описание такой структуры сознания не нуждается в ссылке на какие-либо иные эпизоды, кроме самого действия, хотя оно не исчерпывается такой отсылкой.
Короче говоря, класс действий, совершенных мотивированно, совпадает с классом действий, описываемых как более или менее осознанные. Любое мотивированное действие может быть оценено как сравнительно разумное или бестолковое и vice versa. К действиям, совершаемым исключительно в силу привычки, не относятся характеристики разумности или глупости, хотя само действующее лицо, конечно, может выказать свое здравомыслие или глупость тем, что приобрело или не искоренило данную привычку.
Но это ставит нас перед следующей проблемой. Два действия, совершенных по одному и тому же мотиву, могут обнаружить различные степени навыка, а два похожих действия, демонстрирующие одинаковую степень навыка, могут быть совершены исходя из разных мотивов. Любить греблю еще не значит достичь в ней совершенства или мастерства, а из двух в равной степени искусных гребцов один занимается греблей из спортивного интереса, а другой для здоровья или чтобы прославиться. То есть способности, сообразно с которыми совершаются поступки, суть персональные характеристики иного рода, нежели мотивы или наклонности, на основании которых они совершаются; а мы отличаем действия по привычке от неавтоматических действий, базируясь на том факте, что последние суть одновременное проявление обеих характеристик. Поступки, совершаемые полностью безотчетно, совершаются без какого-либо методам каких-либо разумных оснований, хотя они могут быть весьма эффективными и сложными по процедуре исполнения.
Приписывая человеку какой-либо специфический мотив, мы очерчиваем круг действий, которые он склонен совершать или вызывать; приписывая ему определенную компетенцию, мы описываем те методы и их эффективность, с которыми он эти действия совершает. Это различие между намерениями и техникой исполнения. Более употребительное выражение «цели и средства» часто вводит в заблуждение. Если человек отпускает саркастическую шутку, то сам этот поступок невозможно разделить на составные части, тем не менее, суждение о том, что он сделал это из ненависти, все же отличается от суждения, что это было сделано мастерски.
Уже Аристотель понимал, что, говоря о мотивах, мы говорим о диспозициях определенного рода, отличного от навыков; он также осознавал, что любой из мотивов в отличие от любого навыка является склонностью, о которой можно сказать, что в данном человеке при данном раскладе его жизни этот мотив является очень сильным, очень слабым либо не является ни слишком сильным, ни слишком слабым. Он, по-видимому, считал, что, оценивая моральные достоинства и недостатки поступков в отличие от технических умений, мы высказываем мнение о чрезмерной, надлежащей или неадекватной силе наклонностей, проявлением которых они служат. Нас здесь не интересуют ни сами этические вопросы, ни вопросы о природе этических вопросов. Для нашего исследования важен тот факт – Аристотель считал его первостепенным, – что относительная сила наклонностей изменчива. Изменения в окружающей обстановке, в круге общения, в состоянии здоровья и возрасте, критика со стороны и ее уроки – все это может видоизменить баланс сил между наклонностями, определяющими одну из сторон человеческого характера. Но этот баланс может изменить и озабоченность им самого человека. Он в состоянии обнаружить, что слишком любит слухи или же недостаточно внимателен к заботам ближних, и он может, хотя в этом нет особой нужды, развить в себе дополнительные наклонности, чтобы усилить слабые и ослабить некоторые свои сильные склонности. Он даже может занять не просто академически-критическую позицию, но действительно изменить свой характер. Разумеется, его новый вторичный мотив, направленный на обуздание первичного мотива, все же может диктоваться благоразумием или экономическими выгодами. Амбициозный хозяин гостиницы может усердно вырабатывать в себе уравновешенность, рассудительность и честность единственно из желания увеличить свой доход, а его приемы самодисциплины могут быть эффективнее приемов, к которым прибегает человек более возвышенных идеалов. Как бы то ни было, в случае с таким хозяином имелась одна наклонность, сравнительная сила которой vis-a-vis с другими была оставлена без критики и регулирования, а именно само его желание разбогатеть. Наверное, этот мотив, хотя это и необязательно, был слишком силен в нем. А если это так, то мы могли назвать его «практичным», но нам не следует называть его еще и «мудрым». Обобщим этот момент: частично то, что подразумевается, когда говорят о какой-либо наклонности, что она очень сильная в данном человеке, заключается в том, что человек склонен действовать под влиянием такой наклонности даже тогда, когда он намерен ослабить в себе данную склонность, умышленно действуя иначе. О человеке можно сказать, что он раб никотина или предан некой политической партии, в том случае, если он никак не может взять себя в руки и предпринять достаточно серьезные шаги, которые только и позволят ослабить такого рода мотивы, хотя он и развил в себе вторичную наклонность на их ослабление. То, что здесь описано, составляет часть того, что обычно называют «самоконтролем», а когда то, что обычно ошибочно называют «порывом», становится непреодолимым и потому не поддающимся контролю, будет тавтологией сказать, что оно чрезмерно сильно.
(8) Основания и причины действий
Выше я утверждал, что объяснять какое-то действие на основе определенного мотива или наклонности не означает описывать это действие в качестве следствия некой определенной причины. Мотивы – не события и потому не могут быть причинами в их правильном понимании. Выражения относительно мотивов относятся к законоподобным утверждениям, а не сообщениям о событиях.
Но тот общий факт, что человек предрасположен действовать так-то и так-то при таких-то и таких-то обстоятельствах, сам по себе объясняет его конкретное действие в конкретный момент не больше, чем факт хрупкости стакана объясняет то, что он разлетелся на осколки в 10 часов пополудни. Как удар камня в 10 часов стал причиной того, что стакан разбился, так и антецедент действия становится причиной или служит поводом для человека сделать то там и тогда, что, где и когда он это делает. Например, человек из вежливости передает своему соседу соль; но эта его вежливость – просто склонность к передаче соли тогда, когда это требуется, точно так же как вообще оказание тысячи других любезностей подобного рода. Так что кроме вопроса «исходя из каких оснований он передал соль?» можно задать существенно иной вопрос, «что заставило его передать соль в данный момент данному соседу?» На этот вопрос, вероятно, могут быть даны следующие ответы: «он услышал, что сосед попросил его об этом», или «он заметил, что его сосед что-то ищет взглядом на столе», или что-нибудь в таком же роде.
Всем нам хорошо известны такие ситуации, в которых людям приходится или случается что-то делать. Если бы это было не так, то мы не смогли бы добиться от них того, что нам нужно, а значит, и повседневные отношения между людьми не могли бы существовать. Покупатели не могли бы покупать, офицеры не могли бы командовать, друзья не могли бы общаться, а дети – играть, если бы не знали, как поступать самим и добиваться чего-то от других при том или ином стечении обстоятельств.
Цель, которую я преследую, упоминая все эти важные тривиальности, двойная: во-первых, чтобы показать, что наличие у действия причины не только не противоречит наличию у него мотива, но мотив уже содержится в условной посылке гипотетического высказывания, утверждающей о мотиве; во-вторых, чтобы продемонстрировать то обстоятельство, что, как бы нам ни хотелось услышать о таинственных или призрачных причинах человеческих поступков, мы уже знаем о тех общеизвестных и, как правило, общедоступных ситуациях, которые вынуждают людей действовать определенным образом в определенное время.
Если бы доктрина о духе в машине была истинной, то люди были бы не только абсолютно загадочны друг для друга, но и абсолютно не могли бы воздействовать друг на друга. Но на самом-то деле они сравнительно податливы на воздействия и относительно легко понимаемы.
(9) Заключение
Существуют два совершенно разных смысла слова «эмоция», сообразно с которыми мы и объясняем человеческое поведение, если при этом нужно ссылаться на эмоции. В первом смысле мы указываем на мотивы или наклонности, исходя из которых, совершаются более или менее осознанные действия. Во втором смысле мы ссылаемся на настроения, включая сюда возбуждения или смятения, признаками которых служат некоторые безотчетные движения. Ни в одном из этих смыслов мы не утверждаем и не подразумеваем, что внешнее поведение – это результат некоего вихря турбулентностей в потоке сознания действующего человека. В третьем смысле слова «эмоция» муки совести и приступы боли являются чувствами или эмоциями, но они не могут, разве что per accidens, быть тем, ссылаясь на что мы объясняем поведение. Они сами нуждаются в диагностике, а потому не могут быть вещами, потребными для диагностики поведения. Импульсы, описываемые как подстегивающие действия чувства, являются парамеханическими выдумками. При этом имеется в виду не то, что люди никогда не действуют импульсивно, но лишь то, что мы не должны принимать на веру традиционные рассказы о таинственных предпосылках как умышленных, так и импульсивных действий.
Следовательно, несмотря на то, что описание высших уровней поведения людей, конечно же, нуждается в упоминании об эмоциях в первых двух смыслах, это не влечет за собой заключений к таинственным внутренним состояниям или процессам. Обнаружение мною ваших мотивов и настроений не похоже на не поддающийся проверке поиск воды с помощью прутика лозы; частично оно подобно моим индуктивным выводам о ваших привычках, инстинктах и рефлексах, частично – моим заключениям, касающимся ваших болезней и вашей манеры опьянения. Но при благоприятных обстоятельствах я распознаю ваши наклонности и настроения и более прямым образом. Во время обычной беседы я слышу и понимаю ваши признания, ваши восклицания и интонации голоса, я вижу и понимаю ваши жесты и выражение лица. Я говорю «понимать», не вкладывая в это слово какого-то метафорического смысла, ибо даме восклицания, интонации, жесты и мимика – это способы общения. Мы учимся воспроизводить их пусть не путем заучивания, но путем имитации. Мы знаем, как пристыдить кого-нибудь, применяя все это; до известной степени мы знаем, как избежать самораскрытия, прячась под масками. Не только чуждые языки создают сложности при понимании иностранцев. Мое исследование собственных мотивов и настроений принципиально не отличается от общей ситуации, хотя моя позиция плоха, чтобы видеть собственные гримасы и жесты или слышать интонации своего голоса. Мотивы и настроения не относятся к тому типу явлений, которые могли бы быть среди прямых свидетельств о работе сознания или же в числе объектов интроспекции, как эти фиктивные формы Привилегированного Доступа обычно описываются. Они не являются «переживаниями», во всяком случае, не больше, нежели «переживаниями» являются привычки или болезни.
Глава V. Диспозиции и события
(1) Предисловие
Я уже имел возможность указать на то, что некоторые слова, с помощью которых мы обычно описываем и объясняем человеческое поведение, обозначают диспозиции, а не эпизоды поведения. Например, сказать, что человек что-то знает или к чему-то стремится, вовсе не означает, что он в определенный момент что-то делает или подвергается какому-то действию; нет, тут утверждается только то, что он способен в случае необходимости сделать некоторые вещи или что он в определенных ситуациях склонен делать и чувствовать определенные вещи.
Само по себе данное обстоятельство вряд ли является чем-то большим, нежели заурядный факт обыкновенной грамматики. Глаголы типа «знать», «обладать», «стремиться» ведут себя не так, как глаголы «бежать», «просыпаться», «чесаться». Например, мы не можем сказать «Он знал это в течение двух минут, потом перестал знать, а отдохнув, стал знать снова» или «Он понемногу надеялся стать епископом» или «Сейчас он вовлекся в процесс владения велосипедом». Описание в диспозициональных терминах не связано с особенностями именно человеческого поведения. Мы используем подобные термины, говоря о животных, насекомых, кристаллах и атомах. Мы постоянно хотим говорить не только о том, что действительно произошло, но и о том, что, скорее всего, должно произойти; мы хотим не только сообщать о происшествиях, но и объяснять их; не только рассказывать, что сейчас происходит с предметами, но и о том, как с ними можно обращаться. Вообще, когда мы утверждаем, что данное слово обозначает диспозицию, мы всего лишь говорим, что оно не используется для описания эпизодов. Но существует множество разновидностей диспозиционных слов. Хобби – это не то же, что привычки, но и то, и другое отличается от навыков, манер, мод, фобий и профессий. Свойство «вить гнезда» отличается от свойства «быть пернатым», а свойство «проводить электричество» отличается от свойства «быть эластичным».
Тем не менее, указание на то, что многие важнейшие понятия, с помощью которых мы описываем именно человеческое поведение, являются диспозициональными, имеет вполне определенную цель. Дело в том, что засилье парамеханической модели мешает видеть специфику этих понятий и побуждает вместо этого толковать их как описания особых таинственных причин и действий. Предложения, содержащие такие диспозициональные слова, интерпретируются как сообщения об особых, неуловимых обстоятельствах, тогда как их можно понимать как проверяемые, открытые, гипотетические утверждения, которые я еще называю «полугипотетическими». Физика уже избавилась от старого греха – рассмотрения понятия «сила» как обозначения для таинственного действующего начала; аналоги такого начала еще не до конца изгнаны из биологии и благополучно здравствуют во многих теориях сознания.
Важность этого момента невозможно переоценить. Словарь, используемый нами для описания именно человеческого поведения, состоит не только из диспозициональных слов. Судьи, учителя, писатели, психологи и обыкновенные люди, говоря о том, что делают или должны делать другие люди, используют также большой набор слов для обозначения эпизодов. Последние слова не менее разнообразны по своим типам, чем диспозициональные. Мы еще увидим, как забвение некоторых из этих различных типов благоприятствовало представлениям о ментальном, как о призрачном и, наоборот, допущение таких призрачных сущностей способствовало забвению различий между типами слов. Далее в этой главе я собираюсь обсудить два основных типа слов, обозначающих ментальные эпизоды. Но этим я не утверждаю, что их не может быть больше.
(2) Логика диспозициональных утверждений
Когда говорят, что корова – жвачное животное, или что человек – курильщик, вовсе не имеют в виду, что корова жует, а человек курит непосредственно в данный момент. Быть жвачным означает иметь обыкновение жевать; точно так же как быть курильщиком – значит иметь обыкновение курить.
Тенденция жевать и привычка курить не существовали бы, если бы не было таких процессов или эпизодов, как жевание или курение. «Он сейчас курит» значит не то же самое, что «Он – курильщик». Но если бы первое суждение не было иногда истинным, не могло быть истинным и второе. Словосочетание «курить сигареты» используется для описания как эпизодов, так и, производным образом, тенденций. Но не все слова имеют такое двойное использование. Есть много выражений, описывающих тенденции и способности, которые нельзя использовать в сообщениях об эпизодах. Мы можем сказать про какую-то вещь, что она эластична; однако, когда нам надо описать, в каких реальных событиях это проявляется, мы используем другое слово и говорим, что она сжимается после растягивания, распрямляется после сдавливания или пружинит при надавливании. У нас нет активного глагола, соответствующего свойству «эластичный», подобно тому как «жует» соответствует свойству «жвачное». Причину такого различия найти нетрудно. Существует целый спектр реакций, которых мы ожидаем от эластичного объекта, тогда как от жвачного животного мы ожидаем только одного определенного поведения. Подобным образом, существует целый ряд различных действий и реакций, которых можно ожидать на основании того, что некое лицо описывается как «жадина», тогда как на основании описания кого-то как курильщика мы можем ожидать только одного способа поведения. Короче говоря, некоторые диспозициональные слова являются очень общими и неопределенными, тогда как другие являются очень специфичными и определенными. Глаголы, с помощью которых мы описываем различные проявления общих тенденций, способностей и склонностей могут отличаться от глаголов, с помощью которых мы обозначаем диспозиции, тогда как обозначающие эпизоды глаголы и глаголы, употребляющиеся как очень специфические диспозициональные глаголы, могут быть одними и теми же словами. Пекарь может сейчас печь, но бакалейщик не может сейчас «бакалейничать»: он может только продавать сейчас сахар, развешивать чай или заворачивать масло. Существуют и промежуточные случаи. Так, мы без всяких угрызений совести говорим, что врач сейчас кого-то лечит (врачует), хотя не будем говорить, что поверенный сейчас «поверяет», но скажем, что он защищает сейчас своего клиента.