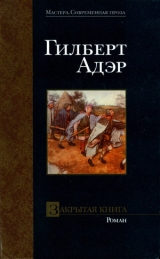
Текст книги "Закрытая книга"
Автор книги: Гилберт Адэр
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
– Это все?
– Все.
– И сколько же слов? Около тысячи, мне кажется. Нет, тысяча двести.
– Одна тысяча девяносто два.
– Неплохо, неплохо. За одно утро – совсем неплохо. Есть, правда, повтор: «дивится» и «удивительный», но мы это уберем. Ваше впечатление?
– По-моему, хорошо.
– По-вашему, значит, хорошо?
– Угу.
– Отчего же тогда мне мерещится в конце вашей фразы еле заметный вопросительный знак, который, однако, поставлен там, как выразился бы полицейский чин, вполне умышленно?
– Да нет. По-моему, правда хорошо. Очень хорошо.
– Бросьте, Джон.
– Что именно?
– Каково на самом деле ваше мнение?
– Ну, если вы настаиваете… Этот кусок, мне показалось… гм… не знаю, как поточнее выразиться… Он явно… он больше отдает журналистикой, что ли, чем предыдущая часть книги.
– И куда вы клоните?
– Вот я и подумал, не…
– Выкладывайте же!
– Подумал – то есть пока вы диктовали, – подумал, что вы, может быть, все же решили использовать ту статью, о которой уже шла речь, помните? Статью, которую вы написали для «Санди таймс». Про Диану. Внесли кое-где кое-какие изменения применительно к новому контексту, но суть осталась прежней. Я прав?
– Нет. Обедать будем?
* * *
Почему у меня радостно и легко на душе, когда Джона нет дома? Почему при нем я вечно чувствую себя не в своей тарелке? О боже, хоть бы один старый друг нашелся! Идаженеобязательно близкий, но старый друг. Человек, для которого я не всегда был слепым уродом.
* * *
Посмотрим, посмотрим… где же?.. А, вот он. Так. Ну, это уж не бог весть как трудно. Дайте-ка… О, черт, ясное дело, заменили на эти проклятущие… Как же они называются?.. Как? Как? Как? Как они называются? Вот дьявольщина, слово вертится на языке, а не дается, – что твой… что твой чих, которого никак не дождешься. Как же эта хреновина называется? А, а, погодите… Кнопочный! Кнопочный телефон! Да, кнопочный… А ведь прежде как было просто набрать номер… и каждое движение было характерно только для телефона. Но нет, разумеется, никак невозможно оставить что бы то ни было в покое, все нужно переиначить, даже те редкие приборы, которые каким-то чудом еще работают. Ну, так, попробуем. Номер Эндрю, номер Эндрю, номер Эндрю. Неужели забыл? Нет, не может быть! Ну же! Вспоминай, вспоминай! Нашел время забывать! Погоди, погоди, 631 и что-то там… Гм… 631… 631… 631–3341! Так, теперь смотри не забудь. 631–3341. Ага, посмотрим, вот 1, а вот… вот 3… Значит, это 6. Прекрасно, стало быть, 631 нашли. Так… 3341… Так, так… вот 3… и еще раз… и 4, с другого боку… а теперь… ага… верно… тогда 1 прямо над 4. Так, все правильно. Прорепетируем. 6–3–1… ох, нет, это же 4… Нет-нет, это именно 1, именно 1… Давай сначала. 6–3–1, верно. Черт, а что после 1? 6–3–1–3–3–4–1. Так. 3–3–4–1. 3,3,4,1. 3,3,4,1. Есть. Теперь поехали! 6–3–1… черт, стоп! Ладно, спокойно, спокойно, главное – спокойствие… Итак, 6–3–1… гм… 3… и снова 3, 4–1. Et voilà [26]26
Вот те на (фр.).
[Закрыть]. Ничего не вышло.
– Вы неправильно набрали номер. Уточните и наберите снова.
– Что?
– Вы неправильно набрали но…
– Ладно, ладно. Так, сейчас проверим еще раз. 6 – да… 3 – да… 1 – да… снова 3 – да… вот 4…1. Все вроде бы верно. Итак. 6–3–1–3–3–4–1.
– Вы неправильно набрали номер. Уточните…
– Сука безмозглая! Почему этонеправильно? Ты что, своих номеров не узнаешь? 631–3341. В чем же тут закавыка, черт побери?
Ах да. Это же Лондон. Ну конечно, Лондон – в этом все дело. Код 0171! 0171–631–3341! Ну-с. О господи, куда, на хрен, делась семерка? Постой. 1–2–3… следующий ряд: 4–5–6… потом 7. Точно под 1, только двумя рядами ниже. Так. 0–1–7–1–6–3–1–3–3–4–1. И снова ничего. 0–1–7–1… э, э… 6–3–1–3–3–4–1.
Ага, наконец-то.
– Не вешайте, пожалуйста, трубку, ждите ответа. Ваш абонент знает, что вы ждете соединения.
– И что теперь?
– Не вешайте, пожалуйста, трубку, ждите ответа. Ваш абонент знает, что вы ждете соединения.
– Да-да, милая, я и в первый раз все услышал.
Погодите, погодите. Мне кажется… Мне кажется, я знаю, что это такое. Это… это… как бишь ее… Автоматическая служба распределения вызовов. Во-во. Очередная бесполезная новинка. И зачем все это придумывают? А интересно, что произошло бы, что произошло бы, если б я набрал собственный номер? Что? А вот увидишь. Сначала мне сообщат: «Не вешайте, пожалуйста, трубку, ждите ответа. Ваш абонент знает, что вы ждете». Потом… Потом, да, звонят-то ведь мне, так что я услышу, как меня соединяют. А после? Меня соединят со мной же? Ха!
Постой, постой-ка… Проклятие! Не надо было вешать трубку, в конце концов кто-нибудь да ответил бы. Так ведь положено делать, верно? Не вешать трубку, да? Начинаем сначала. 6–3–1… нет, черт подери, нет… Сначала: 0–1–7–1–6–3–1–3–3–4–1.
– Не вешайте, пожалуйста, трубку, ждите ответа. Ваш абонент знает, что вы ждете соединения.
– Угу.
– Не вешайте, пожалуйста, трубку, ждите ответа. Ваш абонент…
– Алло?
– Я хочу поговорить с Эндрю Боулзом.
– С кем, простите? Эндрю… как дальше?
– С Эндрю Боулзом.
– Извините, здесь таких…
– Не дурите. Он, знаете ли, всего лишь глава агентства.
– Ничего подобного.
– Нет, именно так – глава агентства.
– А я говорю, нет. И объясню почему. Потому что это квартира. А ты – уж не знаю, кто ты там есть, – ты козел.
* * *
– Господи боже ты мой! Чем я такое заслужил?
Может, я перепутал номер? 631–3341. 631–3341.
Нет! 631– 4331.631–4–3–3–1. Вот теперь вспомнил. 631–4331. Бог ты мой, после всего этого, Эндрю, после всего этого лучше тебе быть на месте, черт бы тебя драл. Ну, поехали. 0–1–7–1–6–3–1… постой, постой… 4–3–3–1.
– Алло! Агентство «Боулз и Уитмор». Могу я вам чем-нибудь помочь?
– А! Да, будьте добры, я хотел бы поговорить с Эндрю Боулзом.
– Соединяю.
– Алло! Секретарь мистера Боулза слушает.
– Мне Эндрю, пожалуйста.
– А вы по какому вопросу?
– По личному делу. Соедините с ним, и все тут.
– Простите, но, боюсь, мне придется…
– Повторяю, вопрос у меня личный. Не беспокойтесь. Эндрю будет рад поговорить со мной.
– И тем не менее. Прежде чем побеспокоить мистера Боулза, мне необходимо…
– Последний раз говорю, Эндрю охотно возьмет трубку. Только делай, что тебе сказано, и не вы… не выдрючивайся.
* * *
– Как передать, кто звонит?
– Ох-хо-хо. Знаете что, скажите, одна персона, лицо с громким именем из его прошлого. Нет-нет, погодите. Скажите… скажите… это призрак, у чьих ног он когда-то сидел.
– Не вешайте трубку. Я узнаю, может ли он подойти к телефону.
– Пол? Пол? Неужели это правда ты?
– Привет, Эндрю.
– Бог мой, и в самом деле ты! Как ты, Пол?
– Ну, как… Да так, знаешь ли, как есть.
– Пол, это потрясающе! Никак не могу поверить, что там, на том конце, и впрямь ты! Боже мой, с ума сойти – столько лет прошло!
– Четыре года, Эндрю.
– Четыре года. Гм-м. Но это немало, очень немало. А ты, старый чертяка, ни на йоту не изменился. Во всяком случае, твоя манера говорить по телефону не изменилась ничуть. Уверен, тебе будет приятно слышать, что одна секретарша у меня на грани нервного срыва. Не представляю, что ты ей наговорил. Вернее, вполне могу себе представить. Ах ты чертяка!
– Уверяю тебя, я отнюдь не выходил за пределы свойственных мне любезности и рассудительности.
– Ну, само собой! Да ладно, какое все это имеет значение? Главное, что ты тут и через столько лет звонишь так, словно… Прямо не могу успокоиться!
– Времени, Эндрю, и впрямь прошло много. Для меня оно, подозреваю, тянулось дольше, чем для тебя.
– Может быть, может быть. Но знаешь, Пол, я ведь пытался тебе дозвониться. То есть… надеюсь, тебе это известно. Что я несколько раз тебе звонил. Сразу после…
– Знаю, Эндрю, знаю и… Ну, скажем так: хотя я и не стал с тобой разговаривать, я был очень тронут тем, что ты звонил. Вообще говоря, меня бы глубоко задело, если бы ты не позвонил. Просто в то время, как ты можешь себе представить…
– Да, еще бы. Прекрасно представляю, старина. И… гм… не собираюсь сейчас поднимать эту тему, потому что уверен, ты меньше всего склонен разговаривать об этом. Но я просто хотел, чтобы ты знал: я… как бы сказать? Все эти четыре года я часто о тебе думал. И Джейн тоже, я точно знаю.
– Спасибо, Эндрю, я тебе очень признателен…
– Извини, Пол. Можешь подождать секундочку? Да, да, я знаю. Послушайте, запишите его телефон и скажите, что я ему перезвоню, как только освобожусь. Да, и еще вот что, Дарайя, пожалуйста, не соединяйте со мной никого, хорошо? Извини, Пол, так о чем мы говорили?
Пол?
– Я тебе очень признателен, сказал я, за то, что ты меня не забыл.
– Ну, разумеется, не забыл, это чистая правда. А как бы мне хотелось тебя еще и повидать. Конечно… конечно, я ведь не знаю, как тыотнесся бы к такому предложению.
– Я сейчас удивлю тебя, Эндрю: я тожебыл бы очень рад повидать тебя. Да. Возможно, как-нибудь вскорости мы с тобой посидим вдвоем, ты и я. Только не пойми меня превратно. Я вовсе не намекаю, чтобы ты назначил число прямо сейчас, так что не трудись листать свой… свой…
– Мой «филофакс»?
– Когда созрею, я тебе позвоню. Если можно.
– Если можно?! Да непременно! Я решительно настаиваю на этом, дружище! И Джейн тоже. Я знаю, Джейн жаждет снова тебя увидеть.
– Да, Эндрю, возможно, она так в самом деле думает. Но теперь, знаешь ли, смотреть на меня не очень-то приятно.
– А ты и раньше не блистал красотой, старина. Слушай, Пол, я отношусь к твоим словам очень серьезно. И прекрасно тебя понимаю. Торопиться тут не надо, а вот когда настроишься… Я имею в виду, когда настроишься снова встретиться с некоторыми старыми и близкими друзьями – ну, ты же меня понимаешь, – только позвони. Кстати…
– Да?
– А сейчас-то? Ты ведь сам позвонил, правда? То есть сам набрал номер, да?
– Да. После нескольких неудачных попыток.
– Замечательно, Пол! Просто замечательно! И это только начало, вот увидишь! То ли ты еще сотворишь, если приложишь свой недюжинный ум!
– Не исключено. Однако же не забудь и другое обстоятельство: безглазие, если так можно выразиться, – болезнь неизлечимая. Следовательно, все мои усилия заведомо ограничены определенными рамками.
– Но эти рамки гораздо шире, чем тебе представляется сейчас, старина.
– Может быть, может быть. Во всяком случае, Эндрю, я действительно нуждался в таком жутком многолетнем одиночестве. Сначала надо было пройти через это, а уж потом начинать думать, как жить дальше.
– Понимаю, понимаю.
– Это немного напоминает игру в теннис, когда побеждаешь в одном сете. Все силы кладешь на этот сет, в конце концов выигрываешь его, и – опять все с нуля. Причем я не придаю своим словам никакого уничижительного смысла, но ведь приходится начинать все с самого начала. Понимаешь, о чем я?
– Еще бы, Пол, еще бы. И я очень рад, что… что период приспособления к новым условиям у тебя, видимо, подходит к концу. Скажу тебе прямо, Пол: да, верно, я не знаю, как ты выглядишь, но разговариваешь ты, вне всяких сомнений, точно так же, как в лучшие свои годы.
– Спасибо. А еще хочу поблагодарить тебя, Эндрю, за то, что ты относишься ко мне без всякого снисхождения. Хотя, конечно, в твоем голосе я все же уловил едва заметную напряженность, призвук смущения от такого прямого, намеренно жесткого разговора. Или я не прав? Так или иначе, я тронут, глубоко тронут.
– Милостивый боже, от тебя ничто не ускользнет. Как я вижу, ты по-прежнему необычайно чуток. Если не ошибаюсь, именно ты однажды сформулировал, что такое писатель, назвав его коллекционером, этаким энтомологом нюансов. Верно?
– Однажды? Неоднократно, Эндрю, неоднократно.
– И тут сам собой напрашивается… Рискнуть, что ли, спросить тебя?
– О чем?
– Нет ли у тебя, случайно, новой книги на подходе?
– Ну, Эндрю, раз уж ты рискнул спросить, отвечаю: есть.
– Есть? Это просто замечательно, Пол! Вот так новость! До чего же я рад, не могу тебе передать! И волнуюсь, предвкушая удовольствие! Рад за тебяи волнуюсь, предвкушая своеудовольствие!
– Вообще-то есть из-за чего взволноваться, верно?
– Еще бы! Но поточнее – в каком она состоянии? На каком ты этапе? Это пока лишь задумка? Всего лишь огонек, мерцающий… ну… гм…
– Трудненько теперь со мной разговаривать, правда, Эндрю?
Короче говоря, не совсем так. Это уже нечто значительно большее, чем мерцающий где-то вдали огонек.
– Господи, до чего интересно! Роман, надо полагать?
– Нет. Нет, в общем-то не роман.
– Не роман?
– Пожалуй, сие произведение придется обозначить как автобиографические мемуары.
– Еще лучше! Еще лучше! Ведь давно, много лет назад, Пол, я уговаривал тебя написать автобиографическую книгу, помнишь?
– Да, только…
– Честное слово, просто ушам своим не верю. А название уже есть?
– «Закрытая книга».
– Как, прости?
– «Закрытая книга». Такое заглавие: «Закрытая книга».
– Ох, Пол…
– Тебе не нравится?
– Не нравится?! Да я в восторге! В вос-тор-ге. «Закрытая книга» – гениально! И знаешь… знаешь, Пол, я уже прямо-таки вижу обложку. Послушай. И скажи свое мнение. Закрытая книга – я имею в виду, на суперобложке будет изображена закрытая книга… а на супере этой книги, то есть книги на обложке, будет изображена еще одна закрытая книга… естественно, поменьше размером, а на обложке той, что поменьше, еще одна закрытая книга и так далее – ad infinitum [27]27
до бесконечности (лат.).
[Закрыть]!
– Увы, лишь потенциально, Эндрю.
– Что потенциально?
– Лишь потенциально ad infinitum.
– Педант! Ты всегда был педантом!
– И горжусь этим.
– Так ты не считаешь, что обложка получится изумительная?
– Ну-ну, не будем слишком увлекаться. Написать предстоит еще очень много, гораздо больше, чем уже написано.
– Уже что-то написано?
– Ну да.
– Ты уже начал работу?
– Разумеется.
– Пол, мне обидно это слышать.
– Да перестань.
– Нет, правда, Пол, очень обидно.
– Что ты такое несешь?
– Почему я только сейчас впервые слышу об этом новом потрясающем творении?
– Постой, не шуми, Эндрю, лучше признайся откровенно: ты же сам отлично знаешь, что мои книги интересуют тебя только в законченном виде. Когда на них можно сделать деньги.
– Ложь, наглая ложь. Мне интересно все, что ты делаешь, независимо от того, заработаю я на этом или нет. Просто так уж получается, что твои книги всегда приносят прибыль.
– Ха! Надеюсь, ты не собираешься делать вид, что прочел хоть один из моих романов? Целиком, от корки до корки?
– Что?! Ну, знаешь, Пол, я даже считаю ниже своего достоинства отвечать на такой бессовестный поклеп.
– Я ведь знаю тебя не первый день. Ты получаешь десять процентов от моих гонораров и читаешь десять процентов каждой моей книги. Максимум.
– Снова ложь! Ах ты чертяка! Не изменился ничуть. Но послушай, послушай. Даже если я признаю твою правоту – хотя я, заметь себе, ни на секунду ее не признаю, – ну ладно, пусть, просто для интереса, чтобы продолжить наш разговор, – все равно можно же было мне намекнуть о своих планах?
– Вообще говоря, Эндрю, я пытался до тебя дозвониться пару недель назад.
– И почему же мы с тобой так и не поговорили?
– Ты был в отъезде.
– Что? Уехал из конторы, что ли?
– Да нет, дальше. За границу.
– За границу? Когда, говоришь, ты пытался дозвониться?
– Да две-три недели тому назад.
– Ну, не знаю, Пол, с кем ты говорил и что тебе сказали, но теперь, когда у меня родился еще один ребенок, я не выезжал из страны с… гм… пожалуй, с прошлого года, когда смотался во Франкфурт.
– А как же кругосветное путешествие?
– Что-что?
– Кругосветное путешествие.
– Ах, если бы, старина!
– Что?!
– Пол, я отродясь не плавал вокруг света. Ни разу в жизни.
– Так ты не был в Гонконге? В Австралии? В Сан-Франциско?
– Нет, я действительно побывал во всех этих местах, но не в один вояж и к тому же давным-давно. Последний раз я ездил в Сан-Франциско вместе с тобой, помнишь? В тысяча девятьсот… по-моему, в тысяча девятьсот девяностом.
Пол?
Пол? Что случилось?
Пол, что это за звуки?
– Это чешуя отпадает от глазниц моих, Эндрю.
– От чего отпадает?
– А сейчас, Эндрю, я вешаю трубку.
– Пол! Пол, объясни мне, что происходит. Мне вдруг показалось, что ты…
– Прости меня. Мне надо идти. И пожалуйста, не пытайся связаться со мной. До свиданья, Эндрю.
– Пол?..
– До свиданья.
* * *
Как я мог быть настолько слеп! Да, именно слеп! Ведь теперь – Бог свидетель, так же как я свидетель Господу, – теперь я уже играю отнюдь не в словечки. До чего пошл сентиментальный миф, будто сохранившиеся у слепца органы чувств постепенно восполняют отсутствие зрения! Если бы какой-нибудь несчастный дикий зверь с бельмами на глазах проявил, как я, полное равнодушие к тревожным сигналам, то век его в этой юдоли слез был бы недолог. А ведь весь последний месяц такие сигналы сыпались градом! Я же оказался легковерным простаком. Ах, Джон Райдер, Джон Райдер, Джон Райдер! Я доверился вам, как сыну, как собственному блудному сыну. Ни один счастливый обладатель глаз не предоставил бы вам такой безграничной свободы действий. Я, безглазый слепец, открыл перед вами двери своего дома, а вы оскорбили меня, унизили и растоптали. Меня, слепого старика! За что? Ради всего святого, за что? Кто вы, Джон Райдер? Кто вы? Что вам от меня нужно? Может быть, вы просто садист, который еще ребенком с наслаждением обрывал мухам крылья, а теперь с не меньшим удовольствием мучает старых, слепых и немощных калек? Или вы надеетесь завладеть моими деньгами? Это невозможно, нелепо, бессмысленно. Должны же вы понимать, что, чем бы ни закончилась вся эта история, денег моих вам не видать как своих ушей. Но тогда – моя жизнь? Опять же, зачем? По какой мыслимой причине вам вздумалось отнять жизнь у одинокого беззащитного старика? О боже, не понимаю! Не понимаю! И – никого, к кому можно было бы обратиться с этой головоломкой. Ни единой души, кроме вас – негодяя, который с наслаждением обрывает крылья слепцу.
Что ж, так тому и быть, Джон Райдер. Раз уж только вы и можете пролить свет на эту загадку, значит, так тому и быть. Посмотрим, посмотрим, может, что и увидим.
* **
– А вот и вы.
– Ага.
– Купили все, что хотели?
– В конце концов купил. В Чиппинг-Кэмпдене это не просто. Я имею в виду, делать покупки.
– Неужели?
– У нас все в порядке?
– Ничего, сносно, сносно.
– А почему вы сидите в кабинете?
– Даже и не знаю. Вас ждал, наверное.
– Хотите, я сварю кофе?
– Да нет, разве только если вам хочется кофе.
– Я уже выпил в Чиппинг-Кэмпдене.
– Тогда за работу?
– Что-то случилось, Пол?
– Почему что-то должно случиться?
– Ладно. Включаю компьютер.
Напомнить вам, на чем мы остановились?
– Не трудитесь.
– Не надо?
– Нет. Видите ли, пока вас не было, мне в голову пришла одна мысль.
– А-а.
– Скажу без ложной скромности, мысль блестящая. Еще, честно говоря, не знаю, куда именно ее вставить… А впрочем, композиционно книга пока настолько рыхлая, что особой разницы нет – куда. Полагаю, так или иначе идея эта найдет себе место в общем замысле. Но я знаю наверняка: если уж появляется такая ценная мысль, ее надо пристроить как можно быстрее.
– Звучит интригующе.
– Надеюсь.
– Создать новый файл?
– Почему бы и нет? Это ведь и впрямь совсем новое направление в книге.
– И как мы его назовем?
– Знаете, Джон, я тут подумал, что как раз для этой части можно вернуться к заглавию, которое я отбросил пару недель назад. Помните, как я первоначально планировал озаглавить всю книгу? «Правда и последствия».
– Мысль хорошая. Тогда я назову файл просто «Последствия», хорошо? Если только вам не покажется, что такое название нелегко оправдать.
– Нет, нет. «Последствия»… что ж, прекрасное название. И, как вы сами увидите, очень подходящее.
– Отлично. Я его уже набрал. Готово, дело за вами.
– Хорошо. Начинаю… так.«Однажды Томас Манн»… Два «н», между прочим.
– Да, большое спасибо, Пол, по-моему, я это и раньше знал.
– «Однажды Томас Манн дал такое определение писателя» – двоеточие, откройте кавычки – «это человек, которому сочинять текст труднее, чем прочим людям». Закройте кавычки. «Всякому, а не только писателю, ясно, что он имеет в виду. Однако определения, афористичные определения, представляют собой нечто вроде самостоятельного литературного жанра, и одна из абсолютно непреложных особенностей этого жанра состоит в том, что такая максима должна обладать прелестным сочетанием несовместимых до парадоксальности свойств. Одним словом, должна ошеломлять». Пишется о-ше-лом-лять.
– Угу.
– «Рассмотрим дефиницию, предложенную Манном. В глубине души каждый из нас понимает: гораздо правильнее было бы сказать, что писатель – это человек, которому сочинять текст легче, чем прочим людям». «Легче» – курсивом. «Однако, если бы Манн дал такое определение, никто, естественно, не стал бы его цитировать». Точка. «И, честно говоря, поскольку перелопачивать пласты языка, создавая яркий парадокс, что и сделал Манн, неизмеримо труднее, чем попугайски повторять почти тавтологическую банальность, как в моем примере, то можно утверждать, что его определение – прекрасный, убедительный пример справедливости его слов». А, тут повтор. Замените в последнем случае «пример» на «иллюстрацию».
– Заменил.
– Диктую дальше. «А главное, всякий раз, когда писатель дает определение понятию «писатель», он неизбежно дает определение самому себе» – тире, – «причем не в общевидовом, а в чисто субъективном плане. Следовательно, дефиниция Манна заведомо неприменима к Генри Джеймсу» – точка с запятой – «равно и определение, относящееся к Генри Джеймсу, едва ли применимо, скажем, к Рональду Фербенку» – Фер-бен-ку, через «е», – «а определение Рональда Фербенка – ко мне».
– Поставить еще одну точку с запятой? После «Фербенку», перед «а»?
– Я скажу вам, когда нужно будет поставить точку с запятой.
– И какой же тогда знак?
– Я знака не назвал, значит, не хочу там никакого знака. Ни точки с запятой, ни двоеточия, ни запятой. Надеюсь, ясно?
– Пол, но ведь…
– Диктую дальше. «Возьмем мой собственный случай. Я слеп. Я не только слеп, у меня нет глаз. Поэтому…»
– Пол?
– Что теперь?
– Гм… просто… Ну, я просто подумал, может, стоит напомнить вам, что самое первое предложение, которое вы мне продиктовали для книги, было: «Я слеп».
– И что?Как вы полагаете , что из того?
– У вас тут повтор, вот и все. Вы же обычно очень суровы к повторам. Я подумал, вы, может, не заметили. Или забыли.
– Вы не были уверены, заметил ли я, что слеп? Не забыл ли я, что слеп? Так вы изволили подумать?
Отвечайте. Вы это хотели сказать?
– Вы сами знаете, что совсем не это.
– Ничего я такого не знаю.
– Я всего лишь сказал, что вы повторяетесь. Наверное, я не гожусь в литературные критики, но просто я подумал, что стоит указать на этот повтор. Только и всего.
– Вы правы.
– Ну спасибо.
– В литературные критики вы не годитесь.
Да как вы смеете?! Как вы смеете советовать, что мне писать и чего не писать в моей собственной книге?! Как вы смеете «напоминать» мне – мне! – что я повторяюсь! Повторяюсь? Как будто повтор, преднамеренный повтор не входит в число древнейших, освященных литературной традицией стилистических тропов, к которым может прибегнуть писатель. «Ты меня оставил, Джеми, ты меня оставил» – сними повторяющуюся фразу «ты меня оставил», зануда Бернс, ты, дилетант отъявленный, бездарь несчастная, неужто сам не видишь, что повторяешься?! Вы забываетесь, Райдер. Мне, конечно, неизвестно, какой именно курс заочного обучения писательскому ремеслу вы в свое время прошли, но я не собираюсь слушать поучения о стилистических нюансах и тонкостях от заштатного торговца подержанными машинами.
– Кого-кого?!
– Или чем вы там еще занимались. Неужели вы всерьез полагаете, что ваше мнение о моей прозе для меня хоть что-нибудь значит? Я буду повторять фразу «я слеп» столько, сколько считаю нужным. А вы будете исправно набирать ее на этой вашей дьявольской машине, оставив при себе свои глубокие соображения, почерпнутые в вечерней школе.
– Прекрасно. Прекрасно, так я и сделаю.
– Отлично.
– Но прежде одно, самое последнее замечание.
– Ну, если есть такая настоятельная потребность, валяйте.
– На мой взгляд, вы слишком большое значение придаете своим глазам.
– Чему, простите?! Не понял.
– Вы слишком большое значение придаете своим глазам. Тому, что вы называете безглазием. И в книге, и, сколько я заметил, в жизни тоже.
– Нет, вы только…
– Я хочу сказать одно, и заранее знаю, что вы со мной не согласитесь; знаю также, что слова мои прозвучат самоуверенно и ханжески, но я считаю, что скажу это ради вашей же пользы. И если вы в результате решите меня немедленно уволить, что ж, пожалуйста. Я выскажу все, что думаю, и сожалеть об этом не стану. Вы, Пол, придаете слишком большое значение своим глазам. Слишком часто отпускаете уничижительные шуточки по поводу собственной слепоты. Слишком много каламбурите и балагурите. Да, бесспорно, поначалу восхищаешься им, этим вашим уменьем посмеиваться над собственным несчастьем. Невольно думаешь: боже мой, будь я на его месте, сумел бы я проявлять такое же мужество? Но должен сказать вам, Пол, это впечатление скоро сглаживается. Да еще как сглаживается! Ваша привычка к самоиронии становится назойливой, чисто механической; уже ловишь себя на том, что со страхом ждешь очередного намека, очередной шуточки насчет глаз, и закрадывается мысль: уж лучше бы он ныл. По крайней мере это было бы, ну, не знаю, нормально, что ли. Естественно. По-человечески.
* * *
Вот. Это все, что я хотел сказать. Мяч на вашей половине корта, отбивайте.
– Диктую дальше. Готовы?
– Да.
– «Возьмем мой собственный случай. Я слеп. Я не только слеп, у меня вообще нет глаз. Поэтому любое прозрение» – тире – «странное в данной ситуации слово» – тире – «касательно писательского призвания и труда, которым я готов поделиться с читателями, неизбежно обусловлено этим ужасающим обстоятельством. И хотя я ввергнут в инфернальную непроглядность» – ин-фер-наль-ну-ю не-про-гляд-ность, – «где теперь протекает моя жизнь, у меня было много времени на размышления о той удивительной сокровенной связи, что существует между слепотой и литературным творчеством». Точка.
– Угу.
– «Ибо однажды» – тире, – «собственно сегодня, в тот самый день, когда я пишу, вернее, диктую эти строки, которые ты, читатель, сейчас читаешь», – тире – «однажды…».
– Надо полагать, «однажды» повторяется намеренно?
– «Однажды меня осенило: а ведь слепец получает доступ к окружающему его миру точно так же, как читатель романа входит в мир, созданный, как по волшебству, воображением писателя». Точка. «То есть главным образом через диалог и описание». «Через диалог и описание» курсивом.
– Готово.
– «Судите сами». Точка. «Читатель не имеет ни малейшего представления об условиях, в которых протекает действие романа, за исключением той жестко очерченной зоны, своего рода заказника, границы которого четко указаны и выход за них строго-настрого заказан» – за словом «за-каз-ник» следует «у-ка-за-ны», а за ним – «за-ка-зан».
– Ладно.
– «Своего рода заказника, границы которого четко указаны, а выход за них строго-настрого заказан, этакого участка вымышленной территории со своими собственными законами, и только с этим участком писатель и благоволит познакомить читателя. Если же по каким-то ему одному ведомым причинам писатель решает лишь схематично изобразить героев своего произведения или обстановку, в которой протекает действие, то в этом случае ничего более читателю узнать о них не суждено. Не в его силах заглянуть дальше напечатанных на странице слов – как он попытался бы, вытянув шею, взглянуть поверх голов в толпе зевак, пялящихся на уличное шествие, – чтобы получше разглядеть открывающийся за ними мир, ибо никакого мира за ними, естественно, нет». Новый абзац. «То же относится и к диалогу. Пожалуй, именно через диалог героев читатель художественного произведения и знакомится с ними. И только если автор решает вести повествование от первого лица, прибегая к приему внутреннего монолога, только тогда читатель получает доступ к внутреннему миру, настроениям и мотивам поведения каждого из героев». Прочтите мне, пожалуйста, последние три предложения.
– «То же относится и к диалогу. Пожалуй, именно через диалог героев читатель художественного произведения и знакомится с ними. И только если автор решает вести повествование от первого лица, прибегая к приему внутреннего монолога, только тогда читатель получает доступ к внутреннему миру, настроениям и мотивам поведения каждого из героев».
– Новый абзац. «Рассмотрим теперь случай слепца. Подобно читателю романа, он тоже, если вздумает найти разумную опору в непостижимом для него окружающем мире, окажется в полной зависимости от двух важнейших стилистических параметров традиционного романного дискурса» – тире – «описания и диалога. Под описанием я подразумеваю рассказ о происходящем, который слепец слышит от какого-нибудь вполне реального доброхота, возможно от компаньона, платного или бесплатного, который водит его за руку, в переносном, а также и в буквальном смысле, и чья роль состоит в том, чтобы описывать слепцу постоянно меняющееся действо на сцене окружающего мира, подобно тому как в радиорепортаже комментатор описывает ход крикетного матча. А под диалогом я разумею вот что: подобно читателю традиционной прозы, только благодаря обращенной к нему или к окружающим его людям речи слепец и постигает психологию тех» – да, – «тех людей самого разного социального круга и эмоционального развития, с кем его свела судьба». Конец абзаца.
Вы меня слушаете, Джон?
– Конечно.
– Мне на минуту показалось, что вы перестали печатать.
– Я все время печатаю.
– Хорошо. Тогда продолжу. Я сказал про новый абзац?
– Да.
– «Следовательно, и читатель, и слепец целиком полагаются на точность и правдивость» – подчеркните «правдивость».
– Вы имеете в виду выделить курсивом?
– Да. Диктую дальше. «Точность и правдивостьинформации, получаемой, соответственно, от писателя и нанятого компаньона. Если же, однако, либо данный писатель, либо данный нанятый компаньон окажется не совсем надежным, тогда оба они, и читатель и слепец, остаются в полном неведении относительно происходящего». Джон?
– Да?
– Вы это действительно набираете?
– Да, да. Продолжайте.
– Выходит, я глохну. Или же вы научились печатать почти бесшумно.
Хорошо, я продолжаю. «Вопрос этот отнюдь не чисто теоретический, представляющий интерес лишь для критиков и ученых. Возможно, следующее покажется вам причудливым парадоксом, но писатель способен лгать» – выделите «лгать» – «писатель способен лгатьв своем художественном произведении» – двоеточие, – «примеров тому тьма, особенно в нынешнюю постмодернистскую эпоху. Впрочем, здесь моя аналогия с положением слепца терпит крах – так, во всяком случае, мне представляется. Конечно, трудно… трудно было бы… оченьтрудно было бы… вообразить себе, чтобы компаньон, о котором я говорил выше, намеренно решил лгать» – выделите «лгать» – «намеренно решил лгатьслепому о происходящем в окружающем их мире – ведь ему положено, и, без сомнения, за кругленькую сумму, именно это и описывать. Что прикажете думать о…»








