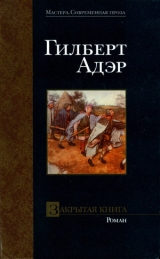
Текст книги "Закрытая книга"
Автор книги: Гилберт Адэр
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
– Опять угадали.
– За несколько дней до смерти – верно?
– А вот тут – извините, мимо. Не дней, а месяцев. За четыре месяца.
– Четыре месяца? Точно?
– Все эти сведения я вычитал из пояснительного текста на стене.
– Неужто четыре месяца? Я был уверен, что ему оставались считанные дни.
– Нет, месяцы. Продолжать?
– Пожалуйста.
– Ну, вы, конечно, оказались правы. Нос у него – совершеннейшая картошка. И на самом кончике такое забавное пятнышко света.
– И, помнится, прямо под нижней губой седая бороденка.
– Нет.
– Нет?
– Он плохо выбрит. Вся нижняя часть лица покрыта щетиной. Но никакой седой бороденки там нет и в помине. Во всяком случае, такой, как вы описываете.
– Боже, что творится с моей памятью! Продолжайте.
– Руки у него как-то несуразно вывернуты.
– Вывернуты?
– Точнее сказать трудно; картина написана в таких темных тонах, что почти ничего не разберешь, но вроде бы руки лежат у него на коленях ладонями вверх.
– То есть пальцы не сжаты?
– Нет. А вы что думали, сжаты?
– Да, думал. Но… теперь я уже и сам не знаю. Надеюсь, он смотрит прямо в глаза зрителям? Смотрит грустно, спокойно и с достоинством.
– Верно. Этот взгляд прямо-таки гипнотизирует. Невольно чувствуешь, что не подобает подходить к нему слишком близко. Как будто перед тобой не портрет, а живой человек.
– Хорошо сказано. Н-да, жаль.
– Жаль чего?
– Жаль, что именно глаз и не будет, когда вы сложите картинку-головоломку.
– И правда жаль.
– Понимаете, Джон, когда художник и модель – один и тот же человек и, следовательно, глаза художника вглядываются в глаза модели, – глаза и являются главным в автопортрете. Можно написать прекрасный, трогательный и очень живой автопортрет даже без непременного сходства черт лица – всех, кроме глаз.
– Разрешите я продолжу? Над ушами дыбятся волосы, совершенно седые. На голове берет, вроде бы из мягкой замши.
– Слава тебе, Господи, за это.
– Что вы хотите сказать? За что тут благодарить Господа?
– За то, что хотя бы это я помню верно.
Джон, вы опять улыбаетесь. Пожалуйста, не ухмыляйтесь мне в спину.
– Ловко вы это улавливаете. Я действительно улыбнулся, это правда. Улыбнулся, слушая, как вы благодарите Бога за то, что на художнике замшевый берет. Но улыбнулся я совершенно беззлобно.
– Знаю. Я просто демонстрировал свою проницательность. Давайте посмотрим, сумею ли я сам опознать последний кусочек головоломки. На художнике сюртук бежевого цвета, возможно тоже замшевый, застегнут спереди на пуговицы. И меховой воротник. Прав я или… да прав, конечно!
– Почти правы.
– Почти?!
– Воротник не меховой. Он из того же материала, что и сюртук. Да, похоже, замшевый.
– О господи боже ты мой!
– Что случилось, Пол?
– Неужели теперь я теряю память?
– Пол, но это же пустяки. Ерундовские промашки. Ничего серьезного.
– А для меня этот меховой воротник, чтоб его, – вещь оченьсерьезная! Убийственно серьезная! Выходит, я даже не могу толком вспомнить свою любимую картину!
– Да вы же сами сказали, что не видели ее много лет.
– Джон, когда я лишился зрения, я лишился настоящего. Лишился напрочь. Хорошо, пусть. Я научился обходиться без него. Или почти научился. Но если я начну терять память, я лишусь не только настоящего, но и прошлого. И тогда мне останется одно лишь будущее. Боже правый, и какое будущее!
– Я почему-то воспринимал это иначе.
– До сих пор я, как дурак, жил самообманом и еще радовался. А мой рай обернулся адом.
– Но покуда я с вами, Пол, вы не будете утрачивать настоящее. Давайте ястану теперь вашим настоящим. А также ипрошлым.
– Ничего не скажешь, Джон, очень великодушное предложение; однако мы оба прекрасно знаем, что вы здесь будете отнюдь не всегда, – так зачем это вообще предлагать? Наверное, больше всего на свете я ненавижу душевную щедрость особого рода: когда делаются великодушные предложения и при этом обе стороны сознают, что все это – пустой звук.
– Ну, извините, я только попытался…
– Пожалуй, пойду прилягу.
– А. Хорошо.
– Если бы вы тем временем взглянули на головоломку с картиной Рембрандта, я был бы вам очень признателен.
– Обязательно. А вы бросьте думать о делах. Постарайтесь немного отдохнуть.
– Увидимся позже.
* * *
Теперь мне ясно: я ничему не научился, ничего не запомнил. Столько лет, и все зря. Я беспомощен, совершенно беспомощен и, если не считать Джона, один в этом мире как перст. Без зрения, без глаз, без лица иодинодинешенек, отрезанный от мира, визуально отрезанный, изгнанный из монотонного одноообразия пульсирующей повседневной жизни этого мира. Ах, да был ли кто когда-нибудь в таком отчаянном положении? Ведь теперь для меня окружающее – это всего лишь чистый лист бумаги, чистый черный лист, с которого стремительно исчезают последние следы написанного текста. Чего бы только я не дал – мою правую руку, левую руку, ноги, нос, пальцы, половой член, да все, что угодно! – за возможность еще разок взглянуть на мир!
* * *
– Ну, глядите, чтобы он у вас напился пилюль и порошков от простуды по самые брови. Очень рекомендую.
Эти тоже годятся. Пусть пропотеет хорошенько, и все пройдет.
Угу.
Нет, нет, вовсе нет.
Не беспокойтесь, это совсем не трудно. Знаете, не такой уж я недоумок в поварском деле. Очень даже неплохо готовлю. Давно уже сам для себя кухарю.
Его капризы? Да, да, привыкаю к ним.
Ну что ж. Почему бы вам просто не отдохнуть недельку?
Я серьезно. Собственно, даже настаиваю.
* * *
Не волнуйтесь. Я сам поговорю об этом с сэром Полом, и, уверен, он возражать не станет. А неделя, само собой, будет оплачена сполна, на этот счет не волнуйтесь.
Нет-нет, не заходите, не беспокойтесь. Если мне что-нибудь понадобится, я вам позвоню.
Правильно.
То есть… Ну да, ну да, само собой.
Хорошо. Ну…
Ну, будьте здоровы. И обязательно передайте Джо мои лучшие пожелания.
Ладно. Пока.
Ага.
Непременно. Ну, до свиданья.
Пока.
А, Пол, это вы. Я и не заметил, что вы там стоите.
– Как я понимаю, вы разговаривали с миссис Килбрайд?
– Ну да. Она позвонила сказать, что Джо заболел. Свалился с гриппом.
– Если я правильно расслышал, вы отпустили ее на неделю, так?
– В общем-то да, отпустил. Его, видимо, сильно скрутило, и…
– Это все замечательно, Джон, но вам не пришло в голову сначала посоветоваться со мной? Прежде чем отказываться от ее услуг.
– Послушайте, Пол, вы же говорили мне, и не раз, чтобы я держался с миссис Килбрайд без лишних церемоний. Что она-де обслуживает меня здесь точно так же, как и вас. Разве вы этого не говорили?
– Верно, говорил. Но речь шла о лишней чашке кофе или яблоке в тесте. А вот что касается целой недели отпуска, то не забывайте: пока что плачу ей я и… Заметьте, я не сержусь; правда не сержусь, но мне кажется, в таких случаях не худо бы спросить меня, когда ей уходить и когда оставаться.
– Вы же спали. Я не хотел вас будить.
– Я не спал. И потом, неужели нельзя было подождать, пока я проснусь?
– Что вы, собственно, хотите сказать? Что я совершил ошибку, разрешив ей не приходить?
– Не то чтобы ошибку. Вполне возможно, я сказал бы ей то же самое. Просто я считаю, что говорить ей об этом – моя привилегия.
– Извините.
– И уж безусловно, прежде чем так бесцеремонно сжигать корабли, я бы договорился о каком-нибудь ином варианте. Как мы теперь будем с едой? Повесим, надо полагать, в окне почты объявление о том, что ищем кухарку. Один бог знает, кого мы рискуем в результате заполучить.
– Я же вам говорил, что охотно буду готовить для нас обоих. Хотите, начну прямо сегодня вечером.
– «Хочу»? Именно сегодня вечером, деваться-то некуда. Если мы вообще собираемся нынче есть.
– Послушайте, Пол. А не съездить ли мне днем в Чиппинг-Кэмпден за покупками? Тогда к ужину я приготовлю для нас что-нибудь вкусненькое. Как вы на это смотрите?
– Ну… Ну хорошо. Не стану отрицать: какое-то разнообразие вместо вечного кашеобразного варева миссис Килбрайд было бы очень кстати. Но сможете ли вы, да и есть ли у вас желание стряпать изо дня в день целую неделю?
– Мне нравится готовить на двоих. Для меня это не труд, а удовольствие.
– В таком случае договорились. Все хорошо, что… и так далее. Вы уже взглянули на картинку-головоломку?
– Само собой.
– И?..
– Выложил все кусочки по периметру. Внешние края.
– Уже? Ну, Джон, это здорово! По опыту знаю, что теперь дело с головоломкой, считай, наполовину сделано.
– С картинкой-головоломкой.
– Что?
– С картинкой-головоломкой.Помните? Головоломки бывают разные.
– Да, Джон, по опыту знаю, что дело наполовину сделано. В поэзии точно так же. Навряд ли вам известно, что я выпустил томик стихов?
– Нет, первый раз слышу. Поэзию я мало читаю.
– Юношеские стихи, типично юношеские стихи. Тонюсенький томик.
– Надо же.
– Как, в сущности, выразился Сирил Коннолли [18]18
Сирил Вернон Коннолли (1903–1974) – английский писатель и журналист, известный своими афоризмами и сентенциями.
[Закрыть], в каждом толстом глупце скрыт тоненький, рвущийся на волю томик.
– Простите, не понял.
– А, не важно, не важно. Многим, однако, это понятно. Словом, то были рифмованные вирши, боюсь, дрянные, я в них не заглядывал много лет. Слава богу, сие издание почило в бозе. Для подающего надежды нет худшего врага, чем успех, как заметил тот же Сирил Коннолли. Прекрасно помню, однако, что начинал я неизменно с рифм – как вы начали картинку-головоломку с ровных краев. Вот и вся суть моей речи. Ничего особенного.
– Я бы с удовольствием их почитал. Ваши стихи то есть.
– Да нет, не почитали бы и не почитаете. Нам есть на что потратить ваше время с куда большим толком. К примеру, на работу над моей книгой. Не заняться ли ею? Утро-то уж почти прошло.
* * *
– Я опять весь в поту. Сколько времени мы корпим?
– Сейчас посмотрим. Уже почти половина шестого, а начали мы в двенадцать, сразу после того, как пробило полдень. Час ушел на обед и где-то минут тридцать на кофе. Всего, стало быть, чистых четыре часа.
– Только четыре? Мало, очень мало. Да что уж теперь. Прочтите-ка мне все сначала. А потом мы выпьем по стаканчику виски и расслабимся.
– Прочесть то, что мы сделали сегодня?
– Да, только сегодняшнюю порцию.
– Вы удобно сидите?
– Читайте, пожалуйста.
– «Давайте рассмотрим случай Рембрандта ван Рейна. Этот человек, чей последний автопортрет висит в Национальной галерее, – художник на закате своего земного существования, старый и некрасивый, но при этом спокойный и исполненный достоинства; он сидит положив руки на колени ладонями вверх, словно говоря зрителю: прими меня таким, каков я есть, каким я стал в старости; так вот, человек сей смотрит на нас с полотна теми же глазами, которыми он, художник, смотрел на это полотно триста лет тому назад. Всего четыре месяца отделяют его от смерти – или, вернее было бы сказать, от бессмертия. Его глаза, однако, – а мы чувствуем, что к этим глазам не подобает подходить слишком близко, как если бы перед нами был реальный человек, – его глаза и составляют главное в этой картине, ради них она и писалась. Ибо это не столько автопортрет, сколько исследование глаз, исследование тех глаз, которые первыми видели то, что видим сейчас мы, и которые, кажется, пристально смотрят на нас, разглядывающих их, и устанавливают с нами зрительный контакт через пропасть в три столетия.
С нами,говорю я. Но ведь у меняже нет глаз, мне нечем разглядывать глаза Рембрандта. Я не могу установить зрительный контакт с ним или с кем-либо еще в целом мире. Тем не менее я по-прежнему «вижу» эти его глаза, даже при том что я не видел самого портрета уже несколько лет. Я вижу их так называемым внутренним оком, которое, пройдя через все испытания и муки, выпавшие мне в последние годы, осталось невредимым. Нет уже глаз Рембрандта; и моих тоже нет. Однако две пары призрачных глаз, его и моих, продолжают поддерживать контакт, его – благодаря изображению на полотне, мои – благодаря памяти.
Теперь давайте вообразим себе его «Автопортрет в шестьдесят три года» в виде разложенной на скатерти картинки-головоломки. Нет, к чему напрягать воображение? Ведь такая головоломка существует. Продается в сувенирном магазине Национальной галереи. Но представьте себе ее целиком, кроме тех нескольких кусочков, не более трех-четырех, которые и составили бы глаза Рембрандта. Что же окажется перед нами? Общий вид человеческой головы и торса. Или, скорее, обычная, с ровными краями, прямоугольная, так сказать, карта этого вида. А в центре – пространство скатертной ткани, извилисто, как всегда в головоломках, очерченное, с прихотливо изогнутыми краями, словно причудливой формы бассейн какой-нибудь голливудской звезды; именно это пространство и занимали бы глаза».
– Ну? Чего же вы ждете?
– Это все.
– Все? Все, что мы сделали?
– К сожалению, да. Не так уж и плохо, в наших-то обстоятельствах. Я только что подсчитал количество слов. Триста семьдесят.
– Гм.
– Можем тут же продолжить.
– Нет. Нет, пока хватит. Но меня вот что интересует. Есть в этом какой-то смысл?
– По-моему, есть, и немалый.
– Спасибо на добром слове, Джон, но я не могу отделаться от мысли, что все это – одна сплошная болтология. А вот если бы я посмотрел собственными глазами, то мог бы судить сам.
– На картину?
– Да на текст!
– А-а.
– Все это словоблудие про внутреннее зрение… Внутреннее око? Чушь собачья, и больше ничего!
Ох-хо-хо. Ну да ладно. Утро вечера мудренее, как говаривал кто-то.
* * *
– Осторожно, тарелка очень горячая.
– Ну, Джон, что бы это ни было, я уже могу со всей определенностью сказать: тут стряпня совсем не à la варево доброй миссис Килбрайд.
– Итак, по принципу циферблата: фазан – ровно в полдень, жареный картофель – в три, фасоль – в семь.
– М-м-м. Какой восхитительный аромат! Хотя фраза «Фазан ровно в полдень» очень напоминает название какой-нибудь жуткой, но ловко сварганенной пьесы Раттигана или Н. Ч. Хантера. А соуса тут, случайно, нет?
– Есть, а как же! Соус – постойте… Я знаю, вы хотите, чтобы я не вдавался в подробности, но все же должен сказать, что соус – на позиции десять часов десять минут.
– Десять десять, да? А вы знаете, что это за время?
– Что-что? Я, кстати, наливаю вам вина. «Шамболь-Мюзиньи» тысяча девятьсот девяностого года.
– Простите, не понял.
– Я про вино. Так вы говорили?
– Говорил? О чем?
– Десять десять.
– А, да. Именно это время всегда показывают на рекламе наручные часы. Неизменно.
– Правда?
– Видите ли, это создает впечатление, что циферблат «улыбается». И тем придает часам дополнительную привлекательность в глазах потенциального покупателя. Так это принято объяснять.
– Ну да? И откуда вы все это знаете?
Пол? Вам что-нибудь…
– Блокнот ваш на столе?
– Конечно. А что? Пришла в голову какая-то мысль?
– Да, насчет циферблата. Десять десять. Похоже на физиономию слепца, улавливаете? Помните, что я вам говорил? Про то, что слепой вынужден стать самым терпимым человеком на свете? И улыбаться, вечно улыбаться; на его физиономии всегда десять десять, как на рекламном циферблате, – так ему легче… м-м-м… снискать расположение тех… тех своих знакомых, на чью помощь ему только и придется рассчитывать в трудную минуту. Запишите-ка это, пожалуйста.
– Готово.
– Спасибо. Как вам кажется, неплохо получилось? Сдается мне, я даже знаю, куда это вставить.
Джон, вы улыбаетесь.
– Извините, просто вы так произнесли «Сдается мне, я даже знаю, куда это вставить» – почти на грани непристойности.
– А, да-да, понятно.
– Но вы и вправду не перестаете меня поражать. Прямо как Шерлок Холмс. Каждый раз застаете меня врасплох.
– Знаете, Джон, мне, наверное, не следовало бы раскрывать вам все мои секреты, но вынужден вас все же разуверить: ничего сверхъестественного тут нет. Улыбаясь, вы морщите губы и прицокиваете языком – очень тихо, еле слышно, но все же уловимо – и при этом еще своеобразно фыркаете носом. Слепой ведь не упускает ничего. Я действительно могу расслышать,как вы улыбаетесь.
– Просто страшно подумать.
– Так ведь все зависит от того, чему вы улыбаетесь, верно? Ну вот, вы уж меня простите, но я увлекся нашей бессвязной болтовней, и теперь вам придется заново рассказать мне, что где у меня на тарелке.
– Полдень – фазан. Три часа – картофель. Семь – фасоль. И десять десять – соус.
– Благодарю вас. Кстати, какой роскошный запах у вашего лосьона после бритья.
– «Джаз». Сен-Лоран. Надеюсь, не слишком бьет в нос?
– Ничуть. Запах, я бы сказал, сдержанно-пикантный. Возможно, очередная безвкусная бурда, изготовляемая миссис Килбрайд, и не выдержала бы такого ароматического удара, но это… Ну, Джон, поздравляю, фазан восхитителен, совершенно восхитителен.
– Приятно слышать. Правда приятно. Ведь я давным-давно не готовил для двоих.
– Вы уже говорили. Но…
– Да?
– Почему, Джон?
– Что почему?
– Почему вы давно не готовили для двоих?
– Вы же знаете почему. Я живу один.
– Но я об этом и спрашиваю. Почему вы живете один?
* * *
Вы еще молоды. По всей видимости, относительно хорошо обеспечены. И вы явно человек приметный, более чем приметный. Еще в первый день нашего знакомства вы сами сказали, что недурны собой. Я, конечно, не хочу лезть не в свое дело, но признаюсь, меня снедает любопытство. Вы-то ведь про меня уже многое узнали. Итак, почему вы до сих пор не женаты?
– Ответа на этот вопрос я не знаю.
– Разве вы не любите женщин?
– Что?
– Разве вы не любите женщин?
– Вы имеете в виду, не гомик ли я?
– Кажется, нынче говорят «голубой». Это ли я имел в виду? Пожалуй, да. Как вы понимаете, для нашего с вами сотрудничества это не имеет ни малейшего значения.
– Нет, я не гомик.
– Тогда почему же вы один как перст? Уж простите меня, Джон, но вы живете в моем доме, а я почти ничего не знаю о том, какое существование вы вели до приезда сюда; хоть я и увечное страшилище, но другие представители моего вида интересуют меня ничуть не меньше, чем любого нормального человека.
– Можно просто сказать: я всегда был довольно нелюдимым.
– Бросьте, Джон, вы же не отвечаете на вопрос, а только вынуждаете меня поставить его несколько иначе. Почему вы всегда были довольно нелюдимым? Расскажите-ка про себя.
– Если не возражаете, Пол, я предпочел бы не отвечать.
– Вон как!
– В конце концов, нелюдим потому, в частности, и нелюдим, что не любит говорить про свою жизнь, правда? Ну сами подумайте. Если бы меня действительно тянуло откровенничать, я не был бы таким нелюдимым. Улавливаете мою мысль?
– Я улавливаю другое: я вижу тут искусную, по всем законам софистики выстроенную попытку вообще избежать ответа на вопрос. Ну, будь по-вашему. Вы, значит, предпочитаете о себе не рассказывать; что ж, это ваше право, я готов отнестись к нему с уважением. Но если вам когда-нибудь захочется, как вы выразились, пооткровенничать, имейте, пожалуйста, в виду, что у вас здесь есть друг, который с готовностью выслушает все, что вы скажете.
– Очень любезно с вашей стороны, Пол.
– Да, Джон, ужин и впрямь восхитительный. Или я уже это говорил? Фазан приготовлен именно так, как надо. Нежный, не слишком волокнистый. А картошка – картошка просто тает во рту.
– Как вам соус?
– Соус? Да, тоже на редкость хорош. Есть в нем особый тонкий привкус. Не могу точно определить, какой именно. Необычный, но очень, очень приятный.
* * *
– Ктоо-о-о
Подсказал: она моя?
Ктоо-о-о
Дал мне счастье бытия?
Вот абсолютное блаженство!
Вот абсолютное блаженство!
Ктоо-о-о
Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лам?
Ктоо-о-о
Пам-пам-па-рам-па-рам-па-рам Ооо-о-о!
Да, угадала ты, любовь моя!
Не кто иной, как ты.
Ктоо-о-о…
Кто там?
Есть там кто-нибудь?
Джон, это вы?
Скажите ради бога хоть слово!
Джон! Джон! Джон!
– Я здесь! В чем дело? Что-то случилось?
– Зайдите скорее сюда!
– Вы хотите сказать, в…
– Да, да! Заходите внутрь! Какое это имеет значение?
* * *
– Что произошло?
– Ответьте мне честно, Джон. Вы стояли минуту назад… стояли в ванной комнате?
– Что?! Конечно же нет.
– Послушайте, причина ведь меня не волнует: по ошибке вы зашли или вам что-то привиделось… Не имеет значения. Просто мне необходимо знать, стояли вы там или нет. У двери.
– Да нет же, Пол, не стоял, уверяю вас.
– А где вы были?
– Когда вы меня позвали? Сидел за столом, занимался картинкой-головоломкой. Я ее почти сложил.
– Полагаю, нет смысла спрашивать вас, не заметили ли вы кого-нибудь? Я имею в виду, в прихожей или…
– Разумеется, не заметил. Во всем доме никого, кроме нас с вами, нет. Я сам запер входную дверь.
– А черный ход?
– Так его сегодня и не отпирали. Что случилось? Когда вы лежали в ванне, вам показалось, что кто-то над вами стоит, да?
– Не знаю, я уже вообще ничего не знаю. Но свет-то горит?
– Горит, горит. Пол, в доме, кроме нас, ни души. Можете мне поверить.
– Да. Да, вы, разумеется, правы. Но я так струхнул – вы представить себе не можете. Сердце до сих пор колотится. Я в самом деле готов был поклясться…
– Слушайте, мне известно, что слепые становятся особенно чуткими к… Ну, что у них остальные органы чувств гипертрофируются… Правильно я употребил это слово?
– Да.
– В таком случае не исключено, что у вас развилась повышеннаячуткость, правда? Быть может, теперь вы стали слышать звуки – всякое там поскрипывание и прочее, – которые издает старый, обветшавший дом, не более того, а вы раздуваете из этого бог знает что. Разве не может такого быть?
– Да, я… Я уверен, что так оно и есть. Пожалуй, тут вы верно подметили. О господи, я просто сам не свой. И себя, и вас поставил в неловкое положение. Но говорю вам, Джон, я готов был поклясться, понимаете, поклясться, что в ванной кто-то есть.
– Хотите, чтобы я остался с вами?
– Нет, нет, вы очень добры, но я… Мне все равно пора вылезать. Вода уже чуть теплая. Большое спасибо, Джон. И простите, что вам приходится терпеть мои дурацкие закидоны. Удовольствие, надо полагать, маленькое. И в круг ваших обязанностей, боюсь, совсем не входит.
– Не думайте об этом. Сейчас вам нужно хорошенько выспаться.
* * *
Неужели мне все это мерещится? Неужели? Может быть, я, как подсказывает Джон, стал чрезмерно чуток? Никогда не слыхал, чтобы подобное происходило со слепцами, но смысл в этом есть, и немалый. Услышав легкое поскрипывание пола в ванной, я сразу непроизвольно заключаю, что скрип «вызван» чем-то – вернее, кем-то. А ведь на самом деле существуютследствия без причин. Вещи в доме скрипят сами по себе. Шевелятся сами по себе. Когда что-то происходит, часто невозможно указать причину, по которой данное явление происходит в какой-то конкретный момент. А не в другой – минутой раньше или тридцатью секундами позже. Жизнь ведь не роман, она не обязана оправдывать каждое составляющее ее микрособытие. Быть может, все дело в том, что после стольких лет полного одиночества присутствие в доме другого человека само по себе сделало меня гипертрофически восприимчивым к тем звукам и ощущениям, на которые люди, всю жизнь живущие бок о бок с другими, не обращают внимания и в конце концов вообще перестают замечать? В этом ведь тоже есть смысл. Возможно, я просто забыл, какие звуки связаны с присутствием «посторонних». Или я схожу с ума. Ведь в сумасшествии тоже можно усмотреть свой смысл.
* * *
– Это вы, Джон?
– Нет, сэр Пол, это я, миссис Килбрайд.
– Миссис Килбрайд? Какого черта вы здесь делаете? Вы же на неделю в отпуске.
– Знаю, знаю, как не знать. Да только я на кухне шитье свое позабыла… и журнал «Пиплз френд»… А еще хотела хоть одним глазком поглядеть, как оно все тут, гладко или нет. Дай-ка, думаю, забегу раненько, пока вы, ребятки, еще не встали.
– Ребятки!
– Ну, вы ж меня знаете. Я же страсть люблю подразниться.
– Да, но уж избавьте меня. А который вообще-то час?
– Только-только семь пробило. Неужто не слыхали церковных часов?
– Да разве я стал бы вас спрашивать, если бы слышал?
– Ууу-у, кто-то сегодня встал не с той ноги. А чего это вы вообще вскочили в такую рань? На моей памяти, вы всегда любили поваляться в постели подольше.
– Опять плохо спал ночь.
– Опятьплохо спали? Не спится, что ли?
– Да, не спится. Кофе уже есть?
– Так я только еще чайник поставила. Бедняжечка вы мой, вид-то у вас совсем квелый, это уж точно. Витамины вам нужны, вот что.
– Ради бога, миссис Килбрайд, я сегодня не в том настроении.
– Да я просто с вами разговариваю, не молчать же мне.
– Вот это мне как раз и не нравится. И почему люди думают, что нужно постоянно болтать языком? Рты у нас ведь предназначены еще и для еды, однако мы не едим беспрерывно, правда?
– Легко вам говорить. Видели бы вы моего Джо, вы бы иначе запели. Какая там еда! Можно подумать…
– Как там Джо, кстати?
– Ох, сэр Пол, до чего ж я беспокоюсь! Сроду не видала его таким хворым, в чем только душа держится.
– Ну-ну, миссис Килбрайд, выше нос.
– Да, сэр Пол, если б вы его хоть одним глазком увидали, вы бы поняли…
– Ну-ну. Уверен, что вы волнуетесь совершенно понапрасну. У него просто тяжелый грипп, вот и все. Гм, кофе готов?
– Погодите. Вода еще не вскипела.
– «Нет… Нет, вода кипит…»
– Чего говорите?
Да нет, сэр Пол, она совсем даже не кипит. О чем вы толкуете? Вы ж ее видеть-то не можете.
– Извините, миссис Килбрайд, я был мыслями далеко отсюда.
– Оно и видать. Хотите чего-нибудь горяченького на завтрак? Яичницу-болтунью?
– Нет, спасибо. Просто поджаренный хлеб.
Нет, миссис Килбрайд, я вспомнил маленького мальчика, которого знал когда-то. Давным-давно. Мы вместе купались. На побережье в графстве Суффолк. Вернее сказать, купался он. Я еще стоял на берегу и осторожно пробовал воду ногой, а он уже бултыхнулся в море. И когда я его спросил, не ледяная ли вода, он воскликнул: «Нет, вода прямо кипит! Кипит!» Прелесть, правда? Я ему тогда крикнул: «Если вода кипит, почему нет пузырьков?» Но он к тому времени был уже далеко и не слышал.
– Вы купались? Даже не представляю.
– Не всегда же я был таким страшилищем, как теперь.
– Вам хлеб маслицем помазать?
– Да, пожалуйста.
– А джемом?
– Второй кусок, а первый не надо. Если, конечно, вы поджариваете два куска.
– Два, два. Джон еще не вставал?
– Нет. Джон тоже из тех, кто любит поваляться подольше.
– Просто я сунула нос в соседнюю комнату, а там на столе головоломка лежит, уже вся сложенная.
– Закончена, значит? Замечательно; стало быть, сегодня мы ею и займемся.
– Так она вам нужна для вашей книжки, что ли?
– Естественно. Я специально попросил Джона привезти ее из Лондона. Из Национальной галереи. Неужели кофе все еще не готов?
– Готов, как не готов. Нате-ка. А вот и ваш жареный хлеб. Который слева, тот намазан маслом.
– Спасибо.
– И чего ж это на ней такое?
– Где?
– Да на головоломке вашей.
– И вы задаете мне этот вопрос?! У вас же есть глаза, не так ли?
– Ну, есть, да только я не про то. Та чудная штуковина между ними зачем?
– Чудная штуковина между вашими глазами? Рискну выдвинуть смелое предположение, что это ваш нос.
– Ой, ну да, ха-ха-ха, но я ж не про то. Я про то, что в головоломке. Какая-то чудная штуковина.
– Что еще за чудная штуковина?
– На полу валяется. Лежит между теми двумя. Уж я и так и сяк глядела – все одно не пойму, что это такое.
– А я никак не пойму, о чем это вы толкуете. Оторвите-ка мне кусок бумажного полотенца, руки вытереть.
– Нате. Штуковина эта… в том-то и дело, не знаю я, чего это, и все тут. Чего-то там словно бы торчит между двумя мужчинами.
– Господи боже, какими двумя мужчинами?!
– Да теми же, что на головоломке.
– Что вы сказали?!
– Батюшки, вы только гляньте, он аж хлеб уронил! И, ясное дело, по закону подлости – джемом вниз. Давайте я возьму…
– Ах, да забудьте вы про этот проклятый хлеб! Что вы сейчас сказали?!
– Вот чего, сэр Пол, не надо на меня кричать. Знаю, спали вы плохо, не выспались, но ко мне, все одно, какое-никакое, а уважение имейте.
– Прошу вас, умоляю, миссис Килбрайд, это очень для меня важно. Что именно вы сказали про головоломку?
– Да никак я не могла взять в толк, что за штуковина лежит на полу – только всего и сказала-то.
– «Между двумя мужчинами» – вы так сказали, верно?
– Ну да, меж них она и лежит.
– Но что же там за мужчины? На картине-то всего один.
– На какой такой картине?
– Которая на головоломке! Из кусочков составляется знаменитая картина!
– Ну, не знаю. Одно могу сказать: мужчин там двое, и точка. Да еще эта штуковина.
– Пойдемте со мной в гостиную.
– Что? Прямо сейчас?
– Да, сейчас. Это очень, очень важно.
– Ой, боже ж ты мой, да что я такого сказала-то? Ох, ну, так и быть. Погодите-ка.
– Скорее, пожалуйста.
– Иду, иду.
– Так, хорошо. Скажите мне, коробка здесь?
– Коробка? Какая коробка?
– Коробка с головоломкой. Я имею в виду коробку, в которой головоломку привезли.
– Нет… Нет, ничего такого не видать. И на столе нету.
– Ладно. Пускай. Посмотрите… Просто посмотрите на саму головоломку и опишите то, что видите.
– Да ради бога, лишь бы вы не блажили. Ну, там, стало быть, двое мужчин.
– Как они одеты?
– По-старинному. Один смахивает на Генриха Восьмого, только разве похудее будет. А второй вроде как священник. Католик небось.
– А про какую это штуку вы все толкуете? На полу которая.
– Ну, в том-то и дело. Говорю вам, не знаю. Вообще ни на что не похожа. Прямо никак не разберешь. Чего-то такое расплющенное, вроде лепешки, что ли…
– Расплющенное, вроде лепешки?..
А скажите, миссис Килбрайд, не череп ли это?
– Череп? Ну нет, ни в коем разе!
– Вы уверены? Слушайте, возьмите-ка меня за палец!
– За палец?
– Да! Вот за этот палец!
– Ладно, пожалуйста. И чего вы хотите, чтобы я с вашим пальцем сделала?
– Хочу, чтобы вы подвели его к этой, как вы выражаетесь, штуковине.
– Ну вот, уже в нее тычете.
– А теперь взгляните-ка сбоку. Не на палец, конечно, а на штуку эту. Взгляните на нее вот отсюда.
– Ладно, ладно, только не пихайте меня.
– Извините. Просто следите за движением моего пальца. Вы следите?
– Слежу, слежу.
– Что теперь скажете? Не может ли это быть изображением черепа?
– Что ж… вроде как и может. Может, и правда череп, если уж на то пошло. Но тогда скажу, что нарисован он, по-моему, не шибко здорово.
– Это не важно. Так, а прямо над этой штукой стол есть?
– Есть.
– А на столе лютня?
– Чего?
– Нечто вроде мандолины. На гитару похоже.
– Верно, верно.
– И глобус?
– Ага.
– Хорошо. Теперь последний вопрос. Если не ошибаюсь, эти двое мужчин стоят перед занавесью. Правильно?
– Да.
– Какого цвета занавесь?
– Зеленая.
– Верно, зеленая. Конечно же зеленая. Большое спасибо, миссис Килбрайд, очень вам благодарен. Больше я вас не задерживаю. Картина мне ясна. Ха, вот именно, картина мне ясна.
* * *
– Доброе утро, Пол.
– А, Джон, это вы. Доброе, доброе утречко вам. Хорошо спали?
– Неплохо. А вы?
– Я? О, прекрасно. Просто прекрасно.
– Впервые вижу, чтобы вы спустились сюда раньше меня.
– Впервые, значит?
– Да. Вы давно встали?
– С час назад. Утро было чудесное, и мне расхотелось валяться в постели.
– Утро было чудесное? Сейчас вообще-то небо затянуто тучами.
– Ну, а мне оно показалось чудесным. Слепому-то какая разница? Я уже встал. И, как говорится, рву постромки. По-стром-ки.








