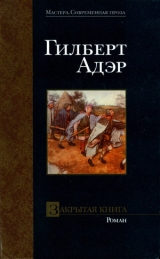
Текст книги "Закрытая книга"
Автор книги: Гилберт Адэр
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Но его ли я «видел» на самом деле, видел ли я на самом деле собственный глаз? Как это глаз может исхитриться увидеть себя самого? Заглянуть в собственное нутро или, если так можно выразиться, соотнести увиденное с субъектом видения? Ведь уже в те времена я был близорук, даже тогда я видел внешний мир только через очки. И тем не менее каким-то чудесным образом я видел эту поверхность, напоминающую лунную, так же четко, как видит человек, наделенный нормальным зрением . Чемже я ее видел? Несомненно, тем самым инстинктивным атавистическим зрительным импульсом, о котором я говорил выше и который в конечном итоге сильнее просто обладания органами зрения».
Простите мне мое занудство, Джон, но я хотел бы кое-что добавить. Сразу за словами «Я вынужденвидеть, независимо от того, имею я такое осознанное стремление или нет» я хотел бы вставить в скобках примерно следующее: «(Пусть читатель закроет глаза и сам убедится, что даже в этом случае, даже с закрытыми глазами, он продолжает видеть» – «видеть» возьмите в кавычки, – «даже и при том, что не видит ровно ничего)» – скобки закрываются.
– Хотите, чтобы я это вставил прямо сейчас?
– Да.
– Хорошо. Еще раз можете продиктовать? Только помедленнее.
– «Пусть читатель закроет глаза…»
– Погодите, мне надо найти то место.
* * *
Так, нашел. Диктуйте.
– «Пусть читатель закроет глаза…»
– Извините.
– Что теперь?
– А не хотите так: «Пусть читатель или читательница закроет глаза»?
– Господи, конечно нет! Я уже вам как-то говорил, что не намерен рабски следовать дурацким правилам политкорректности. Иначе дело кончится полной нелепицей: «Пусть читательили читательницазакроет глаза и самили самаубедится…»
– Ладно, ладно. «И самубедится…» Продолжайте.
– «И сам убедится, что даже в этом случае, даже с закрытыми глазами, он продолжает видеть» – в кавычках, – «даже и при том, что не видит ровно ничего».
– Скобки закрыть?
– Скобки закрыть. Черт, вдруг заметил. Три «даже» в одном предложении. Вдобавок меня бросает в дрожь при мысли о том, как вы написали «Sacre du Printemps». Ничего, после перерыва мы все просмотрим заново. Любопытно, сколько получилось. По моим прикидкам – где-то около восьмисот слов. Примерно семьсот… гм, пятьдесят.
– Погодите минуточку, я вам дам точную цифру.
– Что?! Может, вы еще скажете, что у вас особый математический дар? Как же это таких называют?.. Идиоты с искрой божьей?
– Да нет конечно. Я просто включаю компьютерный счетчик слов.
– Ну прямо все страньше и страньше, как говаривала Алиса в Стране Чудес. А есть что-нибудь такое, что ему не по зубам?
– Очень немногое. Вот, пожалуйста. Семьсот двадцать три слова. А за вычетом заглавия и даты – семьсот восемнадцать.
– Семьсот восемнадцать, стало быть?
– Должен сказать, ваш примерный подсчет оказался поразительно точным.
– Когда отдаешь словесам столько времени, сколько я, развивается внутреннее чутье на эти вещи.
– Итак, Пол, вы довольны результатом?
– Еще сам не знаю. Не исключено, что днем решу весь этот кусок выкинуть.
– Что?!
– Да шучу, Джон, шучу. Однако же имейте в виду: по ходу работы такое непременнобудет происходить, и не раз. Если читатель пропускает какие-то страницы книги, это почти всегда случается потому, что автор вовремя не выкинул их сам. Знаете одно остроумное замечание – не помню только чье. Оскара Уайльда? Флобера? О том, что он все утро вставлял в текст одну запятую, а потом полдня ее из текста убирал, – так это вовсе не шутка. Придется вам притерпеться к таким фортелям, я же вот притерпелся.
– Уверен, что научусь относиться к ним спокойно. А пока суд да дело – как насчет кофе? Или, может, хотите чего-нибудь покрепче? Скажем, стаканчик вина?
– Нет-нет-нет. Кофе, и только кофе. За работой писатель не пьет никогда. Это не менее опасно, чем пить за рулем.
– Неужели? А как же Хемингуэй? Или Чарльз Буковски?
– Буковски – это макулатура.
– А Хемингуэй?
– Вы считаете, Джон, он из тех же писателей, что и я? Отчаянный, суровый, хлещущий виски?
– Пойду сварю кофе.
* * *
– Ну и как?
– Черт возьми, до чего просторный у вас шкаф. В него запросто можно войти.
– Это мне известно. Что там с галстуками?
– Тут их целая коллекция.
– Да еще какая. А «Черрути»-то есть среди них?
– Извините, забыл. Опишите-ка мне его снова.
– Бархатный. Почти сплошь покрыт цветными квадратиками. И бирка – «Черрути». Или «Черрути 1880». А может, 1885. Что-то в этом роде. Не помню точно. «Черрути» пишется так: Чер-ру-ти.
– Я переберу их по одному? Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. А, вот он, «Черрути»! Но не тот, на этом спиральный рисунок. Галстук, впрочем, красивый.
– Право же, Джон, лучше бы вы не отвлекались от дела.
– Я и не отвлекаюсь.
– Нет, отвлекаетесь. И я понимаю почему. А вы, со своей стороны, должны понять, что суть в конце-то концов совсем не в галстуке. После аварии – точнее, когда я, как говорится, собрал себя ложкой и начал понемногу оживать, – я, человек без глаз, научился ориентироваться в лабиринте окружающего мира (ведь для меня, как вы понимаете, мир – это сущий лабиринт). Но если по какой-либо причине в этом мире что-то меняется, я просто лишаюсь возможности в нем нормально существовать. Не могу, и все. Именно поэтому матушка Килбрайд, к примеру, твердо знает, что после уборки нужно поставить стулья, лампы – всё, вплоть до паршивой зубочистки, черт подери, – точно на то же самое место. Не сдвинув ни на сантиметр влево или вправо. Иначе, как вы сами видите, я и впрямь буду совершенно слеп.
– Н-да, Пол, мне очень жаль, но должен сказать, что, пока вы говорили, я перебрал все висящие в шкафу галстуки, и там есть один-единственный «Черрути» – тот, о котором я уже вам докладывал. Очень обидно.
– Вот те на… Тут… тут уж только руками разведешь. Ума не приложу, как это понимать.
– А не могла миссис Килбрайд бросить его в стирку без вашего ведома?
– Что за вздор! Я же вам только что сказал: без моего разрешения она не тронет здесь ничего, абсолютно ничего.
– Но тогда его, может быть, украли?
– Украли? Галстук «Черрути»? Абсурд. Да и кому его красть-то? Кроме миссис Килбрайд, сюда никто не ходит, а Джо Килбрайд – я знаю, вы еще с ним незнакомы, но немыслимо даже вообразить, чтобы Джо Килбрайд напялил на себя галстук «Черрути» и пошел чистить хлев. Разумеется, его никто не крал. А не упал ли он на пол шкафа?
– Я уже посмотрел и там.
– Или, может, его случайно завесили – ну, не знаю, чем-нибудь?
– Не-а.
– Невероятно, просто невероятно. И довольно тревожно. У меня такое чувство, будто я попытался обналичить один из выданных Господом Богом чеков, а тот оказался недействительным.
Увы, Джон, это записывать не стоит. Я этот образ уже раньше использовал. Многажды использовал.
* * *
Где же тот галстук? Куда подевался? Глупо так нервничать из-за подобной мелочи, но меня не покидает ощущение, что, если вынуть хотя бы один кирпичик, все здание разом обрушится и погребет меня под собой. Не ведать о чем-то – для меня непозволительная роскошь. Ведь тогда я буду вынужден признать, что при всем моем хвастовстве и бахвальстве я оказался совсем ненаблюдательным. Тогда я буду вынужден признать, что на самом деле я очень мало замечал в окружающем мире, до ужаса мало ухватывал глазами. Мне же не было надобности внимательно смотреть на окружающие предметы, не было надобности останавливать на них взгляд, они там были постоянно. А теперь, если только я не знаю наверняка, что они тут, ничего постоянного вообще не остается, и такая вот пустячная загадка наводит на мысль: сколько же из того, что, по моим представлениям, находится здесь, на самом деле здесь уже не находится? О боже.
* * *
– Держите, Пол.
– Неразбавленное?
– Естественно.
– Ваше здоровье.
– Ваше.
– Знаете что, Джон?
– Что?
– Пожалуй, то, что вы здесь со мной, – едва ли не лучшее событие в моей теперешней жизни.
– Очень приятно слышать.
– Это не комплимент. Даже отвлекаясь от помощи в работе.
– Ну, спасибо. Очень вам признателен.
– А вам-то как тут? Нравится? Только честно, пожалуйста.
– Да, нравится. Очень будоражит ум, на что я и рассчитывал.
– По-вашему, дело и правда идет споро?
– Пожалуй, да. Но я ведь могу говорить только за себя. Я же не знаю, сколько вы обычно успевали за девять дней.
– Ну, обычно-то побольше, чем мы с вами сделали. Но поймите: я ведь опасался, что в своих нынешних обстоятельствах вообще не смогу работать. А мы действительно неплохо сработались, верно?
– Верно.
– И потрудились с толком, прямо на удивление, правда?
– Совершенно согласен.
– Не слишком я вел себя с вами… м-м-м… формалистски?
– Как-как?
– Как чересчур придирчивый формалист?
– Но вы же меня предупредили, Пол.
– Гм, черт, значит, так оно все-таки и было.
– Нет. В общем, нет. Ну, послушайте, чего уж там говорить: самым уживчивым человеком на свете вас никак не назовешь. Я был бы лжецом, если бы делал вид, что с вами очень легко ладить. Но, повторяю, вы, во-первых, меня предупредили.
– А во-вторых?
– Н-да… гм… собственно, никакого «во-вторых» нет.
– Вот как. А я-то надеялся, вы скажете, что для вас большая честь работать со мной над этой книгой. Последним и, хочу думать, лучшим моим произведением.
– Пол, но это же само собой разумеется.
– Ах так. Благодарю. Ну что ж. Какой сегодня день?
– Пятница.
– Пятница. Верно. Значит, завтра, надо полагать, вы уезжаете?
– Да, мне действительно надо съездить в Лондон. Думаю, это не сильно осложнит вам жизнь, а, Пол? Мы же с вами договорились, что на выходные я возвращаюсь в город, так ведь?
– Да, безусловно.
– Наверное, двинусь сразу после…
– Была у меня, правда, одна мыслишка…
– Какая?
– Но я ведь не знаю, насколько вы будете заняты…
– Скорее всего буду весьма занят. Я ведь не был дома больше недели. Там, как всегда, накопилась электронная почта, факсы, письма, и на все надо ответить. Так о чем вы хотели спросить?
– Да вот если у вас найдется пара часиков, которые не на что убить, – но только в том случае, если действительно выдастся часа два…
– Вполне возможно.
– Мне нужно, чтобы вы провели одну разведработу для следующей главы моей книги. Понимаете, если вы с этим заданием справитесь за выходные, то в понедельник или вторник уже незачем будет ехать в Лондон.
– А что конкретно от меня требуется?
– Заданий-то два, но зато никаких разъездов: оба объекта в двух шагах друг от друга.
– А может быть, расскажете мне толком, что от меня требуется?
– В Национальной галерее есть автопортрет Рембрандта. На самом деле их там два, но я имею в виду мое самое любимое полотно из всех, что только есть на свете. В новой главе, за которую мы скоро возьмемся, я хочу о нем написать. Коротко говоря, речь пойдет о концепции автопортрета вообще, особенно при условии, что человек слеп. Я собираюсь назвать главу «Меланхолия анатомии» [10]10
Обыгрывается название трактата английского философа-моралиста Роберта Бёртона (1577–1640) «Анатомия меланхолии».
[Закрыть].
– Угу.
– Н-да, вся тонкость до публики явно не дошла.
– Что, простите?
– Ничего, проехали. Словом, суть, которую я сейчас грубо упрощаю, состоит в том, что все великие автопортреты написаны так, словно их создавали слепцы, и… Господи, в таком изложении мысль кажется жутко банальной, но, может быть, вы уловили мой замысел?
– Пожалуй, да. Значит, вы хотите, чтобы я?..
– Мне нужно тщательное, подробнейшее описание именно этого портрета. Из тех, что висят в Национальной галерее, он – постарше. Вообще-то он приобретен позднее, но сам Рембрандт там старше, заметно старше. Если память мне не изменяет, он был написан за несколько дней до смерти автора. В сувенирном киоске наверняка продаются открытки с этим автопортретом. Если увидите, купите и привезите. В противном случае мне придется просить вас тщательно изучить картину и записать все до мельчайших подробностей. Понятно? Чтобы я смог его воспроизвести. Видали, наверное, как студент художественного училища усаживается перед портретом и пишет копию? Так вот, перед вами задача весьма похожая. Только пользоваться нужно не красками, а словами.
– Да, это можно.
– Но знаете, что я подумал? Даже если вам и удастся найти открытку, все равно лучше бы, не жалея времени, хорошенько изучить портрет. Внимательно вглядеться в мазки. Это отнимет не более получаса – из всех ваших выходных.
– Да ради бога.
– Еще мне бы хотелось – не спрашивайте зачем, – чтобы в том же сувенирном киоске вы купили картинку-головоломку с этим портретом Рембрандта.
– Головоломку?!
– Я точно знаю, что в продаже бывают головоломки по составлению некоторых картин из собрания Национальной галереи. Например, «Послы» Гольбейна совершенно точно есть в виде головоломки. Возможно, «Купальщики» [11]11
Точное название картины – «Купание в Аньере».
[Закрыть]Сёра. Ах да, и «Благовещение со св. Эмидием» Кривелли. Сильно сомневаюсь, что найдется и этот Рембрандт. Кому охота возиться с картинкой-головоломкой, собирая портрет чудного старика в халате, нос картошкой? Но все же гляньте, хорошо?
– Это ваша вторая просьба?
– Нет, все еще первая. А вторая… Прямо перед Национальной галереей находится, само собой, Трафальгарская площадь. И как вам, наверное, известно, в трех из ее четырех углов стоит по статуе. Не считая, конечно, колонны Нельсона. Речь, стало быть, о тех, что по углам, а не в середине.
– Естественно. Знаю эти статуи, как не знать. Но разве их там только три, а не четыре?
– Именно. Ну и – опять же не спрашивайте зачем – я хочу, чтобы, вернувшись сюда, вы точно сообщили мне два конкретных факта, связанных с этими статуями. Во-первых, который из четырех постаментов пустует? Тот, который в дальнем правом углу, или же тот, который в ближнем левом…
– Мне кажется, я уже знаю ответ. Не тот ли, что в дальнем левом углу?
– Если бы я помнил, не стал бы вас и просить. Так что перепроверьте, пожалуйста. Это ведь нужно для книги, а не для застольной беседы. Необходимо уточнить все детали.
– Хорошо.
– Второе: чьи это монументы? Нужно выяснить все три имени. Одна статуя почти наверняка Георга Четвертого. А остальные? Если я и знал прежде, то теперь уж не помню. И непременно уточните, кто именно где стоит.
– Всё?
– Всё. Как видите, потребуется разок съездить на Трафальгарскую площадь, только и всего. Но, повторяю, при одном условии: если от этого не пострадают ваши выходные.
– Нет, ничуть. Я же все равно буду мотаться по городу. Да мне это только на пользу. Я уж сто лет не был в Национальной галерее.
– И когда я вас увижу?
– Значит, так: я думаю уехать завтра утром, сразу после завтрака, а вернусь в воскресенье или раненько в понедельник. Хорошо?
– Прекрасно. Потому что в понедельник утром мне надо позвонить по телефону, и я рассчитываю на вашу помощь. Хочу поговорить с литагентом.
– Ради бога. Скорее всего я вернусь в воскресенье вечером. Но очень поздно. Не ждите меня, ложитесь спать. Я сам отопру дверь.
– Хорошо.
– И еще одно. Пол.
– Да?
– Нельзя ли мне до отъезда получить от вас чек?
– Чек?
– Ну да.
– Но мне казалось, мы договорились, что – во всяком случае, поначалу – аванс вам не положен. Пока мы оба не удостоверимся, что подходим друг другу.
– А за компьютер? Вы же мне еще не заплатили за компьютер.
– За компьютер? Разве? Господи помилуй, а ведь вы правы. Я настолько увлекся книгой, что совершенно забыл про компьютер. Какая промашка с моей стороны, просто срам. Безусловно, я сейчас же выпишу вам чек. Раз вы того хотите. Но вам удастся положить деньги в банк? В субботу, я имею в виду?
– Верно, не удастся.
– Как же быть?
– Если я поеду в понедельник, то рано утром смогу положить их в Чиппинг-Кэмпдене.
– Но вы же говорили, что скорее всего вернетесь в воскресенье?
– Тогда в выходные просто отправлю чек по почте в свое отделение «Барклиз бэнк».
– А так можно?
– Ну да.
– Конечно, я дам вам чек. Чековая книжка лежит в ящике секретера. В верхнем ящике. Будьте любезны…
– Вот, пожалуйста.
– Благодарю вас, Джон.
* * *
Девять дней. Уже девять дней. Помню ли я свою прежнюю жизнь до появления Джона, свой каждодневный круг забот? Боже мой, еще бы не помнить! И при всем при том, при всем при том, случись ему выпасть из моей теперешней жизни, трудненько мне было бы начинать все сначала. Да, верно, я всегда был нелюдимом, но ведь нелюдим – это тот, кто сам выбирает одиночество, – вернее, он хочет только, чтобы его оставили в покое. Есть огромнейшая разница между одиночеством и стремлением остаться одному; так, мазохист, наслаждающийся особой, желанной болью, испытывает, вероятно, подлинные страдания, когда его просто-напросто мучают. Ну что ж, пока еще рано судить.
* * *
– Джаз! Джаз! Джаз!
Джаз! Джаз! Джаз!
Теперь звуком трубы скарлаттинским
Звенит весь остров Манхаттенский,
Где ритмы давно blase [13]13
Здесь: притупились (фр.).
[Закрыть],
Где блюзы и джазы
Слезу вышибут сразу,
Как «Рапсодия в Blu-é» [14]14
Шутливая «французская» форма английского прилагательного «синий», означающего также стиль блюз.
[Закрыть]!
Джаз! Джа… Эй!
Кто там?
Кто это? Есть тут кто-нибудь? Это вы, Райдер?
Джон? Это вы? Вы тут? Есть здесь кто-нибудь?
* * *
– Доброе утро, Пол. Хорошо спали?
– Нет, плохо.
– Очень жаль. Надеюсь, я вас не разбудил, когда входил в дом? Я старался двигаться как можно тише.
– Скажите-ка мне вот что. Когда именно вы приехали?
– Поздно. После полуночи. Около часу. Поужинал с приятелем в Ноттинг-Хилле и покатил прямиком сюда.
– Значит, около одиннадцати вас еще не было?
– Около одиннадцати? Вчера около одиннадцати?
– Да, да, вчера около одиннадцати! О каких еще одиннадцати часах я мог бы вести речь?!
– Ну-ну, не надо так кипятиться. Я же вас предупреждал: ложитесь, не ждите меня.
– Я и не ждал. Ох, послушайте… Извините, Джон. Сегодня я с утра сам не свой. Тут произошел какой-то жуткий случай.
– Неужели? И что же именно?
– Да так, ничего. Словами и не опишешь, получится очень глупо.
– Скажите же, что стряслось?
– Оставим лучше этот разговор, хорошо? Возможно, мне просто помстилось. Такое со мной бывает. Удалось вам разузнать то, о чем я просил?
– Открытку я нашел. На всякий случай купил три штуки. И картинку-головоломку тоже.
– Как, и головоломку? С автопортретом Рембрандта?
– Ага.
– Невероятно. Ай да Джон, удивил!
– Продавалась наряду с другими, о которых вы говорили.
– Вот уж нежданная удача. А я был уверен, что придется просить вас самому ее наскоро смастерить: разрезать одну из открыток на неровные кусочки, как в картинках-головоломках.
– Простите, не понимаю, о чем вы. Помните, вы ведь так мне и не сказали, для чего вам, собственно, понадобилась эта головоломка. Кстати, налить вам еще чашечку?
– Спасибо. И на сей раз, если можно, положите немножко сахару.
– Сколько угодно.
Вот, держите. Так. Теперь перейдем к головоломке?
– Видите ли, здесь весь фокус в том, что это может сработать, а может и не сработать. Я хотел, вернее , хочу,чтобы вы – раз уж вам так несказанно повезло, – чтобы вы составили картину целиком, кроме тех кусочков, на которых глаза. Понимаете? Автопортрет без глаз. Нечто в этом духе.
– Понятно.
– Я уже говорил, это может сработать. Что насчет Трафальгарской площади?
– А, вот это оказалось очень интересно.
– Да?
– Ну, что касается трех статуй, то выяснить, кого они изображают, было проще простого. Погодите, где-то у меня тут записано. Или, может, погодим, сначала позавтракаем?
– Прошу вас. Если записки у вас под рукой, прочтите их мне прямо сейчас.
– Вот они. Немного помялись, но разобрать можно. Итак: в дальнем правом углу Трафальгарской площади стоит, как вы правильно сказали, статуя Георга Четвертого.
– Угу.
– В ближнем правом углу – генерал-майора сэра Генри Хавлока [15]15
Генри Хавлок (1795–1857) – офицер английской армии, за воинскую доблесть награжденный орденом Бани и возведенный в рыцарское звание.
[Закрыть], К.О.Б. [16]16
Кавалер ордена Бани.
[Закрыть], – один бог знает, что значат эти буквы. Надо полагать, «кто-то там королевский». Может, «Королевский орденоносец»?
– Понятия не имею. Дальше.
– На постаменте выбито его изречение времен Индийской кампании 1857 года. Хотите послушать?
– Да, пожалуй.
– «Солдаты!»
– Джон, умоляю! Я ведь вам уже говорил. Вы не осознаете мощи собственного голоса.
– Извините. «Солдаты. Ваши труды и лишения, ваши страдания и героизм никогда не будут забыты благодарной родиной».
– Фу! Заметьте, он ставит лишения и страдания выше героизма. Типичные сопли, которые любят разводить вояки. А сам небось кровожадный душегуб.
– В ближнем левом углу стоит Чарльз Джеймс Нейпир [17]17
Чарльз Джеймс Нейпир (1782–1853) – английский военачальник и государственный деятель.
[Закрыть]. Чем-то это имя знакомо.
– Еще один генерал.
– Правда? А я было подумал – ученый. Даты жизни такие: MDCLXXXII – MDCCCLIII. Если хотите, могу вам их перевести в нормальные цифры.
– Не трудитесь. Значит, как вы и предполагали, пустует постамент в дальнем левом углу?
– Да, но тут, Пол, и заключается самое интересное. Лишнее доказательство того, как легко оторваться от действительности, даже если вы не…
– И что же там такого интересного?
– Он уже не пустует.
– Что?!
– Краем уха я слышал про некие планы на сей счет, но понятия не имел, что их уже осуществили.
– О чем все-таки вы толкуете?
– На четвертом постаменте высится новая статуя.
– Статуя? Чья?
– Как вы думаете?
– Джон, я не в настроении, да и не в силах играть в угадайку.
– Дианы!
– Кого?
– Дианы. Принцессы Дианы. Помните, она погибла в Париже в автокатастрофе? Примерно полтора года назад.
– Благодарю вас, Джон, помню, я тогда жебыл в курсе ее гибели. Хоть я и слеп, но не глух. Когда рыдает весь земной шар, даже я это волей-неволей замечаю. Но вы-то о чем толкуете? Неужели теперь на Трафальгарской площади установлена статуя Дианы?
– Вот именно.
– Но в это невозможно поверить. Как только допустили подобное безобразие?
– Провели небось какое-нибудь всенародное голосование… Как там оно называется?.. Референдум, и Диана намного обогнала других кандидатов.
– Ну и ну!
Знаете, Джон, эта новость меня глубоко поразила. Я уж начинаю думать, может, я и вправду создан жить отшельником.
– Это, видимо, произошло очень быстро. Даже я не знал.
– Ну и как она выглядит?
– Статуя? Довольно безобразно. Голова высоко задрана, волосы развеваются на ветру, юбка колоколом стоит вокруг ног. А на руках она держит ребенка.
– Одного из своих?
– Кого своих?
– Детей, милый мой, детей! Одного из своих отпрысков? Или какого-нибудь маленького африканца?
– А-а. Да пожалуй что африканца. Или индийца. В общем, изваяние призвано изобразить Диану как ангела милосердия. Мать Диана из Калькутты.
– Так-так-так. Выходит, моему маленькому изящному замыслу капут.
– А что за замысел?
– Да я рассчитывал использовать этот пустующий постамент для некоего символического литературного построения. Быть может, оно и к лучшему, что он уже не пустует. Не исключено ведь, что получилось бы невыносимо претенциозно.
* * *
– Послушайте, Пол…
– Да?
– М-м-м… В том случае, если мысль моя покажется вам глупой, раздолбайте ее сразу.
– Хорошо.
– А… гм… нельзя ли все же как-нибудь использовать символизм Дианиного изваяния?
– Что вы хотите сказать?
– Несчастный случай… автомобильная авария… Ведь и вы, и она…
– Ого, Джон, возможно, в этом что-то есть.
– Спасибо. Я опасался, что вы сочтете мое предложение…
– Думаете, это не покажется слишком диким? Да нет, отчего бы? Во всяком случае, я сумею это подать. Вообще-то образ может получиться яркий, незабываемый. И – ну да, конечно! – я наконец-то пристрою давным-давно написанную статью; она ведь так и не опубликована.
– Извините, какую статью?
– Заметки, которые я набросал несколько лет назад, обо всем этом культе Дианы. Остолоп редактор из «Санди таймс» отверг их из-за чрезмерной «литературности». Естественно, это литература! А если произведение изящной словесности вам ни к чему, помилуйте, зачем вообще заказывать мне статью?! Джон?
– Извините. Задумался кое о чем.
– Знаете, если вы находитесь в обществе слепца, остерегайтесь замолкать надолго слишком часто. Слепые относятся к молчанию очень серьезно. Каждую – каждую– такую паузу они толкуют точно так же, как вы, например, можете истолковать случайную фразу, брошенную в застольной беседе. «А что он под этим подразумевал?» – приметесь думать вы. И вопрос этот будет терзать вас весь вечер. Даже ночью, в постели, он тоже не даст вам покоя. Так вот, для слепца молчание столь же значимо. Порой – вернее, часто, слишком часто, черт возьми, – Чарльз, мой славный приятель Чарльз во время наших с ним прогулок ни с того ни с сего внезапно замолкал, и мы даже цапались, причем цапались всерьез, если я пробовал допытаться, что у него на уме.
– Готов рассказать вам, что у меня на уме.
– Слушаю.
– Вы подумываете о том, сказали вы, чтобы использовать кое-что из написанного ранее, и это меня неприятно поразило.
– Поразило? Господи, и чем же это вас поразило?
– Ну как же. Я ведь уже стал считать эту… то, над чем мы с вами работаем, произведением, построенным на сугубо личных переживаниях, для меня эта книга выросла из ваших страданий, одиночества, вашего…
– Да, да. Не тяните кота за хвост, молодой человек!
– И тут вдруг вы решаете вставить в нее нечто, написанное гораздо раньше. Знаете, при всем моем к вам уважении это мне почему-то представляется несколько циничным.
* * *
– Должен сказать, Джон, ваша наивность меня трогает.
– Вы считаете, я наивен?
– По-моему, очень мило, что у вас столь романтические, возвышенные воззрения на профессию литератора. И как мне ни тошно развеивать ваши иллюзии, придется тем не менее сказать, что мы, писатели, – самые большие радетели об окружающей среде, каких только можно вообразить. Мы постоянно ищем способы повторно использовать собственную продукцию.
– И в качестве новинки подаете нечто, состряпанное много лет назад? Разве это не надувательство читателей?
– Читатели? А кто это? Что они знают-то? Представление публики о рождении литературного детища в точности сравнимо , в точности сравнимос представлением маленьких детей о рождении младенца. Большинство полагает, что книжки приносит аист.
– Уж вы меня простите, Пол, но сдается мне, сам не знаю почему, что вы уже это говорили, а?
– Ей-богу, Джон, это уж слишком. Насколько я помню, в моем объявлении насчет помощника ни слова не говорилось о том, что от него требуется давать советы, как мне писать мою книгу.
– Извините, я совсем не хотел вас обидеть. Однако же несколько моих предложений вы сочли полезными.
– Так вам нужно письменное выражение признательности? Хотите, чтобы я сделал сноску, указав, что именно вы подали мне мысль насчет Дианы? А мысль эта – мне все больше, честно говоря, кажется – и есть как раз та овчинка, что не стоит выделки.
– Ладно, Пол, больше не пророню ни слова. Просто буду писать под диктовку, как секретарь, – вы ведь затем меня и наняли.
– Только, пожалуйста, не надо на меня дуться. Я уже говорил и только что повторил,Джон, что я в восторге от нашего сотрудничества, поистине в восторге. Однако в данном случае меня не покидает ощущение, что вы преступили некую черту – грань между тем, что вы вольны говорить, а чего говорить не стоит.
– Заверяю вас, это больше не повторится.
– Ох, умоляю . Умоляю.Только без обид. Я этого не выношу. Давайте просто забудем данный эпизод. Вдобавок на самом деле, Джон, на самом-то деле я вынужден по зрелом размышлении признать, что вы правы. Вот. Каюсь.
– Прав в чем?
– В такой книге, как эта, мне не следует использовать ничего, бывшего в употреблении. Это и впрямь отдает цинизмом. И не только цинизмом, но еще и капитулянтством. Да и по тону статья совершенно не подходит. Слишком уж она журналистская, слишком «актуальная». Вы совершенно правы. Если я не могу сказать ничего нового, незачем и браться за такую книгу. Ну-с, принимаете мои извинения? Еще раз?
– Конечно, принимаю.
– Прекрасно. Так. Кажется, на днях я уже обмолвился, что хотел бы позвонить литагенту и тут мне нужна ваша помощь. Я не разговаривал с Эндрю целую вечность. И естественно, ничего ему еще не говорил о новой книге. Да и о вас. Мы с ним несколько потеряли друг друга из виду.
– Ясно. Значит, сами вы звонить не можете?
– Обычно за меня звонит миссис Килбрайд. Не то чтобы теперь приходилось это делать очень часто. Будьте добры, наберите номер.
– Пожалуйста.
– Телефон такой: 631–3341. Зовут его Эндрю Боулз. Да, Джон, прежде чем набирать…
– Да?
– Я буду говорить только с самим Эндрю. Пожалуйста, никаких секретарш. Если его на месте нет, просто повесьте трубку.
– Ладно.
– И еще одно. Не говорите ему, что это я звоню.
– Не говорить, что это вы? А что же прикажете мне сказать?
– Мы так давно не разговаривали, что он, полагаю, напрочь обо мне позабыл. И мне бы хотелось, чтобы звонок оказался для него сюрпризом. А уж приятным или нет, это другой вопрос.
– А-а, понял. Ладно. Извините, какой, вы сказали, номер?
– 6–3-1.
– И дальше?
– 3–3-4–1.
– Свободно.
Здравствуйте. Нельзя ли поговорить с Эндрю Боулзом?
Алло? Я хотел бы поговорить с Эндрю Боулзом.
А-а, понятно. Не скажете ли, надолго?
Ясно, ясно.
Нет. Нет, я перезвоню, когда он вернется. Спасибо.
Всего доброго.
– Он вышел?
– Уехал.
– Уехал? Куда?
– На Дальний Восток. Гонконг, Австралия, потом домой через Сан-Франциско и Нью-Йорк. Будет в отъезде еще самое меньшее полмесяца.
– Вон оно как. Ну что ж. По крайней мере к тому времени, когда мы с ним сможем наконец поговорить, книга уже приобретет реальные очертания. А все-таки жаль. Было бы славно поболтать с Эндрю о том о сем – ведь сколько воды утекло… Прошло-то почти четыре года. Господи боже мой, целых четыре!
– Гм, Пол, ну что, начнем?
– Скажу вам без обиняков, Джон. Я устал. Очень, очень устал. По правде говоря, чем больше думаю о той работе, которую предстоит сегодня сделать, тем меньше чувствую в себе для этого сил. Я плохо спал ночь. Вы, естественно, мало что могли заметить из типичных признаков большого утомления. Ведь самый характерный из них – воспаленные глаза. Словом, хотелось бы сегодня утром отдохнуть. Отдохнуть и подумать. Не возражаете?
– Конечно нет. Могу я тем временем заняться чем-нибудь полезным?
– Безусловно. Расскажите мне, например, про Рембрандта. Я о нем как раз и буду думать. Не могу же я с бухты-барахты, не поразмыслив хорошенько, браться за книгу.
– Согласен.
– А потом, пока я буду отдыхать, вы, может, попытаетесь собрать картинку-головоломку? Как вы на это смотрите?
– Одобрительно. Только если вы не будете рассчитывать, что я сложу ее точнехонько к тому времени, как вы наберетесь сил для дальнейших трудов. Я, знаете ли, давненько не складывал головоломок.
– Картинок-головоломок. Головоломки, к вашему сведению, бывают самые разные.
– Да? Вот не знал.
– Теперь это мало кто знает. Так или иначе, рассчитывать на то, что вы ее быстро сложите, я не буду. Однако чем скорее начнете, тем быстрее закончите.
– Бесспорно.
– Ну-с, приступим к нашему Рембрандту?
– Постойте, я ведь все записал. Ага, вот. Итак. Название: «Автопортрет в возрасте…»
– Шестидесяти трех лет?
– Правильно. И был написан в?..
– Тысяча шестьсот шестьдесят девятом?








