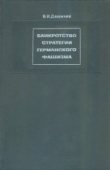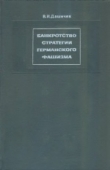Текст книги "В бурях нашего века (Записки разведчика-антифашиста)"
Автор книги: Герхард Кегель
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 35 страниц)
Тем временем стемнело. Около полуночи поступил приказ выступать. Находясь в машине с радиостанцией, я был в курсе самых последних событий. Мне сказали, что путь наш лежал в направлении Лицманштадта – так нацисты называли польский город Лодзь. Но затем поступили сведения, из которых следовало, что советские головные танки уже обошли нас. Поэтому направление нашего отхода неоднократно менялось. Но каждый раз советские танки, казалось, были не позади нас, а где-то рядом или впереди.
Для меня создалась сложная ситуация. Я по-прежнему намеревался укрыться где-нибудь в подходящем месте и переждать, пока фронт переместится на запад, а затем сдаться в плен и дать на допросе показания – я понимал, что передовые части не имели никакого времени для того, чтобы заниматься с отдельными военнопленными. Здесь мы оказались в "котле", который был без боев оставлен в тылу. И хотя нас уже давно окружили, мы все еще продолжали двигаться на запад.
Утром следующего дня после начала советского наступления наша колонна вступила в лесной массив. Машина с радиостанцией, в которой я ехал, встала кончилось горючее. Нам было велено разместиться на нескольких все еще бывших на ходу гусеничных бронетранспортерах, которые замыкали отступавшую колонну. Собственно, я хотел "планомерно" отстать. Но мне пришлось подчиниться приказу и взобраться на один из бронетранспортеров, в противном случае я рисковал быть расстрелянным на месте. Когда я взбирался на бронетранспортер, он медленно тронулся. При этом гусеница затянула мою левую ногу под крыло машины. Это были ужасные секунды. Бронетранспортер сразу остановился, и мне огромным напряжением сил удалось вытащить ногу, но казалось, что ступня оторвана. Я осторожно ощупал ногу и с облегчением увидел, что перелома не было. Сапог оказался разорванным на пятке. Местами была содрана кожа, растянуто сухожилие, но ступня, хотя и болела, осталась целой. На берцовой кости тоже была содрана кожа и зияла рана размером с крупную монету, на бедре имелась ссадина. Но в целом мне повезло.
Я перевязал ногу как только мог. Наступать на нее не решался – нога опухла. Я опасался, что мне не удастся снова натянуть сапог, который я снял, и подрезал голенище. К тому же было очень холодно, лежал глубокий снег. Санитара или медпункта поблизости не было. Но мне казалось, что я все же в состоянии передвигаться, припадая на больную ногу.
Случившееся со мной я попытался использовать в своих интересах, преувеличивая серьезность раны и трудности в ходьбе. Таким образом мне удалось избежать назначения в похоронную команду. Но угроза заражения крови была налицо.
ТРУДНЫЙ ОБРАТНЫЙ ПУТЬ В МОСКВУ И В БЕРЛИН
В ходе нашего дальнейшего отступления мое внимание привлекла подозрительная деятельность группы офицеров. Они согнали в одно место и построили всех солдат, способных еще передвигаться. Тот, кто не имел огнестрельного оружия, получил автомат или карабин. Были осмотрены и отобраны исправные танки, самоходные орудия и несколько грузовиков. Их баки были залиты остатками еще имевшегося горючего. Все это походило на подготовку к отчаянной попытке прорваться из стального кольца, которое все более сужалось вокруг нас.
Один из наиболее ретивых офицеров, какой-то капитан, хотел и меня загнать в эту группу солдат. Убедившись, однако, в том, что я ранен и едва передвигаюсь, он отстал от меня. Тем временем появилось несколько генералов, полковников и других старших офицеров. Они забрались в танки и самоходные орудия, на броне которых сидели вооруженные автоматами солдаты. К отъезду были готовы также бронетранспортеры с пехотинцами. Колонна двинулась в путь. Одному из подразделений было приказано задержать преследовавшие нас части Красной Армии. Остальные люди – раненые и больные – следовали за колонной в автобусах или грузовиках. Однако в баках большинства автомашин уже почти не имелось горючего.
Скоро мы остановились. Впереди шел бой. Скорее всего, путь отходившей колонне преградили советские танки. А вскоре откуда-то спереди был обстрелян и наш грузовик. Шофер свернул на какую-то лесную дорогу. Проехав несколько километров, наш грузовик остановился у дома лесника. "Всем сойти с машины, раздалась команда. – Дальше не поедем. Кончился бензин".
Люди растерянно стояли у грузовика. Затем довольно большая группа солдат и офицеров направилась в дом. Они сказали, что хотят посоветоваться, как пробраться в расположение немецких частей. Другая группа исчезла в лесу. Я тоже, прихрамывая, пошел в лес, заросший густым кустарником, намереваясь переждать здесь окончания боя, а потом сдаться в плен первым бойцам Красной Армии, которых повстречаю.
Я понимал, что все будет очень непросто. Где я смогу найти такого красноармейца, который после жарких боев последних дней поверил бы человеку в форме гитлеровского вермахта, что он антифашист и разведчик Красной Армии, боровшийся за социализм и Советский Союз, рискуя жизнью? Я знал, что предстоящие два-три дня окажутся нелегкими, но все же не подозревал, какие трудности ожидали меня.
А пока я сидел в совершенно незнакомом мне лесу где-то между Радомом и Лодзью. Толщина снежного покрова достигала не менее 20 сантиметров. Я стал замерзать, нарастало чувство голода. Я уже сутки ничего не ел. Мой вещмешок, в котором вместе с пожитками был и неприкосновенный запас, остался в одной из сгоревших автомашин. При мне имелась лишь одна фляга.
Примостившись на стволе поваленного дерева, я размышлял, что же мне делать. Оставаться здесь слишком долго было нельзя. Стало совсем темно. Вдруг рядом неожиданно появился фельдфебель во главе группы из восьми солдат. А между тем до меня все громче доносились русская речь и шум моторов. Мы, очевидно, находились поблизости от дороги, по которой непрерывно шли машины. Возможно, это было шоссе, по которому быстро продвигались вперед части Красной Армии.
Фельдфебель предложил мне присоединиться к его группе. Поблагодарив за готовность помочь, я сказал, что у меня сильно повреждена нога и я фактически почти не могу передвигаться. Я, конечно, попытаюсь не отставать от группы, но если мне это не удастся, то пусть уж он не обращает на меня внимания – ведь конечно же будет лучше, если хоть девять бойцов доберутся до расположения немецких частей. Если бы я отклонил его предложение, то был бы на месте расстрелян.
Сверившись с картой, команда самоубийц двинулась в путь. Я заковылял вслед за ней, постепенно увеличивая расстояние между нами. Когда оно достигло примерно 100 метров, я ненадолго остановился. Наконец расстояние увеличилось настолько, что в сгущавшейся темноте никого не стало видно. Прошло еще несколько минут. Когда я убедился, что за мной никто не вернется, я направился туда, где слышались шум моторов и русская речь. Я выбрался на дорогу, которая вела к шоссе, и двинулся по ней.
Наконец я очутился на перекрестке. По шоссе в обоих направлениях шли машины. Стрельба утихла, и лишь редкие выстрелы и короткие автоматные очереди говорили о том, что в лесу все еще неспокойно.
Сдача в плен на дорожном перекрестке
На перекрестке стоял советский солдат с автоматом, видимо регулировщик. Подняв руки в знак своих мирных намерений, я подошел к нему и сказал по-русски, что я немецкий солдат и хочу добровольно сдаться в плен. Советский солдат, совсем молодой еще человек, сначала потребовал, чтобы я отошел от него на пять шагов. Он, кажется, мне не верил и опасался подпускать меня близко к себе. Потом он приказал мне бросить пистолет, который все еще болтался у меня на ремне. Я бросил в канаву портупею с кобурой, где был пистолет, и снова поднял руки вверх.
Регулировщик старался уговорить нескольких шоферов ехавших в тыл грузовиков довезти меня до сборного пункта военнопленных, который находится, как он говорил, в одной из близлежащих деревень. Но поначалу все было напрасно, никто не хотел брать меня с собой. Наконец регулировщику удалось все же уговорить ездового конной упряжки, которую сопровождали несколько солдат на конях. Они согласились доставить меня до ближайшей деревни и сдать там в комендатуру.
По пути сопровождавшие меня солдаты расспрашивали, кто я такой, где выучил русский язык, долго ли, по моему мнению, продлится еще война. Потом они потребовали мои документы. Кроме воинского удостоверения со мной было еще мое дипломатическое удостоверение, которое я взял на фронт, чтобы мне быстрее поверили, когда, оказавшись по другую сторону баррикады, я буду объяснять, кто я такой. Один из солдат порвал мои документы в клочья и бросил их в снег. Я стал объяснять ему, что эти документы представляют интерес для Красной Армии, но он сказал в ответ, что мне, военнопленному, эти удостоверения больше не нужны. Наконец мы добрались до проселочной дороги, которая выходила на шоссе. Мне было сказано, чтобы я шел все прямо, и я доберусь до сборного пункта военнопленных. У них же самих нет больше времени, чтобы доставить меня до места. И они поехали дальше.
И вот я стою темной ночью один на этой проселочной дороге. В лесу я чувствовал себя более уверенно. Здесь еще совсем недавно шел жестокий бой. На разрытом гусеницами танков снегу лежали раздавленные и обледеневшие уже трупы, и кто это – немецкие или советские солдаты, определить было уже невозможно. Убитые лежали и на обочине дороги. Повсюду стояли сгоревшие и брошенные автомашины, были разбросаны обломки тягачей и другой техники.
Примерно в двухстах метрах от шоссе у крестьянского дома стоял советский часовой. К тому времени ко мне присоединился другой немецкий солдат, который, как и я, искал сборный пункт военнопленных. Через десять минут нас было уже шестеро. Часовой у дома, казалось, нас не замечал.
Подняв руки, я подошел к нему и, сказав, что мы добровольно сдались в плен, спросил, что нам делать. Часовой, стоявший на посту у дома, где квартировал советский майор, комендант поселка, посоветовал мне снять унтер-офицерские погоны переводчика. Затем он предложил мне подождать на другой стороне дороги, сказав, что сейчас спросит майора. Через некоторое время он вышел из дома и отвел нас в комнату пустого соседнего дома, заметив, что здесь мы можем переночевать, а утром нас отведут на сборный пункт военнопленных.
Едва мы улеглись спать на чисто вымытом деревянном полу, как часовой привел в нашу комнату еще пятерых немецких солдат, искавших дорогу в плен. Среди них находился молодой человек из Данцига, у которого буквально только что была прострелена грудь. Пуля прошла насквозь. Как ни странно, крови он потерял совсем немного.
Часовой трогательно заботился о раненом. Он раздобыл водки, чтобы продезинфицировать рану, и твердо потребовал, чтобы трое или четверо немецких военнопленных отдали свои перевязочные пакеты, зашитые в их кители. Ведь добиться этого одними лишь уговорами было невозможно. Затем он помог сделать пленному солдату перевязку. Между прочим, он так хорошо обработал и перевязал рану, что молодой солдат из Данцига – я, к сожалению, забыл его фамилию – без особых трудностей выдержал тяжелый трехдневный переход до лагеря военнопленных.
Это искреннее стремление советского часового сохранить жизнь военнопленному "фрицу" как-то сблизило нас с ним. Мы побеседовали с ним немного, а затем он вновь встал на свой пост перед домом коменданта поселка.
Немного позднее к нам присоединились еще трое немецких солдат, которые тоже решили сдаться в плен.
Тем временем часовой разбудил военного коменданта. Я обратился к нему с просьбой выслушать меня, заявив, что я участвовал в борьбе против Гитлера. Он, казалось, был готов поверить мне, но все же заметил, что, возможно, я говорю правду, а может быть, и нет. Ведь он же не может проверить. Он дал мне совет дать показания и запротоколировать все это в лагере для военнопленных. Утром, сказал он, нам следует пойти на сборный пункт военнопленных, расположенный на другом конце поселка. Но у него нет никого, кто мог бы сопровождать нас.
Услышав это, я попросил его дать мне справку, подтверждающую, что он приказал мне доставить на сборный пункт группу поименно перечисленных в данной справке военнопленных и что мы сдались в советский плен добровольно. Майор согласился. Я быстро составил список пленных, майор подписал его и поставил печать. Этот приобретший силу документа список оказался чрезвычайно полезным. Когда мы на следующий день направились без сопровождающего солдата к сборному пункту – а ведь шла целая группа солдат в немецкой форме, – то, естественно, привлекали к себе внимание. По пути нас неоднократно останавливали красноармейцы. Поскольку здесь совсем недавно шли тяжелые бои, отношение к нам, солдатам фашистского вермахта, было далеко не дружелюбное. Но благодаря моей драгоценной "справке", предъявляя которую я неизменно по военному докладывал, кто мы такие и куда идем, все окончилось благополучно.
Гитлеровская армия без нацистов?
На сборном пункте, где я в последний раз доложил о доверенной мне группе и затем сдал свою "справку", как раз шло построение колонны, которая должна была направиться в лагерь военнопленных. В колонне было несколько тысяч человек. Никто не знал, куда лежал наш путь. Моя попытка объяснить, кто я такой, успеха не имела. Ни у кого не было времени выслушать меня и записать мои показания. Один из советских переводчиков в ответ на мое обращение посоветовал мне не распространяться о том, что я коммунист, пока мы не доберемся до настоящего лагеря военнопленных.
Я понял этот совет лишь тогда, когда, отвечая на привале на вопрос одного из сопровождавших колонну советских солдат, честно признался ему, что я член коммунистической партии. Услышав это, он потребовал, чтобы я показал ему свой партбилет. У меня, разумеется, не было его с собой – я уничтожил свой партбилет после ареста Ильзы Штёбе. Кроме того, объяснил я солдату, будучи солдатом фашистского вермахта, я просто не мог хранить при себе партбилет.
Когда я немного огляделся и поговорил с шедшими вместе со мной пленными, я понял суть первой реакции некоторых советских солдат на мои утверждения, что я коммунист. Если судить по словам пленных из нашей колонны, то в гитлеровской армии вообще не было фашистов. По крайней мере каждый второй утверждал, что он либо член КПГ, либо всегда относился к коммунистам с симпатией, либо на каких-то выборах голосовал за КПГ, а сам он, как минимум, являлся социал-демократом.
Слыша подобные утверждения, диктовавшиеся чаще всего страхом перед возмездием, тот, кто не знал по собственному опыту положения в фашистском вермахте, не мог взять в толк, кто же, собственно, совершил все бесчисленные преступления, которыми запятнала себя гитлеровская армия. И нет ничего удивительного в том, что многие советские солдаты были убеждены: все "фрицы" – фашисты, им нельзя верить.
Марш, который я совершил вместе с этим полчищем полностью деморализованных военнопленных, остался в моей памяти как одно из самых неприятных событий в моей жизни. Все, что плохо лежало, немедленно исчезало. В первую из трех ночевок во время нашего перехода нас разместили в большом здании школы, примерно по 80 пленных в классной комнате. Мне потребовалось выйти на несколько минут во двор. Когда я вернулся, то не обнаружил своей шинели, которую оставил на полу, чтобы никто не занял моего места. Мои соседи, по их словам, ничего не заметили. Так я остался без шинели. Это было в январе 1945 года, мороз достигал 8 – 15 градусов. Я подобрал где-то рваное шерстяное одеяло, натянул его на плечи и опасливо следил за тем, чтобы его не украли. Во время следующего ночлега, когда я расположился на лестничной клетке какого-то бывшего помещичьего дома, один из бывших рядом "фронтовых товарищей" украл у меня очки. Поскольку я очень близорук и не мог обходиться без очков, то, чтобы не раздавить их, я спал в очках. Почувствовав, что их снимают, я очнулся, но не сразу пришел в себя. Когда же я проснулся совсем, то не обнаружил на темной лестничной клетке ни вора, ни очков. Это было для меня еще более тяжелой потерей, чем пропажа шинели.
Совершив трехдневный переход, который я выдержал несмотря на поврежденную ногу, мы наконец прибыли в пересыльный лагерь в Радоме.
Когда во время регистрации военнопленных я выразил пожелание сделать важное заявление и попросил занести его в протокол, это привлекло внимание одного из советских офицеров. Я рассказал ему, в чем дело. Обратив внимание на укрывавшее мои плечи рваное одеяло, он спросил, где моя шинель. Я ответил, что у меня ее украли, а кто это сделал – не знаю. Тогда он послал куда-то молодого солдата, который вскоре вернулся с офицерской шинелью на меху. Шинель сослужила мне добрую службу.
Чтобы я не затерялся в огромной пестрой толпе пленных, этот офицер по договоренности с комендантом лагеря отвел меня в небольшой барак, где находилась группа немецких военнопленных, которым была поручена организация самоуправления в лагере. Там сразу же пригодилось мое знание русского языка. Потом кто-то спросил меня, где мой котелок, – вновь прибывших военнопленных после трехдневного марша кормили супом. Котелка у меня не было, но кто-то подарил мне консервную банку с проволочной ручкой. Я получил кусок хлеба и пол-литра горохового супа.
А когда появилась приветливая советская женщина-врач, чтобы осмотреть мою поврежденную ногу, то мне показалось, что я попал в санаторий. Я впервые стащил сапог с больной ноги. К гноившейся, судя по всему, глубокой ране присохли куски кожи от сапога и клочья шерсти. Но гангрены пока еще не было. Врач велела мне распарить ногу в ведре горячей воды, сказав, что через час придет снова. Она действительно пришла, промыла и продезинфицировала рану. Затем она перевязала ногу, сказав, что мне очень повезло. Рана на голени, которую я смог перевязать сам, выглядела намного лучше; боль еще чувствовалась, но голень заживала без осложнений.
В тот же день я с удовольствием воспользовался возможностью основательно помыться в лагерной бане и побриться. Мне отвели место в бараке, где находились пленные, обеспечивавшие самоуправление в лагере. Разместившись там, я крепко уснул, будучи уверен, что теперь все будет в порядке.
На следующее утро – это было, кажется, 20 января 1945 года – я сделал свое заявление. Я сообщил, что с 1931 года являюсь членом КПГ, вел нелегальную работу, борясь против Гитлера, что с 1934 года работал на Советский Союз, что, будучи сотрудником германского посольства в Варшаве, а позднее – посольства Германии в Москве, поддерживал связь с советскими товарищами, что и после нападения на Советский Союз я, оказавшись в Берлине, участвовал в антифашистской борьбе против Гитлера, а когда в ноябре 1944 года меня направили на фронт на Висле, я при первой же возможности перешел на советскую сторону.
Мои показания были занесены в протокол, который я подписал. Затем состоялась продолжительная дружеская беседа с советскими товарищами.
Я понимал, что для проверки моих показаний, которые, конечно, были не совсем обычными, потребуется определенное время. И поэтому для меня, собственно, явилось неожиданностью, когда два дня спустя меня вместе с другими военнопленными – их было четыре или пять тысяч – перевели в другой, более крупный лагерь военнопленных в районе Пулавы. Мне сказали, что мои протокольные показания также направлены в этот лагерь, но я тем не менее должен рассказать там обо всем руководителям лагеря.
50-километровый переход из Радома в Пулавы нам пришлось ввиду трудностей с размещением на ночь и с питанием проделать в течение одного дня. Поскольку я уже втянулся в ходьбу, больная нога не причиняла мне особого беспокойства.
Через Вислу мы переправились по понтонному мосту неподалеку от бывшего советского плацдарма "малая земля", где-то поблизости от позиций нашей роты подслушивания, откуда мы отошли ночью 14 января, чтобы не попасть под огненный вал советской артиллерии.
Сразу же по прибытии в лагерь военнопленных в Пулавы я обратился к одному из офицеров лагеря. Выслушав, он направил меня в походивший на замок дом, где размещались немецкие пленные солдаты.
Едва я устроился и задремал, как в помещение вошла советская девушка-солдат со списком в руках. Она назвала мою фамилию, сказав, что я должен явиться в канцелярию лагеря. Там уже находился протокол с моими показаниями. Мне было задано еще несколько дополнительных вопросов, на которые я ответил, как мог. Прежде всего у меня спросили фамилии, звания и должности советских товарищей, с которыми я поддерживал связь в Москве. Я мог назвать лишь две фамилии, причем счел необходимым заметить, что это могли быть и вымышленные фамилии-клички. Я сказал также, что, соблюдая правила конспирации, воздерживался от проявлений любопытства и не задавал лишних вопросов. Мне было достаточно знать, что я работал на Красную Армию, на Советский Союз. Кроме того, я назвал фамилии двух немецких товарищей, которые, как мне было известно, до начала войны жили в Советском Союзе и которые знали о моем участии в антифашистской борьбе. Живы ли еще эти товарищи и где они теперь находились, я, разумеется, не знал – ведь уже более трех с половиной лет шла ужасная война.
В лагере военнопленных в Лодзи
На следующее утро я в сопровождении молодого лейтенанта с автоматом снова тронулся в путь. Но, к сожалению, путь наш лежал на запад, а не на восток, как я рассчитывал, – мои надежды на это оказались преждевременными. Мы ехали в Лодзь, о взятии которой было сообщено несколько дней тому назад. Это путешествие длилось два дня. Когда мы прибыли в Лодзь, я особенно остро почувствовал, что город освобожден советскими войсками совсем недавно. Мне было очень не по себе оттого, что многие прохожие на улицах явно принимали меня за опасного военного преступника, который пытался скрыться, а теперь схвачен, – ведь на мне была немецкая военная форма и вел меня советский офицер с автоматом. Сопровождавший меня молодой советский лейтенант чувствовал себя явно не в своей тарелке. "Видишь, – сказал он мне, – как любят вас, немцев, здесь в Польше". Ему пришлось ограждать меня от гнева возмущенных людей, которые несколько раз задерживали нас, окружая плотным кольцом.
Люди несколько успокоились, когда им разъяснили, что я не имею отношения к разгулу террора эсэсовцев и гестапо, царившего здесь в последние дни перед освобождением города. Дело в том, что, когда в предместьях Лодзи неожиданно появились советские танки, эсэсовцы и гестаповцы подожгли большое здание, в котором находились сотни заключенных польских патриотов. Нескольким из них удалось взломать двери и выбежать из здания, но они были скошены пулеметным огнем. Кого не убили, тот сгорел. Здание сгорело дотла, и лишь после этого удалось вынести во двор обугленные трупы узников, где они все еще лежали, когда мы прибыли в Лодзь. Это было совсем рядом от места, где нас остановила разъяренная толпа людей, которая хотела расправиться со мной за такое преступление.
Итак, молодому лейтенанту стоило немало сил, чтобы доставить меня целым и невредимым в лагерь военнопленных в Лодзи. Там меня сразу же допросили, а затем поместили в небольшом бараке, где находились военнопленные немцы, отвечавшие за самоуправление. В их обязанности входило наряду с прочим обеспечение в лагере, под надзором советского персонала, порядка и безопасности, работы бани и кухни, проведение утренних и вечерних проверок на плацу и организация рабочих команд для выполнения различных, нередко срочных работ.
Лагерь был рассчитан на 3 – 4 тысячи человек – так, по крайней мере, думалось мне. Однако чаще всего там находилось вдвое больше людей. Число военнопленных, которые предпочли поднять руки вверх и сдаться, вместо того чтобы бессмысленно умирать за Гитлера и его преступный режим, оказалось неожиданно большим. Временами их просто было невозможно сосчитать. Иногда все мы в команде немецкого самоуправления оказывались в чрезвычайно трудном положении, когда вдруг среди ночи нам объявляли, что перед воротами до отказа переполненного лагеря стоит колонна военнопленных, скажем, численностью около двух тысяч человек, о которой никто нам заранее не сообщал и которую никто не ждал. Этих людей требовалось немедленно где-то разместить. Они проделали не один тяжелый переход при лютом морозе, в пути были потери, имелись больные. Лазарет и кухня работали всю ночь напролет.
Конечно, никто из старших по баракам не выражал восторга, когда в бараке, который был рассчитан на 400 человек и в котором уже находилось 800 военнопленных, надо было разместить еще 400 человек. А военнопленные старожилы лагеря чаще всего с пониманием реагировали на довод, что ведь и они сами могли бы оказаться в таком же положении – стоять на холоде после изнурительного марша перед воротами лагеря для военнопленных, и что они подумали бы, если бы им сказали, что их товарищи, находящиеся в уже переполненных, но теплых бараках, отказываются впустить их.
Но случалось, что люди не хотели проявлять понимания. Они просто отказывались потесниться на и без того уже узких нарах. Тогда приходилось прибегать к энергичным мерам. Иногда оказывалось необходимым даже вызывать представителя советской администрации лагеря. Обычно это помогало. Мне запомнился один случай, когда однажды ночью пришлось поднять и вывести из барака всех людей. "Старикам" и вновь прибывшим было приказано построиться перед бараком, а старшему по бараку выпала неблагодарная задача выкроить каждому место на нарах.
Естественно, что, когда неожиданно прибывала группа военнопленных, о которой не сообщалось заранее, возникали трудности с питанием. Иногда приходилось даже сокращать пайки, чтобы каждый мог получить хоть немного. Но с голоду никто не умер.
Среди военнопленных имелись, однако, и такие, кто считал, что не сможет выдержать два-три дня без нормальной еды. Встречались и люди, настолько сбитые с толку антисоветской фашистской пропагандой, что они были убеждены "русский Иван" все равно расправится с ними, так же как, наверное, они сами по приказу фюрера и верховного командования вермахта убивали советских военнопленных – командиров и особенно комиссаров. Поэтому, считали они, не стоит думать о гигиене и чистоте – все равно скоро придет конец.
Могу засвидетельствовать как очевидец, что советская администрация лагеря военнопленных в Лодзи, советские и немецкие врачи и санитары в небольшом лагерном лазарете отчаянно боролись с различными эпидемиями и болезнями. Но когда, например, мы мало-мальски справлялись с дизентерией причем нам никогда не удавалось избавиться от нее полностью, то, как только в лагерь неожиданно прибывало несколько тысяч новых военнопленных, среди которых имелись больные дизентерией и тифом, снова начиналась, казалось, безнадежная борьба против антисанитарии и эпидемий.
Каждый находившийся в пересыльном лагере в Лодзи военнопленный имел возможность помыться и выстирать белье, сходить в баню с парилкой и т.д. Но среди пленных попадались такие – и в этом отношении особенно выделялись фанатичные фашисты и все еще верившие в Гитлера солдаты, – которых приходилось заставлять силой мыться и стирать свое белье. Когда одну партию прибывших в лагерь военнопленных сразу же, до размещения в бараках, направили в баню, то среди них началась паника. Они вели себя, как маленькие дети, которые всячески стремятся избежать чрезвычайно неприятной для них процедуры мытья с мылом. И только когда эти люди стали молить о сохранении им жизни, стала ясна причина возникшей паники: некоторые из них слишком хорошо знали, возможно по собственному опыту, подлинное значение понятия "баня" в гитлеровских лагерях смерти.
Из тех, кто громче всех стенал и молил о пощаде, мы выбрали троих и силой заставили их пойти в баню и оглядеться там. А потом предложили им рассказать об увиденном остальным прибывшим военнопленным. Они со стыдам вынуждены были признаться, что думали, будто в Советском Союзе также применяются варварские методы нацистской тирании.
В лагере находилось довольно много бывших служащих фашистского трудового фронта. Это были подростки в возрасте 16 – 17 лет, многие из них родом из Берлина. Их послали в Лодзь рыть противотанковые рвы.
Все эти попавшие в плен ребята являлись членами гитлеровского союза молодежи, восторженными поклонниками фюрера. Когда они оказались в плену, их прежние представления о мире буквально перевернулись. А ведь раньше они с ног до головы были пропитаны антикоммунизмом, лживой антисоветской пропагандой. И все они считали, что никто из них уже больше не увидит родины, родителей, братьев и сестер.
18 или 19 января, как я узнал от них, части СС, их танки и другая тяжелая техника ушли из города на запад. А призванных на трудовой фронт подростков, вооруженных старыми трофейными бельгийскими винтовками, послали в наскоро отрытые на восточных окраинах Лодзи окопы сдерживать натиск советских танков. Большинство начальников этих юнцов бесследно исчезли, за исключением одного командира в ранге капитана, возглавлявшего роту подростков численностью около 200 человек. Когда перед их окопами появились первые советские танки с автоматчиками на броне, ребята получили от своего командира приказ открыть огонь по танкам – и сделали это.
Стрелки в советских танках, не знавшие, естественно, кто вел по ним огонь из вражеских окопов, открыли ответный массированный огонь. Затем танки пошли на окопы, и только тогда советские солдаты увидели, что там сидели ребята, брошенные преступной нацистской верхушкой под огонь советских танков.
Многие из этих подростков плакали, некоторые звали на помощь матерей. Лишь 40 – 60 ребят попали невредимыми в плен. Большинство погибло, многих пришлось сразу же отправить в лазарет. Отдавшего приказ стрелять капитана также убили – его уже нельзя было привлечь к ответственности за гибель ребят.
Мы были до слез растроганы усилиями советских товарищей, всячески пытавшихся помочь этим несчастным юнцам. Им выделили особые пайки, их разместили в специально отведенном для них помещении. Их освободили от выхода на утреннюю поверку и, что определенно было совершенно излишним, от каких-либо работ в лагере.
Получив от коменданта лагеря приказ заняться пленными подростками, я около 10 часов утра пошел в их барак. Большинство все еще лежало на нарах. Воздух в помещении был пропитан миазмами. На мой вопрос, умывался ли кто-нибудь из них, утвердительно ответили лишь двое или трое. Прежде всего, несмотря на возгласы протеста, что "лучше нюхать теплую вонь, чем дышать холодным озоном", я открыл окна и основательно проветрил барак. Потом спросил ребят, не хотели бы они вернуться домой к своим матерям. Но для того, чтобы вернуться, сказал я, им следовало бы подумать о своем здоровье, о чистоте и гигиене. Ведь если они будут и дальше вести себя так, как до сих пор, то в один прекрасный день каждый из них может оказаться в морге. Я заверил их, что все они могут невредимыми вернуться домой. Но для этого они сами должны приложить какие-то усилия.