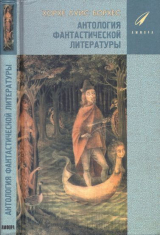
Текст книги "Антология Фантастической Литературы"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Соавторы: авторов Коллектив,Гилберт Кийт Честертон,Франц Кафка,Редьярд Джозеф Киплинг,Льюис Кэрролл,Рюноскэ Акутагава,Хорхе Луис Борхес,Франсуа Рабле,Хулио Кортасар,Лорд Дансени
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
Было видно, что его волнуют эти их встречи. Они всегда заставали его врасплох. Он старался поддерживать беседу, страшась момента расставания. Спрашивал ее, чем она занималась утром. – Чем она занималась? Утром? Гуляла, рассматривала дом, выкрашенный в зеленый цвет, смотрела на деревья, заходила к Раулю. Он интересовался, что нового у Рауля. А иногда, пытаясь нарисовать себе картину прошлого Хасинты, ему удавалось вырвать у нее какие-то вещественные, осязаемые детали, которые еще больше подчеркивали огромные пустынные пространства, где эти двое чувствовали себя потерянными. Потому что у него сложилось ощущение, что Хасинта утратила или вот-вот утратит свое прошлое. Он спрашивал:
– Что за человек был ваш отец?
– Он носил бороду.
– Так же, как и мой.
– Мой отец отрастил бороду, потому что ему лень было бриться. Он был алкоголиком.
Да, эти детали не слишком-то помогали все прояснить. Отец Хасинты был лишь старым неудачником, подобно многим другим. И Бернардо продолжал расспросы, все больше и больше втягиваясь в бессмыслицу этого занятия.
– Вам нравились пасьянсы, как вашей матушке? Нет? Скажите мне, как раскладывается «Наполеон»?
– Я тебе уже объясняла.
– Да, правда. Три ряда по десять закрытых карт, три ряда открытых, тузы выкладываются отдельно... Погоди, мне сейчас кажется, для него нужны две колоды...
– Не будем говорить о пасьянсах. В них только мама находила удовольствие.
– Ну не будем, раз тебе это скучно, но как-нибудь вечером, когда у тебя будет охота, разложим вместе этот пасьянс, хорошо?
Он также не мог как следует представить себе характер сеньоры де Велес. Бернардо вовсе не отличался строгостью в вопросах морали и симпатизировал этой бедной сеньоре. Однако его предположение, что Хасинта будет более откровенна в отношении покойницы, не оправдалось, натолкнувшись на ее явное нежелание говорить о привычках матери.
– Ну скажи, какой женщиной была твоя мать? Не могла же она не замечать, что ты где-то достаешь деньги и при этом не работаешь, а переводами больше не занимаешься...
– Не знаю.
– Это все так странно – то, что ты рассказываешь.
– Я вовсе не рассказываю, – возражала Хасинта, – я отвечаю на твои вопросы. Зачем тебе знать, какая у меня была мама? Зачем знать, как мы жили? Жили – и все. Сначала мать просила деньги в долг. А потом ей перестали давать, но всегда находился кто-нибудь – и все устраивалось. В последнее время, перед тем как я познакомилась с Марией Рейносо, это была донья Кармен.
– Донья Кармен женщина хорошая.
– Да.
– Но ты ее ненавидишь.
– Она слишком усердствовала. Я даже упрекнула ее, что она представила меня Марии Рейносо, как будто я...
Хасинта умолкла на полуслове. Бернардо, пытаясь прорвать блокаду этого молчания, лихорадочно искал другую тему. Он попробовал оживить их жалкое общее прошлое.
– Ты помнишь, как мы впервые увиделись? Мы всегда встречались в одной и той же комнате. А последний раз, помнишь? Я тебя долго ждал – полчаса, сорок пять минут. А ты все не приходила. Но, наверное, мое желание в конце концов заставило тебя прийти. Я иногда и сейчас думаю, что только мои желания тебя возле меня удерживают. Но я боюсь, что однажды ты исчезнешь, и у меня ничего от тебя не останется, даже фотографии. Почему ты такая бесчувственная? Только однажды ты отдалась мне безраздельно. Тогда ты была беззащитна. Плакала, и тебе удалось растрогать меня. Поэтому я понял, что ты не страдаешь. Это была наша последняя встреча в доме Марии Рейносо.
Бернардо выглядел жалким, несмотря на то что Хасинта почти его не слушала, он продолжал:
– В доме Марии Рейносо ты была человечной и откровенной. Всегда мне все рассказывала. Иногда мне так хочется снова увидеть тебя там. Интересно, а какие еще были в этом доме комнаты? Ведь ты в них бывала с другими мужчинами. Кто они были? Как они себя вели?
И в ответ на молчание Хасинты торопливо говорил дальше:
– Я интересуюсь этими мужчинами, потому что они были связаны с твоей жизнью, точно так же, как я интересуюсь самим собой – своим прошлым «я». Это в некотором роде ретроспекция, волнение минувших дней. Прежде я тебе внушал какие-то чувства. Я люблю этих мужчин, как люблю твою мать, Рауля, донью Кармен... хоть ты ее и проклинаешь. Ненависть – это единственное, что в тебе еще осталось.
– Мне хотелось бы, – сказала Хасинта, – чтобы Рауль жил в санатории.
– Чтобы отдалить его от доньи Кармен?
– Вчера, – продолжала Хасинта, словно не услышав вопроса, – я заходила в санаторий Флорес, на улице Бойяка. И видела там пациентов, похожих на Рауля. Они гуляют среди деревьев, играют в шары.
– Но там, должно быть, очень холодно?
– Рауль не чувствует холода.
Бернардо взглянул на часы, уже три – пора идти на Биржу. Он попрощался, сознавая, что вел себя не лучшим образом, и что Хасинта больше не зайдет к нему после обеда. Так и случилось. Несколько недель спустя, когда она вошла в ресторан и увидела его на обычном месте, она мгновение колебалась. Затем отступила назад, в проход между столиками и оказалась рядом с дальним выходом, отделенным от улицы стеклянными витражами, выложенными из косоугольников и украшенными английским гербом. Двое поднялись из-за столика, и Хасинта села на освободившееся место. Но никто из официантов к ней не подошел, видимо, считая, что она уже пообедала. Какое-то время Хасинта сидела, пощипывая оставшиеся кусочки хлеба, а потом встала и ушла. Никто, кажется, так ее и не заметил.
Вечером этого дня Бернардо вернулся домой в прекрасном расположении духа. Хасинта отдыхала, и Бернардо прямо с порога спальни сообщил ей:
– Я был в санатории Флорес. Можешь отвезти туда Рауля. Правда, если он сам захочет туда перебраться.
– Давай поедем к нему вместе, – откликнулась Хасинта, подчеркивая последнее слово. – Ты должен поговорить с доньей Кармен. Только ты можешь это сделать.
Бернардо вытянулся рядом с ней на постели.
– Ты права, это очень симпатичное местечко, и Раулю наверняка будет там хорошо, если, конечно, удастся его убедить туда переехать. (Все это он говорил, касаясь губами ее шеи и почти не шевелясь, словно желая, чтобы слова его воспринимались ласками, причем ласками едва ощутимыми.) Директор – человек обходительный, показал мне главное здание и отдельные коттеджи. По парку меня провел. Там есть замечательные эвкалипты и высокие бобовые деревья, совсем без листьев. А у деревьев на нашей площади листва еще не опала. Вообще-то парк не очень ухоженный.
Затем, без всякого перехода, добавил:
– Из домика, где будет жить Рауль, вид открывается довольно мрачный. Эти пустынные черные газоны, эти нагие ветви... Не хватает только повешенного.
Он приподнялся. И одним резким движением перемахнув через лежащую рядом женщину, встал около кровати. Поправил воротничок рубашки и галстук, брызнул на себя одеколоном.
– Сегодня вечером к нам на ужин придет Швейцер. Пожалуйста, не оставляй меня с ним одного, я тебя умоляю.
– Я не выйду к столу.
– Не оставляй меня одного, – повторил он. – Я тебя умоляю.
– А зачем он придет?
– Он хочет, чтобы мы с ним вместе написали одно письмо.
– Какое письмо?
– Об Иисусе Христе.
Хасинта явно ничего не понимала.
– О, я тебе все-все объясню... Сейчас в театре дают пьесу, которая называется «Семья Иисуса». Один католик прислал в газету письмо с протестом – он утверждает, что у Христа братьев никогда не было. Швейцер хочет вступить с ним в полемику и написать, что у Иисуса Христа действительно было много братьев.
– А это верно?
– Утверждать можно все. Но почему ты удивляешься? Ты же читала Евангелия, когда готовилась к первому причастию и изучала катехизис? Хотя вам наверняка Евангелия не преподавали, все ограничивалось катехизисом. А книгу Ренана ты читала? Да что ты говоришь! Вот уж не ожидал.
Хасинта отвечала уклончиво и неопределенно. Бернардо так и не смог понять, сама ли она читала Евангелия и «Vie de Jesus»[58]58
«Жизнь Иисуса» (франц.).
[Закрыть], или речь шла о ее матери, сеньоре де Велес.
– Хорошо, так ты спустишься к столу? Завтра мы вместе пойдем к донье Кармен, но сегодня вечером ты с нами поужинаешь. Я тебя очень об этом прошу. Это единственное, о чем я тебя прошу. Обещаешь?
– Да.
Швейцер ждал его в библиотеке, рассматривая цветную репродукцию в кожаной рамке «Двух придворных дам», стоявшую на письменном столе. Здороваясь с ним, Бернардо все еще размышлял о двойственности Хасинты. И внезапно ему стало обидно за себя оттого, что подобные мелочи так его огорчают, и горечь эта вылилась в острое раздражение и против Хасинты, и против сеньоры де Велес, а заодно и против Евангелий и «Жизни Иисуса». Поначалу он взялся за Ренана:
– Правильно замечено, что «Жизнь Иисуса» – это своего рода Елена Прекрасная христианства. Какая характерная для Второй Империи концепция Иисуса!
И он повторил саркастическое замечание по поводу Ренана, вычитанное им несколько дней тому назад в старых подшивках «Меркюр де Франс».
– У Ренана в жизни было две большие страсти: Библия и Поль де Кок. Привычкам священника, приобретенным им в семинарии, он обязан пристрастием к простому стилю и мягкой иронии, sous-entendu mi-tendre, mi-polisson[59]59
Намек полу-любовный, полу-фривольный (франц.).
[Закрыть], а у Поля де Кока он научился искусству романных построений и причудливых, чтобы не сказать безумных, сюжетных ходов. Говорят даже, что до последнего его часа жене Ренана приходилось идти на всякие уловки, чтобы вырвать из рук своего знаменитого супруга «La femme aux troix culottes» или «La Pucelle de Belleville»[60]60
«Вот это женщина!», «Бельвильская девственница» (франц.).
[Закрыть]. «Эрнст, – увещевала она его, – будь любезен, сначала напиши то, о чем тебя просил господин Бюлоз, а потом я тебе верну твою игрушку».
Сеньор Швейцер сдержанно улыбнулся: непочтительные дерзости были ему не по душе. А Бернардо, обращаясь к Хасинте, пояснил:
– Поль де Кок – это непристойный писатель.
Он слышал голос Хасинты, которая рассказывала о тех романах, что она читала когда-то по-английски, но из ее слов явственно вытекало, что речь идет о романах порнографических, предназначенных для портового сброда.
– А обложки были яркие – красные, желтые, синие. Их покупали на Пасео де Хулио, и продавцы прятали их в свои переносные сундучки за рядами башмаков на деревянной подошве и контрабандных пачек сигарет.
Они перешли в столовую.
Хасинта заняла место во главе стола. Когда Лукас внес блюдо, одного прибора на столе не хватало. Бернардо, едва сдерживая нетерпение, делал ему знаки. Лукасу пришлось оставить блюдо, и минутой позже он вновь появился с подносом в руках и с наглой медлительностью поставил недостающий прибор.
Сеньор Швейцер, весьма смущенный, достал из папки газетную вырезку и листки бумаги, испещренные его витиеватым почерком.
– Я набросал ответ, вот что у меня получилось.
И он начал читать:
– Не только в главе XIII, стих 55, от Матфея, как толкует это сеньор N, речь идет именно об этом вопросе, породившем столько дискуссий. Здесь, – пояснил он, – я для пущей ясности привожу и другие отрывки, касающиеся данного предмета: из Матфея, Марка, Луки, из Послания к Коринфянам и Послания Галатам. Из чтения этих текстов следует три теории: элвидианская, к которой и апеллирует сеньор N; она гласит, что братья и сестры Иисуса родились у Марии и Иосифа уже после его появления на свет; теория епифаническая, утверждающая, что братья Иисуса родились от первого брака Иосифа; и, наконец, иеронимианская, провозглашенная св. Иеронимом, согласно последней, братьями Всевышнего были сыновья Клеофанта и одной из сестер Святой Девы, которую тоже звали Мария. Эту доктрину поддерживает церковь, и в числе ее сторонников многие великие мыслители. – Читая этот текст, сеньор Швейцер время от времени кидал в рот то миндальный, то лесной орешек, то кусочек грецкого, беря их со стоящей слева от него тарелки. Иногда его рука словно застывала в воздухе, а пальцы все крутили и крутили орешек, пока с него не начинала сыпаться сухая рыжеватая шелуха. Под тем предлогом, что ему тоже хочется взять орех, Бернардо поставил блюдо около себя и Хасинты, подальше от гостя. Тот изумленно взирал на эти перемещения.
Бернардо спросил его:
– Почему вы не цитируете «Деяния Апостолов»?
– Да, правда; после ужина, если вы дадите мне Библию...
– Библия вам не понадобится. Записывайте: I, 14 «...Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Матерью Иисуса и с братьями Его». Ну вот, здесь окончится преамбула. А теперь, к какой же из трех присоединяетесь вы?
– Безусловно, к первой. А как бы вы начали?
Бернардо не смог устоять перед искушением покрасоваться.
– Я бы начал так, – заговорил он с ученым видом. – Истина, что в еврейском и арамейском языке существует одно только слово для обозначения понятий «брат» и «двоюродный брат», но это вовсе не достаточная причина для искажения значений текстов. Есть ведь такой язык, как греческий, с богатой лексикой, где имеются слова, выражающие понятия «брат» (adelphos), «двоюродный брат» (adelphidus) и еще одно слово, обозначающее «троюродный брат», «родственник» (anepsios). Общество Антиохии было двуязычным, и там произошел переход от арамейской к греческой форме традиции. Гогель цитирует строфу из Св. апостола Павла (Послание к Колоссеянам, IV, 10), где говорится: «...и Марк, племянник Варнавы». Если Павел в других своих сочинениях говорит о братьях Иисуса, это еще не повод смешивать один термин с другим.
Он выдержал паузу, а затем продолжил:
– Много бы еще можно было добавить... Тертулиан согласен с тем, что у Марии от Иосифа родилось много детей. Этот факт подтверждала и секта эбионитов, и христианский мученик Викторий из Патау, умерший в 303 году. Эхесипа говорит, что Иуда был Спасителю братом по плоти. Дидаскалия гласит, что Иаков, епископ Иерусалимский, был братом по плоти нашего Господа. Епифаний упрекает в слепоте Аполлония, учившего, что у Марии после Христа были еще дети.
Сеньор Швейцер что-то помечал в записной книжке. Речь Бернардо по-прежнему текла рекой. И с каждой последующей фразой улетучивалось его плохое настроение. Он снова обрел самого себя и был вполне доволен и уверенностью в себе, и своей памятью, и своей эрудицией. Как достойную награду он воспринимал почтительное молчание Швейцера. Но ему также хотелось и одобрения Хасинты.
Она же хранила отчужденность, далекая и призрачная, словно растворившаяся в сумраке столовой. Бернардо поперхнулся, отпил вина из бокала и запрокинул голову – на дне оставалась еще розовая капелька. Когда же он поднял голову, то увидел, как пляшут отблески пламени камина на зеленых спинках пустых стульев, расставленных вдоль стены, как трепетно дрожат они, неожиданно вспыхивая багровыми огоньками на древесине резного кедра и на лице Лукаса. А хрустальные висюльки венской люстры, казалось, вытянулись и потяжелели и в любой момент грозили рухнуть прямо на скатерть. (Надо было бы упомянуть, что Лукас, приближаясь к столу, выныривал из полумрака не столько для того, чтобы убрать тарелки, сколько для того, чтобы причаститься к этому сияющему овалу человеческого тепла и уюта.) Тут Бернардо потерял нить рассуждения и, пытаясь сосредоточиться, с видимым усилием произнес:
– Есть факты, указывающие на то, что в первые века христианской эры довольно часто упоминалось о братьях Иисуса. Гигнеберт...
Но Швейцер перебил его:
– Этого более чем достаточно. Настоящий достойный ответ.
Бернардо добавил:
– Поскольку письмо написано католиком, его следовало бы завершить католической цитатой. Что-нибудь вроде: «Вспомним исключительную искренность отца Лагранжа, признававшего, что исторически не доказано, что братья Иисуса приходились ему двоюродными братьями».
Он взял чашечку кофе и устроился с ней у камина, где весело полыхали два толстых поленца. Каких только оттенков здесь не было: алые язычки пламени, желтовато-красный, почти оранжевый цвет головешек и утонченно-голубой оттенок, незаметно вкрадываясь, нарушал мерцающую белизну кучки пепла. Хасинту зрелище огня отталкивало. А он, как бы он хотел сгореть в огне подобно этим поленьям, одним разом и дотла! Он все ближе придвигался к камину, казалось, что пламя вот-вот лизнет его ноги. «Я слишком зябкий». Он поднялся и приоткрыл окно. Сеньор Швейцер, с трудом отрываясь от кресла, начал прощаться.
– Большое спасибо за все. Завтра я отредактирую текст. Если вы заглянете в контору после биржи, то сможете его подписать.
Однако Бернардо предпочел отказаться и объяснил, почему:
– Все эти споры бессмысленны. И – кто знает? Возможно, они только закрепляют ошибку. С каждым днем человеческая природа (если желаете, «историчность») Иисуса представляется мне все более сомнительной.
С горящими глазами Бернардо расхаживал взад-вперед по комнате. Внезапно он выбежал и тотчас вернулся с книгой в дорогом и изъеденном молью переплете. Когда он ее раскрыл, корешок, отвалившийся от темных побуревших обложек, остался у него в руках. Швейцер взглянул на название:
– «Antiquities of the Jeus»[61]61
«Еврейские древности» (англ.).
[Закрыть]. А, издание Аверкампа... Вы намерены зачитать мне подходящую цитату. Не стоит труда.
Но Бернардо уже не мог остановиться. Он зачитал пресловутую цитату и развил – на этот раз крайне утомительно – тезис о том, что христианство как таковое предшествовало Христу. Он говорил об Иосифе Флавии, о Тиберии. Сеньор Швейцер флегматично внимал его страстной и бессвязной речи.
– Но это уже другой вопрос, – заметил он. – Кроме того, эти аргументы слишком затасканы и лично меня не убеждают.
– Я опираюсь не на них, – возразил Бернардо. – Мое убеждение проистекает из того рода истин, которые мы принимаем чувством, а не рассудком.
А затем, как будто про себя, добавил:
– Я вспоминаю ту замечательную историю про картину. Как это все там случилось?
В ответ раздался монотонный голос Хасинты:
– Ты же знаешь. Картина упала на пол, и здесь обнаружилось, что Христос вовсе и не Христос.
«Она так рассказывает, что ничего и не поймешь», – подумал Бернардо и сам начал объяснять:
– Это была старинная гравюра, collage колониальной эпохи, заделанный по краям синим бархатом, собранным в складки, и покрытый выпуклым стеклом. Когда стекло разбилось, то стало видно, что под ним – изображение Богоматери Скорбящей. Пером ей пририсовали кудри и бороду, а также терновый венец, а сам плат с ликом Богородицы был скрыт бархатом.
И добавил шепотом:
– Хасинта Велес была тогда еще маленькой девочкой и испытала ужасное разочарование. С тех пор она и утратила веру.
И снова он услышал ровный голос:
– Нет, – произнесла Хасинта, – теперь я верю.
Христос пожертвовал собой ради людей, ради тех людей, которые по мере своего развития все меньше походят на своего Спасителя: неугомонные, хитроумные, отягощенные знанием и склонные к разрушению, неудовлетворенные, чувственные, слабые, любопытные... И где-то поодаль от этой паствы обретаются иные существа, юродивые, нищие духом, испытывающие таинственное блаженство, отрекшиеся от действительности и презираемые остальными. Но Христос любил их. Они были единственными в этом мире, кого, возможно, ждало спасение.
Бернардо попрощался с сеньором Швейцером. Хасинта же думала о Рауле. Ей не терпелось оказаться рядом с ним, в окружении деревьев, в санатории Флорес.
III
Сеньор Швейцер перечитал письмо Бернардо под оглушительный рев взятого напрокат автомобиля. Оно было написано на голубой тисненой бумаге, сверху красовалось изображение здания с шиферной крышей и множеством окон. Письмо гласило:
«Уважаемый сеньор Хулио! В последнее время мне стало трудно вести дела. Меня утомляет малейшее усилие. Я решил наконец обратиться к врачу и в настоящее время прохожу под его наблюдением оздоровительный курс, целиком и полностью отдавшись отдыху. Этот курс, возможно, займет несколько месяцев. Поэтому я предлагаю вам на выбор два варианта: подыскать доверенного человека, который будет выполнять мои обязанности и выплачивать ему подобающее жалование, и отчислять определенный процент от дохода, который мне причитается, или же давайте вообще ликвидируем нашу компанию».
Под конец, словно опровергая строку, где намекалось на его нынешнее равнодушие к делам, Бернардо делал несколько толковых, по мнению дона Хулио, предложений относительно размещения ценных бумаг – вопроса срочного и настоятельного. В конце письма была приписка: «Не беспокойтесь обо мне и не ищите со мной встречи. Ответьте мне письмом».
Позже дон Хулио еще вспомнит эту последнюю фразу.
Он приехал в санаторий, спросил Бернардо, показав свою визитную карточку. Его попросили подождать в салоне с большими окнами, выходившими в сад и слегка приоткрытыми лишь сверху. Минут через десять появился высокий мужчина с красным лицом.
– Сеньор Швейцер? Я директор. Извините, я только что приехал. – Он возился со шнурками своего пыльника, завязанными на запястье.
– Могу ли я видеть сеньора Штокера? – спросил Швейцер.
– Вы его компаньон, не так ли? «Штокер и Швейцер», да, я знаю эту фирму. Однажды мне представился случай лечить сеньора Штокера в марте 1926 года. Дату я помню точно. Я тогда располагал некоторой, хотя и небольшой, суммой свободных денег, и сеньор Штокер рекомендовал мне второй выпуск консолидированных ценных бумаг «Лигнито Сан Луис Компани» – никогда не забуду это название. Ценности в ваших руках распродавались прекрасно. И благодаря этому начальному капиталу я основал этот санаторий.
– Могу ли я видеть моего компаньона? – настойчиво спросил Швейцер.
– Разумеется, сеньор Швейцер. Сеньор Штокер, полагаю, как вам известно, здесь не на положении больного. В первый раз он приехал в санаторий с неким Раулем Велесом, взятым им на попечение. Но он нашел здесь покой и тишину, которые его, должно быть, и привлекли. И однажды он появился с чемоданами в руках и сказал мне: «Доктор, я решил взять отпуск и поселиться здесь. Прошу вас сохранять тайну, я не хочу, чтобы меня беспокоили и ни с кем не желаю разговаривать, даже с врачами». Вы, наверное, единственный человек, которому он дал свой адрес.
– Он написал мне.
– Мы его поселили в последнем коттедже, том, что стоит поодаль от других. Одну комнату занимает сеньор Штокер, а другую – Рауль Велес.
После минутного колебания он продолжил:
– ... Этот юноша, знаете ли, весьма прискорбный случай. Мы, медики, – народ скрытный, сеньор Швейцер. Есть вещи, которые мы не должны, не желаем знать, однако постепенно и неизбежно нам приходится вникать в некоторые семейные обстоятельства. В конце концов, так или иначе, сеньор Штокер испытывает к этому юноше истинно отеческую привязанность. Можете ли вы мне сказать, почему он так долго медлил довериться психиатру?
– А что, разве его невозможно вылечить? – в свою очередь спросил Швейцер.
– Речь идет не о лечении, а об адаптации, приспосабливании. Адаптация – процесс очень деликатный, тонкий и включает обоюдное взаимодействие со стороны больного и окружающей его среды. Надо, конечно, приспосабливаться к больному, это верно, но в то же время и от него требуется небольшое усилие, и на самом деле именно он должен адаптироваться к другим. Необходимо помочь ему найти контакт с себе подобными. Разумеется, достичь настоящего интеллектуального общения, как у нас, например, в данный момент, ему никогда не удастся, но общение на более простом уровне вполне возможно. Следует добиваться того, чтобы больной осознал определенные правила общежития – развитие должно идти именно в этом направлении.
– А теперь слишком поздно...
Директор взглянул на него с легким удивлением:
– Никогда не бывает слишком поздно. Рауль Велес в санатории всего две недели. На диагностическом уровне отличить раннюю шизофрению от умственной отсталости очень трудно. В обоих случаях отсутствуют внешние физические симптомы: больной выглядит вполне нормальным человеком, однако он живет отчужденно от себя самого, совершенно равнодушный ко всему и ко всем. В то же время он послушен, мягок, дружелюбен. Он нуждается в доброте, но доброте достаточно твердой, границы которой он должен чувствовать. Ну так вот, с этим юношей обращались достойным сожаления образом. Он был в руках невежественной женщины, которая его, безусловно, любит, но любовью неразумной. Она потакала всем его капризам, и юноша этим злоупотреблял, сознательно погружаясь в безумие (у подобных больных это линия наименьшего сопротивления). Вначале эта женщина страшно негодовала и даже имела дерзость заявить, что подаст жалобу в суд, так как Штокер не имел никакого права поместить Рауля в наш санаторий.
На этот раз удивился Швейцер, однако решил уточнить:
– А это правда?
– Видите ли, официально за Штокером не признаны родительские права. Но у нее прав распоряжаться судьбой этого юноши еще меньше. Речь идет о душевнобольном, без семьи, без какого бы то ни было состояния. Кто лучше Штокера сможет о нем позаботиться? Я уже поговорил с защитником прав несовершеннолетних и добился от судьи, чтобы он назначил Штокера опекуном недееспособного Рауля Велеса. А той женщине, не желая больше слушать ее истории, я запретил здесь появляться. Сейчас, правда, мы ей разрешили посещения, но это по просьбе самого Штокера. Он весьма снисходителен, но тут я совершенно с ним не согласен. Необходимо оградить Рауля Велеса от всякого влияния, которое может воскресить в его душе сумбур его прежней жизни.
Директор замолк.
– Впрочем, я вас задерживаю, – добавил он, – вы хотели видеть Штокера. Я сам вас к нему провожу.
Следуя за врачом, извиняющимся, что он идет впереди, Швейцер поднялся на террасу, потом сошел вниз по лесенке в форме веера, пересек сад с клумбами, окаймленными ракушками, где беспорядочно росла высокая трава; изредка на их пути попадался какой-нибудь эвкалипт с листьями, блестящими от недавнего дождя, другие же деревья, совсем нагие, тянули к небу свои искривленные ветви. Швейцер ступал осторожно, чтобы не запачкаться в грязи. Вокруг сада стояли кирпичные домики, отделенные друг от друга живым лабиринтом из самшита.
– Здесь я вас оставлю, – заявил врач. – Идите направо по этой тропинке. С правой стороны, в последнем коттедже вы найдете Штокера.
Он появился перед Швейцером внезапно, как только тот переступил порог открытой настежь двери. Бернардо Штокер, напротив, заметил приближающегося Швейцера еще издалека. Он сидел, укутавшись двумя шотландскими пледами – один накрывал плечи, другой был наброшен на ноги.
– Дон Хулио, я даже не могу встать, чтобы вас поприветствовать. Этот плед... Вы могли бы написать мне, – в его голосе звучал упрек. Потом, глядя Швейцеру в глаза, спросил:
– Вы уже говорили с директором?
– Да.
– Сколько хлопот я ему причинил. Сожалею.
– Вам не холодно? – спросил Штокер. – Может быть, закроем дверь?
– Нет, я нахожу, что холод полезен для здоровья. Мне это нравится.
Наступило молчание. Швейцер напрочь забыл о цели своего визита или же не хотел самому себе в этом признаться. Он был смущен, лихорадочно обдумывал, что бы такое сказать, пусть любую банальность, которая прервет это затянувшееся молчание. Он вспомнил строчку из письма «Не беспокойтесь обо мне и не ищите встречи со мной. Ответьте мне письмом» и ухватился за это письмо, как за соломинку, дабы оправдать свой визит. Он ограничился тем, что повторил предложения Бернардо, словно ему, Хулио Швейцеру, они только что пришли в голову. Выглядело это несколько абсурдным. Бернардо пришел к нему на помощь, и беседа неожиданно потекла как по маслу. Швейцер еще не успевал замолкнуть, как тут же начинал говорить Бернардо, а его собеседник поддакивал, кивая головой: «да», «конечно», «так будет лучше», «замечательно»... Из страха, что вновь повиснет молчание, они совсем не придавали значения темам их разговора. Первым умолк Бернардо. Тогда и сеньор Швейцер заметил вдали, за самшитовой изгородью, высокого плотного юношу рядом с какой-то старушкой. Внезапно юноша направился прямо к ним и, подойдя к живой изгороди, не стал ее обходить, а пошел напролом, пробираясь с поразительной ловкостью сквозь самшитовые заросли. Он шел, не отрывая взгляда от Бернардо. Тот, в свою очередь, тоже смотрел на юношу, и лицо его постепенно озарялось улыбкой.
Но тут случилось непредвиденное. Ветер подхватил газетный обрывок и бросил его под ноги юноше. Тот остановился в нескольких метрах от мужчин, поднял обрывок и посмотрел на него с выражением человека, подумавшего про себя: «это слишком серьезно, чтобы прочитать прямо сейчас», тщательно сложил бумажку, спрятал ее в карман и, повернувшись на каблуках, удалился. На этот раз, подойдя к изгороди, он не стал продираться через самшит, а свернул на тропку и вскоре скрылся из глаз.
Бернардо так и застыл с приоткрытым ртом, сеньор Швейцер не мог сдержаться и спросил тихим, прерывистым голосом, который показался ему чужим и незнакомым:
– Это Рауль Велес?
– Да, – ответил Бернардо, – видите, он инстинктивно тянется ко мне, но всегда что-нибудь встает между нами. Сегодня вот эта проклятая газета.
А затем, в том же быстром темпе и в том же тоне, в каком они беседовали минутой раньше, проговорил:
– У меня была связь с Хасинтой Велес, сестрой этого юноши. Несколько месяцев она жила у меня. Это она попросила позаботиться о Рауле и, прежде чем уехать, сама выбрала этот санаторий.
– Прежде чем уехать... куда?
– Не знаю. Мы с ней постоянно спорили, я приставал с разными вопросами, в общем, я ее раздражал. Всегда раздражаешь тех, кого любишь. И она ушла.
– И ничего не написала?
– В доме, где они снимали комнаты до того, как умерла ее мать, я нашел в письменном столе разные письма. Но все это были письма, написанные сеньорой де Велес, их вернула почта. Они были посланы людям, адреса которых не удалось установить. Почтовые индексы многих улиц изменились и уже не совпадают с теми, что указаны на конвертах, а какие-то дома давно снесли, а на их месте выстроены новые. Но я на этом не успокоился и повидал многих из тех, кто носит фамилию Велес. Но никто не знал эту семью. Правда, один человек, Рауль Велес Ортусар (он старше меня), сказал мне, что в их роду был некий, почти мифический, персонаж – тетя Хасинта, на нее имела обыкновение ссылаться его матушка. Поговаривали, эта Хасинта была женщиной с дурной репутацией и умерла где-то в Европе.
– Но это никак не может быть Хасинта, – мгновенно отреагировал сеньор Швейцер, в котором пробудился дух расследования.
– Да, вы правы, но ведь это могла быть сеньора де Велес, тем более, тот человек вовсе не был уверен, что она умерла.
– А вы надеетесь, что Хасинта вернется?
– Она обязательно приедет в санаторий повидать брата. Хасинта его так любит. Для нее «аутизм» Рауля, как говорят врачи, вовсе не порок. Она вообще считает, что это признак превосходства, и даже старается походить на брата.
– Так она больна? – спросил заинтригованный Швейцер.








