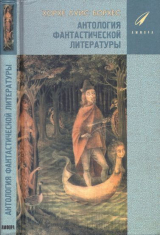
Текст книги "Антология Фантастической Литературы"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Соавторы: авторов Коллектив,Гилберт Кийт Честертон,Франц Кафка,Редьярд Джозеф Киплинг,Льюис Кэрролл,Рюноскэ Акутагава,Хорхе Луис Борхес,Франсуа Рабле,Хулио Кортасар,Лорд Дансени
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Если бы у Жозефины, как она уверяет, были враги, они могли бы, и пальцем не шевеля, с усмешкой наблюдать эту борьбу. Но у нее нет врагов, а найдись даже у кого-нибудь что ей возразить – не важно: вся борьба в целом никому не доставляет удовольствия. Народ занимает в ней такую бесстрастную, судейскую позицию, какая ему и несвойственна и наблюдается у нас разве только очень редко. И если даже кто-нибудь в этом частном случае и одобряет позицию народа, то мысль, что это же может постигнуть его, отравляет ему всякую радость. В отказе народа, как и в требовании Жозефины, речь, таким образом, идет не о существе вопроса, а о том, что народ может вдруг отгородиться от одного из своих сынов глухой стеной, тем более непроницаемой, что он еще недавно проявлял о нем – мало сказать, отеческую – поистине самозабвенную заботу.
Будь это не народ, а отдельный человек, можно было бы обвинить его в сомнительной игре: он якобы лишь для виду уступал Жозефине, прикрывая этим свое неугасимое желание в некий прекрасный день покончить со всякими поблажками; он и шел-то на них в твердом намерении рано или поздно положить им предел и уступал даже больше, чем следует, чтобы ускорить дело – то есть, вконец избаловав Жозефину, подвигая ее на все новые и новые причуды, дождаться и этого наипоследнего требования, а уж тогда, как он и собирался, окончательно поставить ее на место. На самом деле ничего этого нет: народу не нужны такие уловки, не говоря уж о том, что он действительно почитает Жозефину и не раз это доказал; к тому же требование Жозефины так несуразно, что даже ребенок мог бы ей предсказать, чем все кончится. Возможно, догадки эти не чужды и самой Жозефине и придают ее обиде особенную горечь.
Но если Жозефине и не чужды такие догадки, борьбы она все же не прекращает. За последнее время борьба даже обострилась; и если до сих пор она носила характер словесной тяжбы, то теперь наша дива пускается на средства, которые кажутся ей более действенными, нам же представляются лишь более для нее опасными.
Некоторые наблюдатели считают, что Жозефина потому решила идти напролом, что чувствует приближение старости, она-де теряет голос, и, следовательно, ей самое время вступить в последний бой за свое признание. Лично меня это не убеждает. Будь это так, Жозефина не была бы Жозефиной. Для нее не существует ни старости, ни опасения потерять голос. Если она чего-то домогается, то ее понуждают к тому не соображения внешнего порядка, а внутренняя последовательность, верность себе. Она тянется к высшему венцу не потому, что он случайно висит ниже, а потому, что он наивысший; будь это в ее власти, она повесила бы его еще выше.
Такое презрение к внешним трудностям не мешает ей прибегать к самым недостойным средствам. Жозефина не сомневается в своем праве, а стало быть, ей безразлично, как его достигнуть, тем более что в этом мире, как она считает, с щепетильностью далеко не уйдешь. Она, быть может, поэтому переносит борьбу из области пения в другую, менее для нее важную. Почитатели ее таланта повторяют ее заявления, будто опа чувствует себя в силах петь так, чтобы народ во всех своих слоях, вплоть до самой потаенной оппозиции, испытал истинное наслаждение – не то наслаждение, какое он, по его словам, испытывал до сих пор, а то, какого желала бы для него сама Жозефина. Но, добавляет она, не в ее привычках унижать высокое и потакать низменному, а потому пусть уж все остается как есть. Иное дело – ее борьба за освобождение от работы; правда, и эту борьбу она ведет во имя искусства, но хотя бы не драгоценными средствами искусства, так как для столь низменной борьбы все средства хороши.
Так, распространился слух, будто Жозефина, если ей не пойдут навстречу, намерена сократить свои колоратуры. Я лично понятия не имею ни о каких колоратурах. Ни разу в ее жизни не замечал я колоратур. Жозефина же якобы собирается не вовсе отказаться от колоратур, а покамест только сократить их. Она даже привела свою угрозу в исполнение, хоть я и не нашел в ее пении никаких перемен. Народ слушал ее как всегда, никто не вспоминал о колоратурах, да и отношение к Жозефининому требованию осталось прежним. Однако Жозефина не только по наружности, но и по натуре не лишена грации. После того концерта, должно быть, спохватившись, что ее решение насчет колоратур было слишком жестоким – или слишком внезапным – для народа, она обещала вернуться к своим колоратурам во всей их неприкосновенности. Но после следующего же концерта, опять передумав, объявила, что окончательно и бесповоротно отказывается от колоратур, пока не будет вынесено благоприятное для нее решение. Все эти заявления, решения и контррешения народ пропускает мимо ушей. Так погруженный в раздумье взрослый человек не внемлет лепету ребенка: ребенок, как всегда, его умиляет, но он от него бесконечно далек.
Но Жозефина не сдается. Недавно она объявила, что ушибла на работе ногу и ей трудно петь стоя. Она же поет только стоя, а потому вынуждена сократить и самые песни. Но хоть она и начала припадать на ногу и выходила к публике не иначе, как опираясь на своих почитателей, никто не давал ей веры. Если даже принять в соображение особую чувствительность ее хрупкого тельца, нельзя забывать, что мы рабочий народ, а Жозефина плоть от нашей плоти; когда бы мы стали обращать внимание на каждую ссадину и царапину, весь народ только бы и делал, что хромал. Но хоть Жозефину и водили под руки, как увечную, и она в таком виде охотно показывалась публике, это не мешало нам с восторгом ее слушать, не обижаясь на сокращенную программу.
Но нельзя же вечно хромать, и Жозефина придумала нечто новое: она утомлена, у нее тяжелые настроения и душевный упадок. Так, помимо концерта, нам преподносят и спектакль. За Жозефиной тянется ее свита, ее уговаривают, заклинают петь. Она бы рада, но не может. Жозефине льстят, ее утешают, чуть ли не на руках относят на приготовленное место. Заливаясь беспричинными слезами, Жозефина уступает, она из последних сил пытается запеть – стоит поникшая, забыв даже раскинуть руки и лишь безжизненно свесив их вдоль тела, что создает впечатление, будто они у нее коротковаты, – итак, она пытается запеть, но тщетно, голова ее падает на грудь, и на глазах у всей публики певица теряет сознание. А затем собирается с духом и поет как ни в чем не бывало, я бы даже сказал – не хуже, чем всегда; разве только изощренному слуху, улавливающему малейшие нюансы, заметно необычное волнение нашей дивы, но от этого ее пение только выигрывает. Зато к концу программы усталости ни следа; твердой поступью, если это можно сказать о ее щепотливой походочке, она удаляется, отказавшись от услуг своих почитателей, и холодным испытующим взором окидывает почтительно расступающуюся перед ней толпу.
Так было еще недавно; на днях же стало известно, что Жозефина не явилась на очередной концерт. Ее разыскивают не только почитатели, у них нет недостатка в помощниках, но все напрасно – Жозефина исчезла, она больше не хочет петь, не хочет даже, чтобы ее просили петь, на этот раз она и в самом деле нас покинула.
Странно, что наша умница так просчиталась, хотя, возможно, это даже не просчет; махнув на все рукой, она следует велению своей неотвратимой судьбы, ибо судьба ее в нашем мире может быть только очень печальной. Она сама отказывается от пения, сама разрушает ту власть, которую приобрела над душами своих слушателей. И как только она приобрела эту власть – ведь эта душа для нее за семью печатями! – Жозефина прячется и не поет, а между тем народ-властелин, ничем не обнаруживая разочарования, незыблемая, покоящаяся в себе масса, которая, что бы ни говорила видимость, может только раздавать, а не получать дары, хотя бы и от той же Жозефины, – народ продолжает идти своим путем.
Жозефина же осуждена катиться вниз. Близка минута, когда прозвучит и замрет ее последний писк. Она лишь небольшой эпизод в извечной истории нашего народа, и народ превозможет эту утрату. Легко это нам не дастся, ибо во что превратятся наши собрания, проводимые в могильной немоте? Но разве не были они немыми и с Жозефиной? Разве на деле ее писк был живее и громче, чем он останется жить в нашем воспоминании? Разве не был он и при ее жизни не более чем воспоминанием? Не оттого ли наш народ в своей мудрости так ценил ее пение, что оно в этом смысле не поддавалось утрате?
Как-нибудь обойдемся мы без нашей певицы, что же до Жозефины, то, освобожденная от земных мук, кои, по ее мнению, уготованы лишь избранным, она с радостью смешается с сонмом наших героев и вскоре, поскольку история у нас не в большом почете, будет вместе со своими собратьями предана всеискупляющему забвению.
У врат закона
У врат Закона стоит привратник. И приходит к привратнику поселянин, и просит пропустить его к Закону. Но привратник говорит, что в настоящую минуту он пропустить его не может. И подумал проситель, и вновь спрашивает, может ли он войти туда впоследствии? «Возможно, – отвечает привратник, – но сейчас войти нельзя». Однако врата Закона, как всегда, открыты, а привратник стоит в стороне, и проситель, наклонившись, старается заглянуть в недра Закона. Увидев это, привратник смеется и говорит: «Если тебе так не терпится – попытайся войти, не слушай моего запрета. Но знай: могущество мое велико. А ведь я только самый ничтожный из стражей. Там, от покоя к покою, стоят привратники, один могущественнее другого. Уже третий из них внушал мне невыносимый страх». Не ожидал таких препон поселянин, ведь доступ к Закону должен быть открыт для всех в любой час, подумал он; но тут он пристальнее взглянул на привратника, на его тяжелую шубу, на острый горбатый нос, на длинную жидкую черную монгольскую бороду и решил, что лучше подождать, пока не разрешат войти. Привратник подал ему скамеечку и позволил присесть в стороне, у входа. И сидит он там день за днем и год за годом. Непрестанно добивается он, чтобы его впустили, и докучает привратнику этими просьбами. Иногда привратник допрашивает его, выпытывает, откуда он родом, и многое другое, но вопросы задает безучастно, как важный господин, и под конец непрестанно повторяет, что пропустить его он еще не может. Много добра взял с собой в дорогу поселянин, и все, даже самое ценное, он отдает, чтобы подкупить привратника. А тот все принимает, но при этом говорит: «Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил». Идут года, внимание просителя неотступно приковано к привратнику. Он забыл, что есть еще другие стражи, и ему кажется, что только этот, первый, преграждает ему доступ к Закону. В первые годы он громко клянет эту свою неудачу, а потом приходит старость, и он только ворчит про себя. Наконец он впадает в детство, и, оттого что он столько лет изучал привратника и знает каждую блоху в его меховом воротнике, он молит даже этих блох помочь ему уговорить привратника. Уже меркнет свет в его глазах, и он не понимает, потемнело ли все вокруг, или его обманывает зрение. Но теперь, во тьме, он видит, что неугасимый свет струится из врат Закона. И вот жизнь его подходит к концу. Перед смертью все, что он испытал за долгие годы, сводится в его мыслях к одному вопросу – этот вопрос он еще ни разу не задавал привратнику. Он подзывает его кивком – окоченевшее тело уже не повинуется ему, подняться он не может. И привратнику приходится низко наклониться – теперь по сравнению с ним проситель стал совсем ничтожного роста. «Что тебе еще нужно узнать? – спрашивает привратник. – Ненасытный ты человек!» – «Ведь все люди стремятся к Закону, – говорит тот, – как же случилось, что за все эти годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили?» И привратник, видя, что поселянин уже совсем отходит, кричит изо всех сил, чтобы тот еще успел услыхать ответ: «Никому сюда входа нет, эти врата были предназначены для тебя одного! Теперь пойду и запру их».
Редьярд Киплинг
Лучшая в мире повесть
Его звали Чарли Мирз, он был единственным сыном вдовы, жил в северной части Лондона и каждый день приезжал в Сити, где работал в банке. Чарли было двадцать лет, и его одолевали честолюбивые мечты. Я познакомился с ним в бильярдной, где маркер звал его по имени, а он маркера – Парень Не Промах. Чарли объяснил мне несколько нервозно, что забрел сюда понаблюдать за игрой, а поскольку подобная забава может дорого обойтись молодому человеку, я сказал, что лучше бы он шел домой, к матери.
Это был первый шаг к более короткому знакомству. Он стал заглядывать ко мне по вечерам, вместо того, чтобы слоняться по городу со своими приятелями-клерками, и вскоре, как водится у молодых, раскрыл мне свои честолюбивые помыслы – он мечтал о литературной славе. Желая обессмертить свое имя, Чарли в основном полагался на стихи, но писал и рассказы о роковой любви и посылал их в дешевые журнальчики. Я обрек себя на молчаливое выслушивание сотен и сотен поэтических строк и неудобочитаемых отрывков из пьес, которые еще, несомненно, потрясут мир. Наградой мне было его беспредельное доверие, а исповеди и печали юноши святы, почти как исповеди и печали девушки. Чарли еще ни разу не влюблялся, но мечтал влюбиться и ждал лишь случая; он верил в честь и благородство, но в то же время никогда не упускал возможности показать, что он тертый калач, как и подобает клерку, получающему двадцать пять шиллингов в неделю. Он рифмовал «кровь» и «любовь», «розы» и «морозы» и наивно полагал, что никто еще до этого не додумался. Он поспешно извинялся за длинные непонятные пропуски в своих пьесах, скороговоркой сообщал, что должно произойти, и переходил к следующей сцене, причем видел все, что собирался написать, так отчетливо и ясно, что считал дело сделанным и оборачивался ко мне, ожидая одобрения.
Подозреваю, что мать не поощряла его честолюбивые устремления, и знаю наверняка, что дома письменным столом ему служил край деревянной подставки для умывальника. Это он поведал мне почти в самом начале нашего знакомства, опустошая книжные полки в моем шкафу, и вскоре уже заклинал меня сказать начистоту, есть ли у него шансы «написать, понимаете ли, нечто истинно великое». Возможно, я слишком его обнадежил, но как-то вечером он явился ко мне с горящими от возбуждения глазами и выпалил:
– Вы не возражаете, если... словом, позвольте мне побыть у вас и писать весь вечер. Я вас не отвлеку, поверьте. Мне негде писать дома, у матери.
– А в чем дело? – поинтересовался я, прекрасно зная, в чем дело.
– Мне пришла в голову идея замечательной повести, такой еще никто и никогда не писал. Позвольте мне написать ее здесь. Это такая идея!
Я не устоял против мольбы Чарли и освободил ему стол. Он, едва поблагодарив меня, с головой ушел в работу. С полчаса он без устали строчил пером. Но вот Чарли вздохнул и запустил руку в волосы. Перо скользило по бумаге все медленней, он все чаще зачеркивал написанное, а потом работа и вовсе замерла. Лучшая в мире повесть не продвигалась.
– Теперь мне кажется, что я сочинил ужасный вздор, – мрачно произнес он, – а сначала, когда обдумывал повесть, все выглядело так здорово. Почему у меня ничего не выходит?
Мне не хотелось говорить правду и тем самым подрезать ему крылья. И я ответил:
– Может, ты сегодня просто не в настроении?
– Нет настрой был, но он пропал, когдая увидел, что получилось. Уф!
– Прочти, что ты написал, – предложил я.
Чарли прочел, это и впрямь никуда не годилось, а он делал паузы после особенно напыщенных фраз, ожидая знаков одобрения; он гордился этими фразами – я знал наперед.
– Надо бы слегка подсократить, – осторожно заметил я.
– Терпеть не могу сокращать свои вещи. Слово заменишь, и то сразу искажается смысл. А на слух все воспринимаешь лучше, чем при письме.
– Чарли, ты, как и многие другие, слишком быстро впадаешь в панику. Отложи рукопись в сторону, через неделю займешься ею снова.
– Я хочу написать повесть одним махом. Что вы о ней думаете?
– Как мне судить о наполовину написанном произведении? Изложи свой замысел.
Чарли изложил, и в его рассказе было все, чему его неопытность так настойчиво мешала воплотиться на бумаге. Я глядел на него и удивлялся: мыслимо ли, что он не понимает самобытности, глубины идеи, пришедшей ему в голову? Это была поистине Идея среди идей. Иных авторов буквально распирало от гордости за свои идеи, несравнимые с блистательным замыслом Чарли, так и просившимся на бумагу. Но Чарли безмятежно лопотал, прерывая поток чистой фантазии чудовищными фразами, которые намеревался вставить в текст. Я терпеливо выслушал его до конца. Было бы величайшей глупостью оставить эту идею в его неопытных руках, в то время как я мог бы так много из нее выжать. Не все, разумеется, но ох как много!
– Я, пожалуй, назову повесть «История одного корабля», как вы думаете? – спросил наконец Чарли.
– Что ж, замысел хорош, но ты не сможешь разработать его как следует. А вот я бы...
– Вам он пригодится? Хотите им воспользоваться? Мне это будет очень лестно, – сразу предложил Чарли.
Немногое в этом мире доставляет человеку большую радость, чем простодушное, горячее, неумеренное восхищение юного друга. Даже женщина в самой своей слепой беззаветной преданности не может идти в ногу со своим кумиром, сдвигать шляпку набок точно так, как носит шляпу он, уснащать речь его любимыми ругательствами. А Чарли все это делал. И все же я чувствовал потребность как-то успокоить свою совесть, прежде чем завладеть его идеей.
– Давай заключим сделку, – начал я. – Плачу пять фунтов за твой замысел.
В Чарли тут же проснулся банковский клерк.
– О нет, это невозможно. Так между приятелями не водится, сами понимаете, если мне дозволено считать вас своим приятелем, конечно, да и как порядочный человек я не могу принять этих денег. Воспользуйтесь идеей, если она вам нравится. У меня их – без счету.
Так оно и было – мне ли не знать? Но то были чужие идеи.
– Рассматривай это как сделку между порядочными людьми, – отозвался я. – За пять фунтов можно купить много поэтических сборников. Бизнес есть бизнес, и – не сомневайся – я не дал бы эту цену, если бы...
– Ну, если посмотреть на дело таким образом... – Чарли был явно взволнован мыслью о книгах.
Заключив сделку, мы договорились, что Чарли будет время от времени являться ко мне со всеми своими замыслами, отныне ему будут предоставлены письменный стол и неотъемлемое право навязывать мне свои поэмы и отрывки из них.
– Расскажи, как тебе пришла в голову эта идея? – полюбопытствовал я.
– Сама собой. – Глаза Чарли слегка округлились.
– Да, но ты так много рассказывал мне о герое. Должно быть, вычитал это где-нибудь?
– Мне некогда читать, разве что здесь, с вашего разрешения, а по воскресеньям я катаюсь на велосипеде или уезжаю на весь день на реку. А с героем все в порядке, верно?
– Расскажи-ка еще раз, чтоб я его себе ясно представил. Вот ты говоришь, что герой стал пиратом. А как он жил?
– На нижней палубе корабля, о котором я вам рассказывал.
– А что это был за корабль?
– Гребное судно, морская вода бьет струей сквозь уключины, и люди гребут, сидя по колено в воде. Между двумя рядами гребцов – помост, а по нему прохаживается взад и вперед надсмотрщик с хлыстом и следит, чтоб гребцы работали.
– Откуда ты все это знаешь?
– Прочитал в одной книжке. Над помостом тянется веревка, она закреплена на верхней палубе, надсмотрщик держится за нее в качку. Как-то раз надсмотрщик не успел схватиться за веревку и свалился с помоста на гребцов – помните, наш герой засмеялся, и его за это высекли. Он, конечно, прикован к веслу – герой.
– Каким образом?
– На нем железный пояс, прикрепленный цепью к скамье, а кандалами на левом запястье он прикован к веслу. Сидит он на нижней палубе, куда помещают самых отпетых. Свет туда доходит только через люки верхней палубы да сквозь уключины. Представляете – лучик света едва пробивается между рукояткой весла и отверстием уключины и все время дрожит – ведь судно качает.
– Я-то представляю, но как-то не верится, что ты себе ясно это представляешь.
– А как же иначе? Так вот, слушайте. Длинными веслами на верхней палубе гребут четверо на каждой скамье, на средней – их трое на весло, а на нижней – по двое. Я уже говорил, что внизу совсем темно, и люди сходят с ума. Когда гребец с нижней палубы, прикованный к веслу, умирает, его не бросают за борт, а расчленяют, освобождая от цепей, и пропихивают куски мяса через уключины.
– Почему? – Меня изумило не столько само сообщение, сколько уверенный тон Чарли.
– Так надсмотрщики избавляли себя от лишних хлопот и на других гребцов страх наводили. Ведь одному надсмотрщику не под силу вытащить покойника наверх. А оставишь нижних гребцов без пригляда, так они, конечно, и грести перестанут, и скамьи вырвут, если поднимутся все разом, в цепях.
– Да, у тебя поистине неиссякаемое воображение. А где это ты начитался про галеры и галерных рабов?
– Нигде не читал. А впрочем, не помню. Я сам люблю погрести при случае. Может, я и впрямь вычитал это где-нибудь, раз вы так считаете.
Вскоре после этого разговора Чарли ушел побродить по книжным лавкам, а я с изумлением размышлял о том, как сумел банковский клерк двадцати лет от роду поведать мне с такой расточительной подробностью, с такой абсолютной уверенностью о фантастической кровавой авантюре, мятеже, пиратстве и смерти в неведомых морях. Он провел своего героя тернистым путем через бунт на галере против надсмотрщиков к командованию собственным судном и созданию королевства на острове, затерянном «где-то в море», и, обрадованный моими жалкими пятью фунтами, отправился покупать идеи других людей, чтобы научиться у них писать. Я утешался тем, что отныне замысел Чарли принадлежит мне по праву покупателя, и надеялся как-то его обыграть.
Когда Чарли явился ко мне в следующий раз, он был пьян – пьян в благородном смысле этого слова, опьянен творениями поэтов, которых он открыл для себя. Зрачки его были расширены, речь сбивчива, и он кутался в лоскутное одеяло цитат. Больше всего его пьянил Лонгфелло.
– О, это великолепно, это величественно! – вскричал Чарли, едва поздоровавшись. – Вы только послушайте:
Бог ты мой!
Лишь поспорившему с бурей
Суждено ее узнать, —
произнес он раз двадцать, расхаживая взад и вперед по комнате, совершенно позабыв про меня. – Но я тоже способен это понять, – сказал он сам себе. – Не знаю, как и благодарить вас за пять фунтов. Или вот еще, послушайте:
Хоть я и не сражался с морем, у меня такое чувство, будто мне все про него известно.
– Да, ты, несомненно, понимаешь море. Ты его когда-нибудь видел?
– Еще ребенком я ездил однажды в Брайтон, мы жили в Ковентри, до того как переехали в Лондон. А раньше я никогда не видел моря.
Чарли ухватил меня за плечо и потряс, чтобы и я ощутил страсть, потрясшую все его естество.
– Думаю, когда начинается шторм, – продолжал он, – все весла на галере, про которую я рассказывал, ломались, и их дергающиеся рукояти пробивали гребцам грудь. Кстати, пригодилась ли вам моя идея?
– Пока нет. Жду, что ты еще что-нибудь расскажешь. Объясни, ради Бога, почему ты так уверенно описываешь галеру. Ты ж ничего не знаешь о кораблях.
– Не могу объяснить. Я знаю корабли как свои пять пальцев, пока не берусь за перо. Только вчера в постели об этом размышлял – вспоминал «Остров сокровищ», который вы мне дали почитать. Я припомнил много такого, что можно ввести в повесть.
– Что именно?
– К примеру, вспомнил, что ели гребцы – гнилой инжир, черные бобы, а пили вино; мехи с вином они передавали от скамьи к скамье.
– Стало быть, твою галеру построили еще во время оно?
– В какое время? Откуда мне знать, давно ее построили или нет. Ведь это выдумка, но порой мне кажется: все, что я рассказываю, и вправду взято из жизни. Я надоел вам своими рассказами про галеру?
– Ничуть. А что ты еще вспомнил?
– Да так, разные пустяки.
Чарли слегка покраснел.
– Неважно, рассказывай.
– Значит, так: история с галерой не выходила у меня из головы, ночью я поднялся и записал на листочке то, что гребец мог нацарапать на весле острым краем наручников. Мне показалось, что такая мелочь сделает повесть более правдивой. Я, верите ли, все вижу, будто наяву.
– У тебя с собой этот листок?
– Да-а, но что толку его показывать? Просто какие-то закорючки, и больше ничего. Правда, их можно поместить на заглавном листе книги.
– Такие детали я беру на себя. Покажи, что там нацарапали гребцы.
Чарли вынул из кармана листок бумаги с одной-единственной строчкой каких-то каракулей, и я тотчас припрятал его.
– Что, по-твоему, это значит по-английски?
– Ума не приложу. Может, «я до смерти устал», в общем, чепуха какая-нибудь, – повторил Чарли. – Но все эти гребцы на галере для меня – живые люди. Очень прошу – обыграйте поскорей мою задумку. Хочется увидеть законченную и напечатанную повесть.
– Но того, что ты мне рассказал, хватит на толстую книгу.
– Так напишите книгу. Вам осталось только сесть да написать.
– Дай время – напишу. А еще какие у тебя замыслы?
– Пока никаких. Читаю все книги, что накупил. Великолепные книги.
Когда Чарли ушел, я заглянул в его листок с надписью. Заглянул – и осторожно обхватил голову руками, желая убедиться, что она на месте и не повернулась задом наперед. Потом... но я не заметил, как вышел из дома и оказался в коридоре Британского музея перед дверью с табличкой «Служебное помещение» и вступил в пререкания с полицейским. В самой вежливой форме я просил об одном – разыскать «специалиста по Древней Греции». Полицейский ничего не знал, кроме музейных правил, и мне пришлось обежать все здания и служебные помещения на территории музея. Пожилой джентльмен, которому я не дал толком позавтракать, положил конец моим поискам; брезгливо взяв листок двумя пальцами, он взглянул на него и презрительно фыркнул.
– Хотите знать, что это значит? Хм... Насколько я понимаю, это попытка что-то написать на чрезвычайно искаженном греческом языке, – тут он многозначительно посмотрел на меня, – предпринятая на редкость безграмотным... э... э... лицом. – Он медленно прочел: – «Поллок[73]73
Поллок, Уолтер (1850—1926) – критик, переводчик, драматург.
[Закрыть], Эркман[74]74
Эркман, Эмиль (1822—1899) – французский писатель.
[Закрыть], Таухниц[75]75
Таухниц, Бернард (1816—1895) – немецкий издатель, выпускавший популярную серию книг на английском языке.
[Закрыть], Хенникер[76]76
Хенникер (ум. в 1923 г.) – писательница, президент общества журналисток.
[Закрыть]».
Четыре знакомые мне фамилии.
– Объясните, пожалуйста, что же все-таки означает эта безграмотная писулька? В чем там смысл? – поинтересовался я.
– «Меня... часто... одолевала усталость за этим делом» – вот в чем тут смысл.
Он вернул мне листок, и я умчался, не поблагодарив специалиста, ничего ему не объяснив, даже не извинившись.
Моя забывчивость была вполне простительна. Мне из всех смертных была дарована возможность написать лучшую в мире повесть – историю греческого раба на галере, записанную с его слов, – ни больше и ни меньше. Немудрено, что свои грезы Чарли называл явью. Парки, которые так тщательно закрывают дверь в конце каждой прожитой нами жизни, на сей раз проявили беспечность, и Чарли заглядывал, сам того не сознавая, туда, куда не дозволено глядеть никому из смертных в ясном уме и здравой памяти с Начала Времен. И самое главное – он не подозревал, какие познания продал мне за пять фунтов; и останется и впредь в неведении, ибо банковские клерки ничего не смыслят в метемпсихозе, а коммерческое образование не включает изучение греческого языка. Он будет поставлять мне, – тут я проделал несколько балетных па перед безмолвными египетскими богами и рассмеялся, глядя в их щербатые от времени лица, – сведения, которые придадут моей повести достоверность – такую достоверность, что мир назовет ее наглой подделкой, и лишь я, я один, буду знать, что все в этой повести правда. Я, я один, возьму в руки драгоценный камень, чтобы гранить и полировать его. И я снова пустился в пляс среди богов, пока не заметил полицейского, направлявшегося в мою сторону.
Отныне мое дело – лишь поощрять Чарли к рассказам, а это нетрудно. Но я позабыл про эти проклятущие поэтические сборники. Чарли раз за разом являлся ко мне, бесполезный, как целиком записанный валик фонографа, – опьяненный Байроном, Шелли либо Китсом. Теперь, зная, кем был Чарли в прежних воплощениях, я безумно боялся пропустить хоть слово в его болтовне, и от него не укрылись ни моя почтительность, ни мой интерес. Он неправильно истолковал их как внимание к нынешней сути Чарльза Мирза, для которого жизнь была нова, как для Адама, и как уважительное отношение к его декламации; Чарли испытывал мое терпение, готовое лопнуть, читая мне стихи – не свои отныне, а других поэтов. Я страстно желал, чтобы стихи всех английских поэтов стерлись в памяти человечества. Я хулил самые звонкие поэтические имена, потому что они уводили в сторону от рассказов о галере и могли в дальнейшем склонить к подражательству; но я сдерживал нетерпение, уповая на то, что первый горячий энтузиазм иссякнет и парень вернется к своим грезам наяву.
– Что толку рассказывать вам о моих замыслах, когда эти ребята сочинили такое, что впору ангелам читать, – посетовал он как-то вечером. – Почему бы и вам не написать что-нибудь в этом духе?
– Не скажу, чтоб ты был особенно учтив со мной, – заметил я, с трудом сохраняя самообладание.
– Я же отдал вам свою повесть, – буркнул Чарли, снова погружаясь в «Лару»[77]77
«Лара» (1814) – поэма Байрона.
[Закрыть].
– Мне нужны подробности.
– Все, что я придумывал об этом чертовом корабле, который вы называете галерой? Да это проще простого. Сами можете насочинять. Пустите-ка газ чуть поярче, хочется еще почитать.
Я был готов разбить рожок над головой этого редкостного глупца. Разумеется, я бы и сочинил все сам, знай я то, что, сам того не ведая, знал Чарли. Но поскольку двери моего прошлого существования были наглухо закрыты, я волей-неволей ждал, когда Чарли соблаговолит что-нибудь мне рассказать, и старался удержать его в добром расположении духа. Минутная неосторожность могла погубить бесценное откровение; порой он откладывал книжки в сторону, – Чарли хранил их у меня, ведь мать, увидев их, возмутилась бы безрассудной тратой денег, – и погружался в свои морские видения. И снова я проклинал всех поэтов Англии. Прочитанные книги придавили, исказили, расцветили восприимчивое воображение банковского клерка, и в результате зазвучал нестройный хор чужих голосов – так невнятно слышится песня по городскому телефону в самое горячее время дня.








