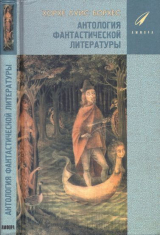
Текст книги "Антология Фантастической Литературы"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Соавторы: авторов Коллектив,Гилберт Кийт Честертон,Франц Кафка,Редьярд Джозеф Киплинг,Льюис Кэрролл,Рюноскэ Акутагава,Хорхе Луис Борхес,Франсуа Рабле,Хулио Кортасар,Лорд Дансени
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
«Лецзы»
Пропавший олень
Один лесоруб из Чжэна увидел в поле отбившегося от стада оленя и убил его. Чтобы оленя не нашел кто другой, дровосек закопал его в лесу и присыпал ветками и листьями. Спустя некоторое время он забыл, где это случилось, и решил, что ему все привиделось во сне. И как сон, он рассказывал эту историю всем подряд. Один человек, услышав рассказ дровосека, принялся искать пропавшего оленя и преуспел в этом. Он отнес оленя домой и сказал жене:
– Дровосеку приснилось, что он убил оленя и позабыл, где его спрятал, а мне удалось оленя найти. Этот человек истинный сновидец.
– Тебе приснилось, что ты видел дровосека, убившего оленя? Это и вправду был дровосек? Хотя, если олень вот он, твой сон правдив, – отвечала женщина.
– Даже если считать, что я нашел оленя благодаря сновидению, – продолжал муж, – стоит ли гадать, кому из нас приснился сон?
В эту ночь дровосек вернулся домой, не переставая думать об олене, и уснул, и во сне увидел то место, где спрятал оленя, и человека, который оленя нашел.
На рассвете дровосек отправился к его дому и там обнаружил оленя. Они принялись спорить, затем отправились к судье, чтобы тот рассудил их. Судья сказал дровосеку:
– Ты в самом деле убил оленя, но решил, что тебе это приснилось. Потом ты увидел сон и решил, что твой сон – правда. Этот человек нашел оленя и теперь спорит с тобою из-за него, а его жена думает, что он видел сон, в котором обнаружил оленя. Но раз уж олень вот здесь, перед нами, самое лучшее поделить его.
Слух об этом деле дошел до правителя Чжэна, и правитель Чжэна сказал:
– А судье не приснилось, что он делил оленя?
Леопольдо Лугонес
Абдерские скакуны
Абдера, древний фракийский город на берегу Эгейского моря, на нынешнем мысе Балустра (не путать с одноименным городом в Бетике), славилась своими конями.
Во Фракии подобная известность кое-что да значит, Абдера же затмила все другие города. Жители ее самозабвенно занимались выучкой благородных животных, и эта упорная страсть со временем явила удивительные плоды. Абдерским скакунам не стало равных, и все фракийские племена, от циконов до бизальтов, признали первенство бистонов, населявших упомянутый город.
Следует прибавить, что этим ремеслом, где удовольствие соединялось с выгодой, в Абдере занимались все, от царя до последнего горожанина.
Вот почему люди и кони сблизились там гораздо тесней, чем это принято у других народов. Дошло до того, что всякое различие между конюшней и человеческим жилищем стерлось, и вскоре лошадей допустили к семейным трапезам, тем самым перейдя границы сумасбродства, простительного для всякой страсти.
Абдерские скакуны были и впрямь благородными животными, но как ни возьми, скотами, пусть их и облачали на ночь в виссоновые попоны и украшали их стойла нехитрыми фресками. Ибо среди ветеринаров нашлись чудаки, утверждавшие, что лошадиному племени ведомо чувство прекрасного. На кладбище для лошадей среди помпезных надгробий встречались два-три истинных произведения искусства. Красивейший в городе храм был посвящен Ариону, коню Нептуна, выведенному из недр земли ударом трезубца, и, видно, из Абдеры пошла мода украшать нос судна головой коня. Как бы то ни было, барельефы, изображавшие лошадей, являлись, несомненно, излюбленной деталью тамошней архитектуры. Сам царь души не чаял в лошадях, терпя от своих любимцев самые дикие выходки. Неудивительно, что о Шальном и Забияке ходили самые мрачные слухи – здесь следует отметить, что коням, как и людям, давались особые имена.
Животные были прекрасно вышколены, так что всякая нужда в уздечках отпала, последние сохранились лишь в качестве украшений, которыми прежде всего гордились сами кони. Привычным средством общения людей с лошадьми стало слово. Заметив, что свобода способствует развитию лучших качеств, люди позволили коням вольно пастись на великолепных лугах за городом, на берегу Коссинита.
Кони без промедления являлись на зов трубы, шла ли речь о труде или раздаче корма. Их ловкость во всевозможных играх, не только в цирке, но и в гостиных, их храбрость в сражениях, их скромность на торжественных церемониях граничили с вымыслом.
Прослышав о великолепном ипподроме Абдеры, ее искусных наездниках и пышных погребальных процессиях, люди отовсюду стекались в славный город – что в равной мере было заслугой как всадников, так и коней.
Эти непрерывные занятия, неестественные условия жизни, словом, вся эта гуманизация лошадиного племени породили явление, которое бистоны восторженно сочли еще одним доказательством своего национального величия. У лошадей появились зачатки разума, что повлекло за собой некоторые странности в поведении.
Одна кобыла, сорвав зубами зеркало со стен хозяйской спальни, потребовала повесить его у себя в стойле, но, получив отказ, разбила вдребезги ударом копыта. Когда же ее прихоть была исполнена, лошадка принялась, как заправская кокетка, вертеться перед зеркалом.
Самый красивый в Абдере конь Балиос, белоснежный, элегантный и мечтательный, участник двух военных кампаний, восторженно внимавший звукам героических гекзаметров, без памяти влюбился в жену своего хозяина – что, разумеется, не могло остаться незамеченным. Вся эта история считалась даже лестной для владельца, что, впрочем, совершенно естественно для помешанной на лошадях столицы.
Мало того, среди лошадей распространились отвратительные пороки: детоубийство, грозившее принять столь чудовищные размеры, что жеребят стали отдавать на воспитание пожилым мулицам; страсть к конопле, плантации которой подвергались разбойничьим набегам, а также наклонность к бунту, пресекавшаяся каленым железом, ибо кнут уже не оказывал былого воздействия.
Это крайнее средство приходилось применять все чаще, ибо стремление к мятежу росло, невзирая ни на что.
Однако абдериты, обожавшие своих коней, смотрели на все их выходки сквозь пальцы. Дальше – больше. Несколько жеребцов напали сообща на возницу, стегавшего кнутом заупрямившуюся кобылу. Лошади все яростней сопротивлялись уздечке и седлу, так что пришлось пересаживаться на ослов. Иные кони наотрез отказывались надевать не слишком нарядную, на их взгляд, упряжь, а их владельцы малодушно уступали, объясняя своеволие простым капризом.
Однажды кони не явились на зов трубы, тогда их пригнали силой, и на какое-то время они присмирели.
Бунт разразился в тот день, когда отлив, как это порой случается, оставил на песке множество мертвой рыбы. Кони наелись ею до отвала. Видели, как они брели на луг, осоловев от непривычной пищи.
В полночь разыгралось невиданное сражение.
По улицам Абдеры прокатился глухой, немолкнувший гул: все кони разом пустились вскачь на осаду города. Но люди узнали об этом позже, а поначалу во мраке ночи, заслышав странный шум, абдериты терялись в догадках.
Пастбища находились в стенах города, а значит, путь нападавшим был открыт, и если прибавить к этому, что лошади прекрасно знали устройство людских жилищ, то катастрофа казалась неминуемой.
События той страшной ночи, которые в полной мере обнаружились только при свете дня, продолжали множиться. Выбитые двери валялись на земле, и разъяренные животные валили внутрь. Пролилась кровь, множество горожан пало под копытами или от зубов коней, в рядах которых тоже имелись потери.
Город содрогался от бешеной скачки, над крышами домов повисло темное облако пыли, в воздухе смешались крики ярости и боли, ржание, напоминавшее речь, редкие скорбные вопли ослов и неумолчный стук копыт о запертые двери – вся эта какофония усиливала зримый ужас катастрофы. Время от времени мимо проносились табуны коней, метавшихся без смысла и без цели. Разграбив плантации конопли и даже винные погреба, куда первым делом устремились избалованные твари, лошади крушили все подряд. Бежать морем не было никакой возможности: кони, знакомые с назначением кораблей, перекрыли путь к гавани.
Лишь крепость сумела устоять и даже перейти к сопротивлению. В каждого приблизившегося к ее стенам копя летели дротики, а туши сраженных животных затаскивали внутрь как провиант.
Среди защитников крепости ходили самые фантастические слухи. Будто бы первые нападавшие помышляли лишь о грабеже. Они выламывали двери и врывались в дома, польстившись на роскошные ковры, драгоценности и блестящие предметы. Но, встретив сопротивление, лошади разъярились.
Рассказывали о чудовищных страстях, о женщинах, обесчещенных на собственном ложе, ссылались даже на некую благородную девицу, которая в перерыве между обмороками успела, заливаясь слезами, поведать о своем несчастье: как, пробудившись ото сна, она увидела в полумраке спальни отвратительного черного жеребца; как он дрожащими от похоти губищами, из-под которых торчали мерзкие желтые зубы, припал к ее устам; как она в ужасе забилась в объятиях исступленного зверя, глаза которого недобро сверкали; как реки крови оросили ее тело, когда подоспевший слуга пронзил насильника мечом...
Сообщали об убийствах, совершенных кобылами с истинно женской жестокостью – жертву разрывали на куски зубами. Ослов изгнали из города, а мулы примкнули к восставшим, однако по свойственной им тупости бесцельно громили все, что попадалось на глаза, с особым ожесточением гоняясь за собаками.
От бешеной скачки разъяренных животных дрожала земля, число разрушений множилось. Чтобы спасти город от бессмысленной гибели, нужно было, несмотря на крайнюю опасность, выйти за стены крепости.
Мужчины начали вооружаться, однако после недолгой передышки кони тоже решили перейти в наступление.
Настала зловещая тишина. Со стен крепости следили, как на ипподроме не без труда собирается страшное войско. Через несколько часов, когда, казалось, все было готово к штурму, ряды неприятеля по непонятной причине расстроились, кони заметались, оглашая воздух пронзительным ржанием.
Когда мятежники пошли наконец на приступ, солнце клонилось к западу. Однако дело, если позволительно так выразиться, свелось к простому представлению, ибо нападавшие промчались мимо стен – и только. Зато защитники крепости осыпали их дождем стрел.
Собравшись на краю города, кони вновь устремились на штурм. На этот раз их натиск был страшен. На крепость обрушился шквал ударов, сказать по правде, ее крепкие дорические стены сильно пострадали.
Волна нападавших схлынула, но тут же последовала новая атака.
Лошади и мулы гибли сотнями, но в яростном порыве вновь смыкали свои ряды – казалось, им нет конца. Некоторые из них сумели облачиться в боевые доспехи и стали неуязвимы для дротиков. Одни нацепили на себя куски ярких тканей, другие – ожерелья. И сохраняя ребячливость даже в битве, кони вдруг принимались весело скакать и резвиться.
Со стен их узнавали. Динос, Этон, Аметей, Ксантос! И те приветственно ржали, гордо выгибали хвост и тут же, дрожа от нетерпения, бросались в бой. Один из них, наверняка вожак, поднялся на дыбы, грациозно выгнул шею и, перебирая в воздухе передними ногами, стал прохаживаться взад и вперед, словно в боевом танце – пока не получил в брюхо дротик...
Удача сопутствовала нападавшим. Стены начали подаваться. Внезапно кони заволновались. Один за другим, слегка присев, они тянули шеи к тополиной роще на берегу Коссинита. Защитники крепости, устремив взгляд туда же, в ужасе застыли.
На фоне вечернего неба над черной рощей застыла гигантская голова льва. То был один из древних, почти исчезнувших зверей, что время от времени опустошали Родопы. Однако подобного чудовища еще никто не видел: его голова вздымалась над деревьями, а косматая грива путалась в позолоченных закатом листьях.
Громадные клыки влажно поблескивали, глаза щурились от яркого света. Ветер доносил его резкий звериный запах. Львиная голова, ржаво-золотая от заходящего солнца, застыла над трепещущей листвой, подобно каменным изваяниям, что в незапамятные времена воздвигло древнее, как сами горы, племя пелагров.
И вдруг он двинулся вперед, неспешно, словно волны океана. Послышался треск раздвигаемых его грудью ветвей, могучее, как порыв ветра, дыхание.
Мятежников, несмотря на их силу и численность, охватила паника. В мгновение ока кони метнулись к морскому берегу и, вздымая тучи песка и пены, помчались к Македонии – были и такие, что в поисках спасения кинулись в волны.
В крепости царило смятение. Сопротивляться не имело смысла. Какие ворота устоят против этих клыков? Какая стена – против когтей?..
Люди уже сожалели о недавних противниках – те, как никак, были цивилизованными созданиями. Когда чудовище вышло из зарослей, никто даже не натянул тетивы.
И вдруг из его челюстей вместо звериного рева вырвался военный клич «а-ла-ле!», в ответ со стен прозвучало ликующее «хой-о-хей!» и «хой-ото-хо!».
Великое чудо!
Из-под львиной головы сиял божественный лик героя, шкура цвета меда облегала мраморные плечи, крепкие, как ветви дуба, руки, безупречные бедра.
И клич, радостный клич свободы, признания и гордости наполнил вечерний воздух:
– Геркулес! Сам Геркулес пришел к нам на помощь!
Ги де Мопассан
Кто знает?
I
Боже мой! Боже мой! Итак, я наконец запишу все, что со мной случилось! Но удастся ли мне сделать это? Решусь ли я? Это так странно, так непонятно, так безумно!
Если бы я не был уверен в том, что действительно видел все это, не был уверен, что в моих рассуждениях нет никакой путаницы, в моих восприятиях – никакой ошибки, в неумолимой последовательности моих наблюдений – никаких пробелов, то я считал бы себя просто-напросто жертвой галлюцинации, игралищем странных видений. Но в конце концов, кто знает?
Сейчас я нахожусь в лечебнице, но я пришел сюда добровольно, из осторожности, из страха. Мою историю знает только один человек на земле. Здешний врач. Я ее запишу. Сам не знаю, зачем. Затем, чтобы отделаться от нее, потому что она душит меня, как невыносимый кошмар.
Вот она.
Я всегда был человеком одиноким, мечтателем, чем-то вроде философа-отшельника; я был доброжелателен, всегда довольствовался малым, не сердился на людей и не досадовал на Бога. Жил я всегда один, чувствуя в присутствии других какое-то стеснение. Чем объяснить это? Не знаю. Я не отказываюсь встречаться со знакомыми, беседовать и обедать с друзьями, но когда я ощущаю их присутствие слишком долго, то даже самые близкие из них утомляют меня, надоедают, раздражают, и я начинаю испытывать все растущее мучительное желание, чтобы они ушли или уйти самому, остаться в одиночестве.
Это желание – больше, чем потребность; это настоятельная необходимость. И если бы присутствие людей, среди которых я нахожусь, затянулось, если бы мне пришлось в течение долгого времени не то чтобы выслушивать их разговоры, но хотя бы только слышать их голос, то со мной, несомненно, случилась бы какая-нибудь беда. Какая именно? Ах, кто знает! Может быть, простой обморок? Да, возможно.
Я так люблю одиночество, что даже не переношу, чтобы другие люди спали под одной кровлей со мною; я не могу жить в Париже, для меня это беспрестанная агония. Я умираю духовно, но и мое тело, мои нервы тоже страдают от этой бесконечной толпы, которая кишит, живет вокруг меня, даже когда спит. Ах, сон других людей для меня еще тягостнее, чем их разговоры. И я совершенно не отдыхаю, когда чувствую, когда знаю, ощущаю за стеной чужую жизнь, прерванную этим регулярным затмением сознания.
Почему я такой? Кто знает! Причина, может быть, очень проста: я слишком быстро утомляюсь от всего, что происходит вне меня. И таких людей вовсе не мало.
На земле существует две породы людей. Те, кто нуждается в других, кого другие развлекают и занимают, кому они дают отдых и кого одиночество изнуряет, истощает, опустошает, как подъем на ужасный ледник или переход через пустыню. Другие – те, кого люди, наоборот, утомляют, раздражают, стесняют, подавляют, тогда как одиночество успокаивает их и дает им отдых благодаря независимому и прихотливому полету мысли.
Словом, это обычное психическое явление. Одни наделены даром жизни внешней, другие – жизни внутренней. У меня внешнее внимание длится очень недолго и быстро исчерпывается, и как только наступает его предел, во всем моем теле и в моем сознании появляется ощущение тяжелого недомогания.
В силу этого я привязываюсь и всегда был очень привязан к вещам неодушевленным; для меня они получали значение живых существ, и дом мой превращался в мир, где я жил уединенной и деятельной жизнью среди вещей, мебели, привычных безделушек, радовавших мой взор, как дружеские лица. Я постепенно наполнял, украшал ими дом и чувствовал себя довольным, удовлетворенным, счастливым, словно в объятиях милой женщины, привычные ласки которой сделались для меня спокойной и сладостной потребностью.
Я выстроил этот дом в прекрасном саду, отделявшем его от дороги; стоял он у заставы города, и в этом городе я мог, когда захочу, найти общество, в котором иногда испытывал необходимость. Все мои слуги спали в отдельном домике, в глубине огорода, окруженного высокой стеной. В тишине моего затерянного, спрятанного жилища, утопавшего среди листвы больших деревьев, темный покров ночи был для меня так приятен, так полон покоя, что каждый вечер я часами медлил лечь в постель, чтобы подольше насладиться всем этим.
В тот день в городском театре давали Сигурда. Я впервые слышал эту прекрасную феерическую музыкальную драму и получил большое удовольствие.
Домой я возвращался пешком, быстрыми шагами. В ушах еще звучала музыка, перед глазами носились прекрасные видения. Ночь стояла черная-черная, такая черная, что я еле различал большую дорогу и несколько раз чуть не свалился в канаву. От заставы до моего дома было около километра, а может быть, немного больше, минут двадцать спокойной ходьбы. Был час ночи, час или половина второго; небо постепенно светлело, и наконец появился месяц, грустный месяц последней четверти. Месяц первой четверти, тот, что встает в четыре-пять часов вечера, – веселый, светлый, серебристый, а убывающий, встающий после полуночи, – красноватый, мрачный и тревожный: настоящий месяц шабаша. Это, должно быть, знают все любители ночных прогулок. Молодой месяц, хотя бы топкий, как ниточка, отбрасывает свет слабый, но веселый, радующий сердце и рисующий на земле отчетливые тени; на ущербе же он излучает свет мертвенный, такой тусклый, что теней почти не получается.
Я завидел вдали темную массу своего сада, и, не знаю почему, мне стало как-то не по себе при мысли, что надо войти туда. Я замедлил шаг. Было очень тепло. Большая купа деревьев казалась усыпальницей, где погребен мой дом.
Я открыл калитку и вошел в длинную аллею сикомор; она вела к подъезду, и ветви, сомкнувшись над головой, образовали как бы высокий туннель; он прорезал темные массивы зелени и огибал газоны с цветочными клумбами, которые казались в сумраке овальными пятнами неразличимых оттенков. Когда я приблизился к дому, странное смущение охватило меня. Я остановился. Ничего не было слышно. Даже ветерок не шумел в листве. «Что это со мной?» – подумал я. Целых десять лет возвращался я домой таким образом и ни разу не испытывал ни малейшего беспокойства. Я не боялся. Никогда я не боялся ночи. Вид человека, какого-нибудь вора, грабителя, сразу привел бы меня в бешенство, и я, не колеблясь, бросился бы на него. К тому же я был вооружен. Со мной был револьвер. Но я к нему не прикасался, желая побороть в себе зарождавшееся ощущение страха.
Что это было? Предчувствие? Таинственное предчувствие, овладевающее человеком, когда ему предстоит увидеть необъяснимое? Возможно. Кто знает?
По мере того как я продвигался вперед, меня начинала охватывать дрожь, и, когда я подошел к степе, к закрытым ставням большого дома, я почувствовал, что, прежде чем открыть дверь и войти, мне придется подождать несколько минут. Тогда я сел на скамью под окнами гостиной. Я сидел, слегка вздрагивая, прислонившись головой к стене и глядя на тени деревьев. В эти первые мгновения я не заметил кругом ничего особенного. В ушах у меня стоял какой-то шум, но это со мной бывает довольно часто, иногда мне кажется, будто я слышу грохот поездов, звон колокола, топот толпы.
Но вскоре этот звук стал отчетливее, яснее, понятнее. Я ошибся. То не был обычный гул крови в жилах, от которого у меня начинался шум в ушах, это были какие-то особые, хотя смутные шорохи, несомненно, исходившие из моего дома.
Я слышал сквозь стены это непрерывное постукивание – и то был скорее шелест, чем шум, непонятное перемещение массы вещей, словно кто-то потихоньку толкал, сдвигал, переставлял, перетаскивал всю мою мебель. О, я еще довольно долго сомневался в верности своего слуха. Но, приникнув ухом к ставню, чтобы как следует вслушаться в странное движение, происходившее в доме, я уверился, убедился, что там делается что-то особенное и непонятное. Я не боялся, но был... как бы это определить?.. был изумлен. Заряжать револьвер я не стал, догадавшись – и правильно, – что в этом нет никакой надобности. Я ждал.
Я ждал долго и не мог ни на что решиться. Ум мой был ясен, но отчаянно возбужден. Я ждал стоя и все прислушивался к нараставшему шуму; временами он доходил до какого-то яростного напряжения, так что казалось, будто слышишь рев нетерпения, гнева непонятного возмущения.
И вдруг мне стало стыдно своей трусости: я выхватил связку ключей, выбрал нужный ключ, вложил в скважину, дважды повернул его и изо всей силы толкнул дверь, так что она ударилась в стену.
Удар прогремел, как ружейный выстрел, и этому выстрелу ответил ужасающий грохот по всему дому, сверху донизу. Это было так неожиданно, так страшно, так оглушительно, что я отступил на несколько шагов и вынул из кобуры револьвер, хотя по-прежнему чувствовал всю его бесполезность.
Я подождал еще – о, очень недолго! Теперь я уже различал какой-то необычный топот по ступенькам лестницы, по паркету, по коврам, топот не подошв, не людских башмаков, а костылей, деревянных и железных костылей: железные костыли гремели, как цимбалы. И вдруг я увидел на пороге, в дверях, кресло – мое большое кресло для чтения, вразвалку выходившее из дому. И оно проследовало по саду. За ним потянулись кресла из моей гостиной, потом, словно крокодилы, проползли на коротеньких лапках низкие канапе, потом проскакали, словно козы, все мои стулья, а за ними трусили кроликами табуретки.
О, какое волнение! Я проскользнул в гущу деревьев и присел там на корточки, не отрывая глаз от этого шествия своей мебели: ведь она уходила вся, вещь за вещью, то медленно, то быстро, смотря по росту и весу. Мой рояль, мой большой рояль, проскакал галопом, словно взбесившийся конь, и музыка гремела в его чреве; словно муравьи, спешили по песку мелкие предметы: щетки, хрусталь, бокалы – и лунные лучи блестели на них, как светляки. Ткани ползли, растекаясь лужами наподобие каракатиц. Я увидел и свой письменный стол, редкостную вещь прошлого века; в нем лежали все полученные мною письма, вся история моего сердца, старая история, так выстраданная мной! И фотографии тоже были в нем.
И вдруг я перестал бояться, я бросился и схватил его, как хватают вора, как хватают убегающую женщину; но он двигался с неумолимой силой, и, несмотря на все свои старания, несмотря на весь свой гнев, я не мог даже замедлить его ход. Отчаянно сопротивляясь этой ужасающей силе, я упал на землю. И он потащил, повлек меня по песку, и вещи, шедшие позади, уже начинали наступать на меня, ушибая, разбивая мне ноги; а когда я разжал руки, эти вещи прошли по моему телу, как кавалерийская часть проносится во время атаки по выбитому из седла солдату.
Наконец, обезумев от страха, я все-таки уполз с большой аллеи... и снова притаился под деревьями; оттуда я увидел, как уходят мельчайшие вещи, самые маленькие, самые скромные, – те, которых я почти не знал, но которые принадлежали мне.
И затем вдали, в своей квартире, отныне гулкой, как все пустые дома, я услышал страшное хлопанье дверей. Они хлопали по всему дому сверху донизу, пока наконец не закрылась последней входная – та, которую я сам, безумец, открыл для этого бегства вещей.
И тогда я тоже пустился в бегство. Я убежал в город, и только на его улицах я успокоился, встречая запоздалых прохожих. Я позвонил у дверей гостиницы, где меня знали, кое-как руками почистил одежду, стряхнув с нее пыль, и рассказал, будто потерял связку ключей, в том числе и ключ от огорода, где спали в домике мои люди, – спали за стеной, охранявшей мои фрукты и овощи от ночных воров.
Я зарылся с головой в постель. Но заснуть не мог и, слушая биение своего сердца, ждал утра. Я уже распорядился, чтобы моих людей предуведомили еще до восхода солнца, и в семь утра ко мне постучался камердинер.
На нем лица не было.
– Сегодня ночью, сударь, случилось большое несчастье, – сказал он.
– Что такое?
– Украдена вся ваша обстановка, сударь. Вся, вся до последней мелочи.
Это сообщение обрадовало меня. Почему? Кто знает! Я отлично владел собою, был уверен, что скрою все, никому ничего не скажу о том, что я видел, утаю все это, похороню в своей памяти, как страшную тайну. Я ответил:
– Так это те самые воры, что украли у меня ключи. Надо немедленно сообщить в полицию. Я сейчас же встану, и мы пойдем вместе.
Следствие длилось пять месяцев. Ничего не было открыто, не нашли ни одной, самой маленькой моей безделушки, ни малейшего следа воров. Ах, черт! Если бы я сказал то, что было мне известно... если бы я это сказал... да они бы меня посадили под замок! Меня! Не воров, а того человека, который мог видеть подобное!
О, я умел молчать! Но обставлять дом заново я не стал. Совершенно лишнее. Все началось бы снова. Я не хотел возвращаться в этот дом. И не вернулся. Больше я его не видел.
Я уехал в Париж, осведомился в гостинице и посоветовался с врачами относительно состояния моих нервов; после той страшной ночи оно начало беспокоить меня.
Врачи предписали мне путешествие. Я последовал их совету.
II
Я начал с поездки в Италию. Южное солнце принесло мне пользу. На протяжении полугода я странствовал из Генуи в Венецию, из Венеции во Флоренцию, из Флоренции в Рим, из Рима в Неаполь. Потом я прокатился по Сицилии, замечательной своею природой и памятниками – реликвиями, оставшимися от греков и норманнов. Я проехал по Африке, мирно пересек эту огромную желтую безжизненную пустыню, где бродят верблюды, газели и кочевники-арабы, где в легком и прозрачном воздухе ни днем, ни ночью вас не преследует никакое наваждение.
Затем я вернулся во Францию через Марсель, и, несмотря на всю провансальскую веселость, сравнительно слабая яркость неба уже опечалила меня. Вернувшись на родной материк, я испытал своеобразное ощущение, какое бывает у больного, когда он считает себя выздоровевшим и вдруг глухая боль говорит ему, что очаг недуга не уничтожен.
Я снова поехал в Париж. Через месяц мне там надоело. Была осень, и мне захотелось до наступления зимы проехаться по Нормандии, где я никогда не бывал.
Начал я, разумеется, с Руана и целую неделю, развлекаясь, восхищаясь, восторгаясь, бродил по этому изумительному музею необыкновенных памятников готики.
И вот однажды, около четырех часов дня, я забрел на какую-то невероятную улицу, где протекает черная, как чернила, река под названием О-де-Робек, заинтересовавшись причудливым и старинным обликом домов, как вдруг мое внимание было отвлечено целым рядом лавок случайных вещей, следовавших одна за другой.
О, эти мерзкие торговцы старьем прекрасно выбрали место в этой фантастической улочке, над мрачной водой, под этими острыми черепичными и шиферными крышами, на которых еще скрипели старинные флюгера.
В глубине темных магазинов громоздились резные сундуки, руанский, неверский и мустьерский фаянс, резные и раскрашенные статуи из дуба – Иисусы, мадонны, святые; церковные украшения, нарамники, ризы, даже священные сосуды и старая позолоченная деревянная дарохранительница, которую Господь Бог уже давным-давно покинул. О, что за странные притоны были в этих высоких, этих огромных домах, набитых от погреба до чердака всевозможными вещами, жизнь которых казалась конченной, вещами, пережившими своих естественных владельцев, свой век, свои времена, свои моды, чтобы новые поколения скупали их как редкость!
В этом антикварном квартале ожила моя любовь к вещам. Я переходил из лавки в лавку, в два прыжка перебираясь по мостам в четыре гнилые доски, переброшенным над вонючим течением О-де-Робек.
Боже великий, какой ужас! Под одним из забитых вещами сводов, который показался мне входом в катакомбу, в усыпальницу старинной мебели, я увидел один из прекраснейших своих шкафов. Я подошел, весь дрожа, так дрожа, что не решился прикоснуться к нему. Я протягивал руку, колебался. Но это, несомненно, был мой шкаф стиля Людовика XIII, уникальная вещь, которой не мог не узнать тот, кто видел ее хоть раз. И вдруг, заглянув немного вперед, в еще более мрачные глубины этой галереи, я различил три своих кресла, обитых гобеленом тончайшей работы, а затем подальше – два моих стола времен Генриха II, таких редких, что люди приезжали из Парижа поглядеть на них.
Подумайте! Подумайте, каково было мое состояние!
И я пошел вперед; ноги не слушались меня, я умирал от волнения, но все шел, потому что я храбр; я шел, как рыцарь давних темных времен, проникающий в заколдованное жилище. И с каждым шагом я открывал все свои вещи: мои люстры, мои книги, мои ткани, мое оружие – все, кроме стола с письмами, – его я не видел.
Я шел, спускаясь в темные подвалы и снова поднимаясь в верхние этажи. Я был один; в этом доме, обширном и извилистом, как лабиринт, не было никого.
Наступила ночь, и мне пришлось опуститься во мраке на один из моих стульев, потому что уходить я не желал. Время от времени я кричал:
– Эй! Эй, кто-нибудь!
Я, наверно, прождал не менее часа, пока услышал где-то шаги, легкие, медленные шаги. Я чуть не сбежал, но потом, успокоившись, позвал еще раз и увидел в соседней комнате свет.
– Кто там? – спросил голос.
Я отвечал:
– Покупатель.
Мне ответили:
– Сейчас уже поздно ходить по лавкам.
Но я сказал:
– Я жду вас больше часа.
– Можете прийти завтра.
– Завтра я уезжаю из Руана.
Я не решался приблизиться к нему, а он не подходил. Я только видел свет, озарявший гобелен, на котором два ангела летали над покрытым трупами полем сражения. Гобелен был тоже мой. Я сказал:
– Ну, что же, вы идете?
Он отвечал:
– Я жду вас.
Я встал и направился к нему.
Посреди большой комнаты стоял крохотный человечек, совсем крохотный и страшно толстый, феноменально толстый, – отвратительный феномен.
У него была реденькая неровная бороденка из скудных желтоватых волосков, и ни одного волоса на голове. Ни одного. Так как свечу он высоко поднял над собой, чтобы разглядеть меня, то череп его показался мне маленькой луною в этой огромной комнате, заставленной старинной мебелью. Лицо его было сморщенное и одутловатое, глаза – еле заметные щелки.








