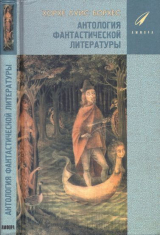
Текст книги "Антология Фантастической Литературы"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Соавторы: авторов Коллектив,Гилберт Кийт Честертон,Франц Кафка,Редьярд Джозеф Киплинг,Льюис Кэрролл,Рюноскэ Акутагава,Хорхе Луис Борхес,Франсуа Рабле,Хулио Кортасар,Лорд Дансени
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
Хосе Бьянко
Сон-костюмер
I
– Я буду скучать без него, я ведь его любила как сына, – сказала донья Кармен.
В ответ раздалось:
– Да, конечно, вы к нему очень хорошо относились. Но так будет лучше.
В последнее время, когда я подходила к дому на улице Пасо, где мы снимали комнаты, то избегала взгляда доньи Кармен, чтобы не нарушить ту смутную сонную апатию, которая уже превратилась почти в привычку. Сегодня, как и обычно, я задержала взгляд на Рауле. Юноша сматывал в клубок моток шерстяной пряжи, натянутый на спинки двух стульев. На вид ему лет двадцать, не больше, и его отличает присущее статуям застывшее, как бы нездешнее выражение лица, исполненное мягкой нежности. Она перевела взгляд с Рауля на фартук женщины, на ее цепкие, слегка согнутые поверх каждого кармана пальцы, а затем посмотрела в лицо доньи Кармен. И не без удивления подумала: «Это все мои домыслы. Наверное, я никогда не питала к ней ненависти». И с грустью отметила про себя: «На улицу Пасо я больше не вернусь».
В комнате доньи Кармен было довольно много мебели, кое-что здесь принадлежало Хасинте: бюро из красного дерева, за которым ее мать раскладывала замысловатые пасьянсы или сочиняла не менее замысловатые письма друзьям своего мужа с просьбами одолжить денег; кресло с выглядывающей из него местами набивкой... С любопытством вглядывалась она в этот лик нищеты, который издалека казался черной и устойчивой каменной глыбой, но мало-помалу из тьмы начали проступать более приветливые полутени (опыта Хасинте доставало) и стали различимы очертания ниш, где можно было бы укрыться. Нищета не враждовала с минутами глубокого счастья.
Она вспомнила времена, когда ее брат отказывался от еды. Добиваясь, чтобы он съел хоть что-нибудь, они припрятывали тарелку с мясом под гардеробом или в ящике письменного стола... По ночам Рауль вставал – и на следующий день пустая тарелка стояла на том самом месте, где они ее оставляли. Поэтому после еды, пока Рауль прогуливался по тропинкам, мать с дочерью придумывали очередной тайник. Хасинте вспомнилось одно осеннее утро. Ей послышались стоны в соседней комнате. Войдя туда, она приблизилась к сидящей в кресле матери, отвела ее руки от лица и увидела, что та захлебывается от безудержного смеха. Сеньора де Велес никак не могла вспомнить, куда вчера вечером спрятала тарелку.
Ее мать приспосабливалась к любым обстоятельствам с жизнерадостной и какой-то детской мудростью. Ничто не могло застать ее врасплох, и поэтому каждое новое несчастье падало на подготовленную почву. Невозможно даже с точностью определить, в какой именно момент оно сваливалось на голову, до такой степени оно тут же делалось привычно-родственным, близким, и то, что поначалу воспринималось как изменение к худшему, как несчастье и порок, незаметно превращалось в норму, в закон, во врожденную принадлежность самой жизни. Как выдающиеся политик и воин, беседующие в английском посольстве, были для Делакруа блестящими осколками зримой природы, – мужчина в синем рядом с мужчиной в красном, – так и вещи в глазах ее матери, казалось, освобождаются от тенет всяких условностей, теряют все свое злокозненное коварство и обретают в некотором роде метафизическую трансцендентность чистоты, которая их всех в итоге уравнивает.
Она вспомнила, какой таинственный и чуть смешной вид был у доньи Кармен, когда она привела ее в дом Марии Рейносо. Внутри на двери висела бронзовая табличка с надписью: «Рейносо. Посреднические услуги». Пока они шли по длинному коридору, донья Кармен бормотала, запинаясь, что не советует разговаривать с матерью о Марии Рейносо, и Хасинта, увидев искорку простодушия в столь хитрой женщине, задумалась о тяге к иллюзиям, о врожденной склонности к мелодраме, живущей в так называемых низших классах. Но на самом-то деле так ли уж много значила она для матери? Никогда она этого не узнает. Да и невозможно уже узнать.
Она начала посещать дом Марии Рейносо, и донье Кармен теперь не нужно было содержать их (уже больше года, толком непонятно почему, она помогала семье Велес). Однако избежать встреч с домоправительницей было нелегко. Хасинта сталкивалась с ней, когда та беседовала с поставщиками в просторной передней, куда выходили все двери, а случалось, обнаруживала ее и в своей собственной комнате. И как только ее можно было оттуда выдворить? Впрочем, благодаря хозяйке пансиона изредка наводился порядок в трех комнатах, которые занимали Хасинта с матерью и братом. Донья Кармен раз в неделю обрушивала на семью Велес бурный натиск своей активности: открывала двери, драила полы, полировала мебель, и все это – с видом плохо сдерживаемой ярости. А тем временем во дворике взорам соседей представало во всем своем бесстыдстве зазывное великолепие матрасов и сомнительного постельного белья. И семейство покорялось со смешанным чувством благодарности и легкого стыда. После такого шквала беспорядок вновь начинал окутывать их своей равнодушной, но прочной паутиной.
Хасинта заставала ее за вязанием, сидящей рядышком с матерью. В первый день, когда Хасинта познакомилась с Марией Рейносо, донья Кармен попыталась обменяться с ней впечатлениями об этой женщине, но Хасинта отвечала односложно. Одно лишь присутствие, пусть и молчаливое, хозяйки пансиона способно было перенести ее в тот, другой дом, откуда она только что ушла. И Хасинта в такие вечера, утолив пыл какого-нибудь мужчины, также жаждала успокоения и забытья. Ей необходимо было затеряться в этом бесконечном и опустошенном мире, в котором существовали ее мать и Рауль. Сеньора де Велес раскладывала очередного «Наполеона» или «Меттерниха». Она тасовала колоду карт, и постепенно на стол в строгом порядке ложились красные и черные семерки и восьмерки, дамы и короли с головами без шеи, со скипетрами, увенчанные коронами. Их меланхолическое величие раскалывалось надвое на сжатом пространстве карточного листа. Время от времени, не отрываясь от карт, она упоминала о всяких мелочах, о которых с ней никто и не думал спорить, или вспоминала о родственниках и друзьях из другой эпохи, которые не общались с ней вот уже лет двадцать и, наверное, считали, что она умерла. Иногда Рауль останавливался подле матери. Подперев щеку одной рукой, а другой поддерживая локоть, он вместе с ней следил за неторопливым карточным танцем. Сеньора де Велес, чтобы развлечь сына, вовлекала его в ласково журчащий монолог, прерываемый паузами с придыханием, когда ее слова, казалось, повисают в воздухе и теряют всякий смысл. Она приговаривала:
– Перетасуем как следует. А вот и дама. Теперь можем вытащить валета. Валет пик, смотри, он черноволос, и в профиль на тебя похож. Юный брюнет со светлыми глазами, как сказала бы донья Кармен, которая прекрасно гадает на картах... И еще один рядок положим, но не торопясь. Теперь-то «Наполеон» обязательно получится. А он редко сходится. Не иначе, это к беде. Однажды в Экс-ле Бэн он у меня сошелся три раза подряд за вечер, и на следующий день объявили войну. Нам пришлось бежать в Геную и сесть на торговое судно «tous feux eteints»[56]56
«С потушенными огнями» (франц.).
[Закрыть]. А я все продолжала раскладывать «Наполеона» – трефу к трефе, восьмерку на девятку. Ну куда же подевалась эта десятка пик? И все время этот жуткий страх подорваться на мине или столкнуться с подводной лодкой. Твой бедный отец говорил мне: «Ты ждешь, что у тебя выйдет „Наполеон“, и тогда мы пойдем ко дну. Ты веришь, но веришь в злой рок...»
Наркотик потихоньку начинал действовать, успокаивая Хасинту. Унималось возбуждение недавних впечатлений, возбуждение, бурлящее множеством суетливых частиц, боровшихся между собой и утверждавших свою собственную крошечную, но подлинную реальность. Хасинта чувствовала, как разливается по телу усталость, стирая все следы ее свидания с мужчиной, с которым она провела два часа в доме Марии Рейносо, заволакивая это едва начавшее отступать прошлое, населенное тысячами образов и жестов, запахов и слов; и она переставала различать границу между усталостью, которой предавалась чуть торжественно, и вечным покоем. Приоткрыв глаза, Хасинта следила за двумя своими любимыми призраками в этой серовато-расплывчатой дымке. Сеньора де Велес закончила раскладывать пасьянс. Лампа освещала ее руки, безжизненно упавшие на стол. Рауль по-прежнему стоял рядом, но карты, рассыпанные на золотистом сафьяне, его больше не интересовали. Вблизи от него, кажется, справа, находилась донья Кармен. Чтобы увидеть ее, Хасинте надо было повернуть голову. Была ли там действительно донья Кармен? У Хасинты возникло ощущение, что она избавилась от присутствия этой женщины, возможно, навсегда. Она словно вошла в круг, границу которого домоправительница не смела переступить. И спокойствие на несколько мгновений становилось таким глубоким, таким пронзительным. В состоянии полного блаженства, откинув голову назад, так, что затылок касался спинки стула, с отсутствующим взглядом, с полуулыбкой на устах, Хасинта напоминала больного, сжигаемого огнем лихорадки, в тот самый миг, когда жар вдруг спадает и боль начинает отступать.
Донья Кармен продолжала вязать. Изредка равномерная работа спиц передавала по длинной тонкой нити скрытую для глаза, почти животную дрожь толстому клубку шерсти, покоившемуся у ее ног. Подобно дремоте каменных львов с шарами на лапах, что охраняют чужие порталы, в безразличии доньи Кармен было нечто обманчивое, чреватое неожиданным взрывом бурной деятельности. Хасинта чувствует, как даже воздух вокруг наполняется чем-то враждебным. Вновь ее мыслями завладевают донья Кармен и Мария Рейносо и разговоры этих женщин.
Однажды вечером, когда Хасинта выходила из дома Марии Рейносо, она застала обеих у приоткрытой двери. Они тут же замолчали, но Хасинта была уверена, что говорили о ней. Маленькие глазки доньи Кармен смотрели неподвижно, их темная радужная оболочка сливалась со зрачком. Стоило ей посмотреть на кого-то, и человек чувствовал, что его изучают, но не мог уйти от этого пристального взгляда, а если он в свою очередь пытался глядеть в упор на донью Кармен, ее темные непрозрачные глаза пресекали какой бы то ни было безмолвный диалог, чем, в сущности, и бывает скрещение двух взглядов. Но в тот вечер глаза доньи Кармен даровали успокоение, они сияли, словно распахнутые настежь окна, и прямо к ее векам, этим снисходительно-любезным жалюзи, летели непристойные слова Марии Рейносо, приблизившей свое анемичное лицо к хозяйке пансиона и кривившей губы в жарком шепоте.
Хасинта вовсе не питала отвращения к своим свиданиям в доме Марии Рейносо. Они позволяли ей обрести независимость от доньи Кармен, содержать семью. Кроме того, для нее этих свиданий как бы не существовало вовсе: заговор молчания уничтожал их, сводил на нет. Разумом же Хасинта воспринимала себя свободной и незапятнанной в своих действиях. Но начиная с того вечера все переменилось. Она поняла, что кто-то подмечает и толкует ее поступки, отныне само молчание, казалось, сохраняет их в памяти, и мужчины, желавшие и покупавшие ее, начали странным образом отягощать ее совесть. Донья Кармен вызвала к жизни образ Хасинты униженной, неразрывно связанной с этими мужчинами; возможно, это и был истинный ее облик, облик Хасинты, созданный другими и именно ускользавший из-под их власти, которая подминала ее под себя, вселяя в нее ту обреченность, что охватывает нас перед лицом непоправимого. Но вместо того, чтобы раз и навсегда покончить с этим образом, Хасинта всецело посвятила себя страданию, будто страдание – единственное средство, которым она располагала, чтобы освободиться, и, по мере того как она страдала, она наконец сумела осознать жестокую действительность. Она бросила все попытки изменить свою жизнь, не предпринимая к тому ни малейших усилий. Когда-то она начала переводить с английского. Это были главы научной книги, подборки которых публиковались в медицинских журналах разных стран. Раз в неделю она получала примерно тридцать страниц, напечатанных на мимеографе, а когда приносила машинописный перевод (пишущую машинку Хасинта купила на распродаже в муниципальном банке), ей давали следующую порцию. Хасинта отправилась в бюро переводов, вернула последние главы и больше ничего не взяла.
Донью Кармен она попросила продать пишущую машинку.
Настал день, когда сеньора де Велес уснула вечным сном среди буйного благоухания жонкилей, тубероз, фрезий и гладиолусов. Врач их квартала, которого донья Кармен вытащила из кровати на рассвете, поставил диагноз: эмболия легочной артерии. Церемонию прощания с покойницей устроили в комнате, что рядом с дверью на улицу, – ее ради такого случая уступила соседка. Жильцы входили в комнату на цыпочках и, подойдя к гробу, лишь раз позволяли себе взглянуть в лицо сеньоры де Велес с тем плохо скрытым напряжением, что ощущалось в их боязливых шагах. Однако сеньору де Велес не беспокоили, казалось, ни эти взгляды, ни перешептывания соболезнующих (сидевших вокруг Хасинты и Рауля), ни мелькание туда-сюда доньи Кармен, которая разносила чашки с кофе, тщетно стараясь делать это без шума, поправляла венки из пальмовых листьев или пристраивала новые букетики в изножье гроба. Улучив момент, Хасинта покинула собравшихся, пошла в привратницкую и набрала номер телефона.
Затем очень тихо произнесла в трубку:
– Меня никто не спрашивал?
– Вчера звонил Штокер и хотел видеть вас сегодня в семь. Он еще позвонит. Я подумала, что в такой день вас не стоит беспокоить.
– Передайте ему, что я приду. Спасибо.
Наступал вечер, забыть который трудно. Вначале Хасинта долгое время провела в комнате матери, чувства ее обострились необычайно. Чуждая всему и одновременно крайне сосредоточенная, она словно парила и над собственным телом, и над окружавшими ее вещами, которые оживали в ее честь, радостно сияли, выставляя напоказ свои непреложные поверхности, свои строгие три измерения. «Они хотят быть моими друзьями – это несомненно, и вовсю стараются, чтобы я их заметила». Казалось, этот новый, неожиданный ракурс соответствует тайной сущности самих вещей и в то же время ее скрытому собственному «я». Она прошлась по комнате, все еще чувствуя на губах стойкий, обостренный агрессивностью чужого присутствия, вкус кофе. «А я ведь никогда не обращала внимания на эти вещи. Привычка отдаляла меня от них. А сегодня будто впервые вижу их по-настоящему».
И тем не менее она их узнавала. Вот оно – экстравагантное трюмо в стиле барокко, увенчанное консолью с инкрустированным зеркалом. Вот и две колоды карт на золотистом сафьяне. Вот лекарства ее матери, пузырек с дигиталисом, стакан, кувшин с водой. А вон там, в глубине зеркала, она сама, с призрачно мерцающим лицом, черты которого поражают тонкостью и невинностью. Сама она еще молода, но ее глаза, какого-то неопределенного, мутно-серого цвета, состарились прежде времени. «У меня глаза будто у мертвой». Ей вспомнились глаза матери, прикрытые веками с венозными прожилками, и глаза Рауля. «Нет, они смотрели совсем по-другому, ничего общего со мной». В их глазах заметна была гордость тех, кто чувствует себя «господином и владыкой собственного лица», но не зря же последняя строчка предостерегала: «лилии, что увядают», – впрочем, все это бесполезная проницательность, которая может разве что польстить столь же бесплодному тщеславию. Они напоминали ей о других людях, о ком-то, о чем-то. Где она видела такой же взгляд? На секунду память ее рухнула в пустоту, но оттуда ничего не появлялось. Хотя, погодите, та картина... Пустота начала заполняться, приобретать голубые и розовые оттенки. Хасинта отвела глаза от зеркала и увидела, как перед ней открывается балкон в ночной глубине, потом разглядела амфоры, неких исступленных псов, еще каких-то живых существ – павлина, белых и серых голубок. Это были «Две придворные дамы» Карпаччио.
Штокер уже ждал ее в квартире Марии Рейносо. У него было бесцветное, тусклое лицо и молодое, с белой кожей тело под обманчиво скромной одеждой, которая, казалось, скрывает его как защитная оболочка. Когда же он неспешно снимал ее, тщательно складывая, подбирая место для каждой вещи, то становился похож на ребенка. Он казался более обнаженным, более уязвимым, чем другие мужчины, – ребенок, почти не интересующийся Хасинтой. Он ласкал ее, нисколько не помышляя о том человеческом единении, что связывает их двоих; руки его, скользя по ее телу, будто хватали предметы какого-то неведомого культа, а после, завершив обряд и использовав предметы по назначению, вдумчиво и осторожно ставили их на место. На его лице застывала почти болезненная сосредоточенность, абсолютно несовместимая с желанием забыться, раствориться в наслаждении. Казалось, он ищет нечто – и не в женщине, а в себе самом, вопреки механическому ритму, который он уже не в силах был подчинить своей воле, ритм этот ему мешал, все лицо его жаждало неподвижности и было словно обращено внутрь себя в ожидании той молниеносной секунды, от чьей внезапной вспышки он ожидал ответа на свой упорно формулируемый вопрос.
Он вновь обрел свой растерянно-смущенный вид. Она же с горечью подумала о неизбежном возвращении к соседям, о тяжелом аромате цветов, о гробе. Однако мужчина не проявлял никакого желания уйти, расхаживая по комнате, а потом устроился на кресле у изножья кровати. Когда же Хасинта сочла, что наступила пора закончить свидание, он снова заставил ее сесть, положив ей руки на плечи.
– Ну и что ты теперь думаешь делать? У тебя больше никого не осталось?
– У меня есть брат.
– Брат, да, верно, но он...
Слова «идиот» или «слабоумный» не были произнесены, но повисли в воздухе. И чтобы отогнать их, Хасинта повторила фразу матери:
– Он у нас простодушный, как персонаж «Арлезианки».
И расплакалась.
Хасинта сидела на краешке кровати. Сложенное вчетверо одеяло и скомканные под ним простыни, которые минутами раньше они отбрасывали ногами в сторону, образовывали беспорядочный холм, на него и опиралась Хасинта, изгибая спину и устремив взор вниз, на серый войлок, постеленный на полу и терявшийся где-то под кроватью, в центре же комнаты этот серый цвет, омытый светом, приобретал красивый ясный оттенок. Возможно, именно эта неловкая расслабленная поза и дала волю слезам. Они катились по щекам, вынуждая ее незаметно наклониться к полу, на который они падали, становились серой водичкой на сером войлочном покрытии. Почему-то сейчас она чувствовала примерно то же самое, что и в те вечера, когда ее мать раскладывала пасьянсы и беспрестанно что-то говорила Раулю. И на затылке, и на спине она чувствовала легкую тяжесть ласкового, всепроникающего дождя. Мужчина продолжал говорить:
– Не плачьте, послушайте меня: я вам кое-что предложу, быть может, это и прозвучит неожиданностью для вас. Я живу один. Переезжайте ко мне, будем жить вместе.
И затем, словно заранее отвечая на ее возражения, добавил:
– Нам надо понять друг друга. В конце концов, я надеюсь на это, хочу в это верить. Бывает, даже змеи, мыши и совы мирно уживаются в одной пещере. Что же помешает нашему сосуществованию?
Все более настойчиво он убеждал Хасинту:
– Ответьте же, вы переедете ко мне? Перестаньте плакать, не волнуйтесь за своего брата. Пока пусть он остается там, где жил раньше. А потом посмотрим, что можно для него сделать.
Это «потом» означало санаторий.
II
Чужая боль внушала ему слишком большое уважение, чтобы попытаться утешить ее: Бернардо Штокер не осмеливался встать рядом с жертвой и избавить ее от власти страдания. По меньшей мере, он вел себя, как индейцы некоторых американских племен: когда один из них неожиданно свалится в воду, другие будут бить несчастного веслами и отгонять лодку, не давая ему спастись. В бурном течении и рептилии признают божественный гнев – возможно ли сражаться с невидимыми силами? Их товарищ уже осужден, а помочь ему – не означает ли это безрассудно поставить себя вровень с этими силами? Так, ведомый своими сомнениями, Бернардо Штокер научился и вообще подавлять их. «Мы сочувствуем ближнему, – размышлял он, – в той степени, в какой можем помочь ему. Его боль льстит нашему властолюбию, хотя бы на миг превращая нас в богов. Но истинная боль не приемлет утешения. И так как эта боль унижает нас, мы просто-напросто не признаем ее, не желаем замечать. И мы уже отвергаем побуждение, таящее в себе опасность; и гордость, прежде идущая от сердца, теперь заодно с разумом в стремлении отыскать доводы, с помощью которых можно было бы задушить порывы сердца. Мы замыкаемся в той единственной печали, что ранит наше самолюбие, и в конце концов она действительно повергает нас в хандру».
Безучастность Хасинты позволила Бернардо Штокеру догадаться о мере чужой скорби. На горе Хасинты он прореагировал мгновенно и непроизвольно, что было для него редкостью. Не руководило ли им искреннее желание избавить Хасинту от страданий?
Хасинта перебралась в его дом на площади Висенте Лопеса. Зима в тот год выдалась не особенно холодной, однако, просыпаясь на рассвете, Хасинта слышала ласковое журчание радиаторов, и в ее комнату проникал легкий запах топки: это Лукас с Росой разжигали камины в библиотеке и столовой. В десять, когда Хасинта выходила из спальни, слуги уже хлопотали в противоположном крыле дома.
Эту пару темнокожих из Тукумана Бернардо Штокер унаследовал от отца, так же, как и профессию финансового агента, его коллекции старинных книг и достойную уважения эрудицию в области толкования Библии. Старший Штокер, швейцарец по происхождению, приехал сюда семьдесят лет назад: в ту пору как раз начинали развиваться скотоводство, торговля, железнодорожное строительство, Банк Провинций вот-вот должен был выйти на третье место в мире, и «Контуар д’Эсконт», «Бэринг Бразерс», «Морган & Компани» продавали на сверкающие золотые франки и фунты стерлингов правительственные купоны. Сеньор Штокер трудился не покладая рук, сделал карьеру и мог позволить себе ежедневно забывать о своих биржевых делах и многочасовых разговорах в Иностранном Клубе, углубляясь в изучение Ветхого и Нового Завета. В религии он также был сторонником свободы совести, христианской свободы, терпимости и великодушия, провозглашаемого Евангелием. Он участвовал в бурных дебатах на тему «Библия и Вавилон», был членом Общества Немецких Монистов и отвергал всяческую власть и всяческий догматизм.
Однажды он отправился в путешествие по Европе. Бернардо (ему тогда было шестнадцать) сопровождал своего отца. В Берлинском Зоологическом саду, в большом актовом зале собирались светские профессора, раввины, дипломированные священники и официальные теологи и, перебивая друг друга, с жаром дискутировали о христианстве, эволюционизме, монизме, о Gottesbewusstsein[57]57
Божественное сознание (нем.).
[Закрыть], о синоптической и иоаннической традициях. Существовал или нет Иисус? Послания св. Павла – это догматические документы или записи, обусловленные конкретными обстоятельствами? По вечерам львиные рыки подстегивали возбуждение собравшихся. Президент напоминал публике, что Общество Немецких Монистов вовсе не ставит целью разжигать страсти, поэтому лучше бы воздержаться от проявления одобрения или осуждения. Тщетно: каждое выступление завершалось одновременно и громом аплодисментов, и свистом. Женщины падали в обморок. Духота стояла невыносимая. Выйдя оттуда, отец с сыном прошествовали мимо египетских павильонов, китайских храмов и индийских пагод. Миновали Большие Ворота Слонов. Сеньор Штокер остановился и, передав сыну трость, клетчатым носовым платком протер очки, потом отер подбородок и глаза. Было непонятно, вспотел он или плакал; стараясь сдерживать свою восторженность, он произнес жарким шепотом: «Какая ночь! И еще говорят о нынешней религиозной апатии! Изучение Библии, толкование Священного Писания и теология никогда не будут бесполезными, Бернардо. Запомни это хорошенько! Даже если нас заставят поверить, что Христос как историческая личность не существовал. Сегодня он живет в каждом из нас. С помощью его духа изменился весь мир, и с помощью этого духа мы сможем изменить мир еще больше, создать новую землю. Такие дискуссии, как сегодня, обогащают человечество».
В сопровождении духа Христа и своего сына Бернардо, на чью руку он опирался, Штокер еще долго разглагольствовал на ту же тему. Они взяли извозчика. Позади осталась пожухлая опавшая листва Зоосада, они въехали на Фридрихштрассе и прибыли в свой отель.
Прошло много лет, но Бернардо по-прежнему вел размеренный образ жизни, следуя заветам отца и делая все то же, что делал тот. Трудился – быть может, и не так истово, но не менее усердно. Он выбрал себе этот пример для подражания, но точно так же мог бы выбрать любой другой, поскольку обстоятельства этому благоприятствовали. Говоря по правде, ему было нетрудно следовать именно этому образцу. Он очень рано женился и вскоре овдовел, так же, как и сеньор Штокер. Его жена все еще присутствовала в доме – а точнее, на письменном столе в библиотеке, в кожаной рамочке. По утрам в конторе Бернардо просматривал газеты и беседовал с клиентами, в то время как его компаньон Хулио Швейцер отправлял корреспонденцию, а служащий, восседая за перегородкой из голубого стекла, записывал в конторской книге операции за предыдущий день. Швейцеру сеньор Штокер тоже подражал. В прежние времена он вел все счета по дому, был помощником отца, теперь он стал компаньоном сына и в равной мере почитал их обоих, объединяя их в один образ. После смерти отца дон Бернардо пунктуально появлялся в конторе (на сколько лет он, сегодняшний Штокер, был моложе того, старшего, – на двадцать, на тридцать, точно и не определить), по-испански говорил без акцента, однако тождество старшего и младшего Штокера становилось абсолютным, когда Бернардо и его нынешний компаньон – теперь настала очередь Швейцера, чтобы к нему обращались «дон Хулио», – принимались обсуждать библейские темы, беседуя по-французски или по-немецки.
В половине первого компаньоны расставались, Швейцер возвращался к себе в пансион, а Бернардо обедал в ближайшем ресторане или же в Иностранном Клубе, а во второй половине дня Бернардо, как правило, отправлялся на биржу. Вот так и проходит жизнь, как говаривал Штокер-отец. В здании, что на улице 25 Мая, мужчины перебегают от одной доски к другой, с первого взгляда вычисляя дивиденды от тех ценностей, в которые они вложили деньги, и из гулкого шума голосов безошибочно выхватывают слова, обращенные непосредственно к ним. Вокруг Бернардо все говорят и жестикулируют – работа идет полным ходом – и мечутся то туда, то сюда с большим или меньшим успехом, однако же те, кто связан с прочным благосостоянием компании «Штокер и Швейцер» (Финансовые Агенты, Акционерное Общество Банков), имеют возможность сосредоточиться совсем на ином: позволить себе роскошь вызывать из прошлого дни, часы и пейзажи, наблюдая неуловимое чудо быстротечных облаков, ветра и дождя.
Почти каждое утро Хасинта наведывалась в дом на улице Пасо. Часто бывало, что Рауль выходил с другими ребятами из квартала, и Хасинта, готовая тут же уйти обратно, смотрела, как он от дверей направляется к ней своей неровной походкой. Он был выше других и держался от них чуть поодаль. Она вновь заходила в дом, уже вместе с Раулем, и, присев рядом с ним, осмеливалась робко коснуться его пальцами. Она опасалась, что юноша рассердится, потому что обычно чем настойчивей пытались наладить с ним контакт, тем сильней он стремился ускользнуть. Однажды, расстроенная таким безразличием, Хасинта перестала его навещать. А когда, выждав почти неделю, она появилась вновь, брат спросил ее: «Почему ты все это время не приходила?»
Похоже было, что он ей обрадовался.
Хасинта уже давно оставила желание властвовать над душой другого и испытывала в отношении Рауля, можно сказать, чисто эстетические чувства. К чему искать в нем стандартные реакции человеческих существ в их чистом виде – условность слов, чувственный блеск глаз? Рауль здесь – и этого достаточно, он смотрит на нее рассеянным взглядом, вот его резко очерченное загорелое лицо, широкие ладони с отстоящими друг от друга пальцами, форма которых напоминает гипсовые слепки, что служат моделями в академиях художеств, и эта его привычка шагать из угла в угол и странным образом застывать в дверном проеме, и умение ловко сматывать клубки доньи Кармен... Мысленно все еще находясь в обществе брата, Хасинта выходила из дома и не спеша отправлялась бродить по городу.
В этот час люди собирались обедать, и улицы пустели. Хасинта двинулась в восточную часть города и очутилась в уютном тихом квартале с тенистыми дорожками. Словно подчиняясь неким темным силам инстинкта, она углублялась все дальше и дальше и скоро совсем заблудилась в этом квартале. Шла по одной улице, сворачивала на другую, читала вывески, брела вдоль покосившейся ограды богадельни, с видневшимися кое-где пожелтевшими статуями, туда, где терялся вдали мрачный парк, а затем свернула налево, не вняв зову склепов с венчающими их крестами и огромными мраморными ангелами. Вид внезапно открывшегося ее взору солидного прочного дома с просторной галереей, двумя балконами с каждой стороны и стенами, выкрашенными масляной краской, слегка уже облупившейся, наполнил ее счастьем. Она обнаружила некое духовное сходство между этим домом и Раулем. Деревья тоже заставляли ее думать о брате, деревья на площади Висенте Лопеса. Прежде чем пересечь ее прямо по дорожке, Хасинта попыталась вобрать в себя всю эту площадь, обведя взглядом газон, детишек, скамейки, ветви деревьев и небо над головой. Черные извилистые стволы бобовых деревьев тянулись из земли к небесам с какой-то надменной силой самоутверждения. И такое было величественное равнодушие в этом порыве, дерзновенном и безразличном ко всему, что не касалось их собственного роста, порыве дотянуться до облаков, оправдав тем самым и свою высоту, и легкий трепет почти бесплотной неземной листвы. Хасинта поднялась на третий этаж, понаблюдала вблизи за переменчивым узором зеленых листьев. Потом она распахнула окна, и чистый холодный воздух ворвался в спальню.
На столике ее ждал термос с бульоном, блюда с разными сортами орехов. Обычно Хасинта оставалась здесь, но иногда, отдохнув минутку, вновь спускалась на улицу, брала такси и просила подвезти ее к ресторану, где обедал Бернардо.
Он сидел, склонившись над тарелкой, сосредоточенно что-то пережевывая. Бернардо поднимал глаза лишь тогда, когда Хасинта уже сидела за столиком. И он, стряхивая с себя задумчивость, заказывал для нее какой-нибудь роскошный салат и протягивал ей бокал с вином, но Хасинта едва касалась его губами.








