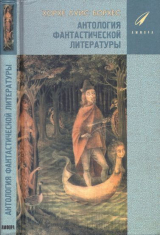
Текст книги "Антология Фантастической Литературы"
Автор книги: Герберт Джордж Уэллс
Соавторы: авторов Коллектив,Гилберт Кийт Честертон,Франц Кафка,Редьярд Джозеф Киплинг,Льюис Кэрролл,Рюноскэ Акутагава,Хорхе Луис Борхес,Франсуа Рабле,Хулио Кортасар,Лорд Дансени
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
Я купил три своих собственных стула, тут же уплатил крупную сумму и назвал только свой номер в гостинице. Стулья надлежало доставить на следующий день к девяти часам утра.
Затем я ушел. Он очень вежливо проводил меня до дверей.
Я немедленно явился к комиссару полиции и рассказал ему о случившейся у меня краже движимости и о только что сделанном открытии.
Он тут же послал телеграфный запрос в прокуратуру, которая вела дело об этой краже, и попросил меня дождаться ответа. Через час ответ был получен, и притом вполне для меня удовлетворительный.
– Я распоряжусь немедленно арестовать и допросить этого человека, – сказал мне комиссар. – Ведь он может почуять опасность и убрать из магазина все ваши вещи. Не угодно ли вам пока пообедать и вернуться сюда через два часа. Он будет уже здесь, и я еще раз допрошу его при вас.
– С большим удовольствием, сударь. Сердечно благодарю вас.
Я пошел обедать к себе в гостиницу и ел гораздо лучше, чем ожидал. Я все же был доволен. Он попался!
Через два часа я вернулся к полицейскому чиновнику; он ждал меня.
– Что делать, сударь! – сказал он, увидев меня. – Не нашли вашего молодца. Моим агентам не удалось застать его.
Ах! Я почувствовал, что мне дурно.
– Но... дом его вы нашли? – спросил я.
– Разумеется. Этот дом даже взят под наблюдение, пока не вернется хозяин. Но хозяин исчез.
– Исчез?
– Исчез. Обычно по вечерам он бывает у своей соседки, тоже старьевщицы, вдовы Бидуэн, довольно занятной ведьмы. Но сегодня вечером она его не видела и ничего не может о нем сообщить. Придется подождать до завтра.
Я ушел. О, какими мрачными, пугающими, полными наваждения казались мне руанские улицы!
Спал я плохо, все время просыпался от кошмаров.
Утром, не желая показаться слишком взволнованным или торопливым, я дождался десяти часов и только тогда явился в полицию.
Торговец не возвращался. Магазин его был все еще закрыт.
Комиссар сказал мне:
– Я принял все необходимые меры. Суд в курсе дела: мы вместе пойдем в эту лавку и вскроем ее. Вы мне покажете все ваши вещи.
Мы поехали в карете. Перед лавкой стояли полицейские со слесарем. Дверь была открыта.
Войдя, я не увидел ни своего шкафа, ни своих кресел, ни столов – ничего, ничего из той мебели, которой был обставлен мой дом! Ничего! А накануне вечером я шага не мог сделать, чтобы не наткнуться на какую-нибудь свою вещь.
Комиссар удивился и сначала взглянул на меня недоверчиво.
– Боже мой, сударь, – сказал я ему, – исчезновение этих вещей странным образом совпадает с исчезновением торговца.
Он улыбнулся:
– Правильно. Напрасно вы вчера купили и оплатили стулья. Этим вы его спугнули.
Я сказал:
– Непонятно мне одно – на всех местах, где стояла моя мебель, теперь стоит другая.
– О, – отвечал комиссар, – у него ведь была целая ночь, и, конечно, он не без сообщников. Дом, безусловно, соединен с соседними. Не беспокойтесь, сударь, я энергично займусь этим делом. Разбойник ускользнул от нас ненадолго; мы ведь стережем его берлогу.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О, сердце, сердце мое, бедное мое сердце, как оно билось!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В Руане я пробыл пятнадцать дней. Этот человек не вернулся. О, черт! О, черт возьми! Разве что-нибудь могло его смутить или застать врасплох?
И вот на шестнадцатый день утром я получил от своего садовника, сторожа моего ограбленного и опустевшего дома, следующее странное письмо:
«Сударь!
Честь имею известить вас, что нынче ночью случилось такое, что никто не понимает, и полиция не больше нашего. Вся мебель вернулась – вся без исключения, до последней мелочи. Теперь дом точь-в-точь такой же, как накануне кражи. Есть от чего голову потерять. Это случилось в ночь с пятницы на субботу. Дорожки в саду так изрыты, словно мебель тащили по ним от калитки до дверей. Точно так же было и в день пропажи.
Мы ждем вас, сударь. Ваш покорный слуга
Филипп Роден».
Ну, уж нет! Ну, уж нет! Ну, уж нет! Не вернусь!
Письмо я отнес руанскому комиссару.
– Возврат сделан ловко, – сказал он мне. – Запасемся терпением. На днях мы этого молодца сцапаем.
Не сцапали они его. Нет. Не сцапали, а вот я боюсь его так, словно это дикий зверь, направленный на меня.
Неуловим! Он неуловим, этот изверг с черепом, похожим на луну! Никогда его не поймают. Он не вернется домой. Очень-то ему нужно! Встретить его не может никто, кроме меня, а я этого не хочу.
Не хочу! Не хочу! Не хочу!
А если он вернется, придет в свою лавку, то кто докажет, что моя мебель действительно была у него? Никаких улик нет, кроме моего показания, а я отлично чувствую, что оно становится подозрительным.
Ах, нет! Такое состояние было невыносимо! И я уже не мог держать в тайне все, что видел. Не мог я жить, как живут все, и вечно бояться, что снова начнется что-нибудь такое.
Я пришел к главному врачу лечебницы и открыл ему все.
Он долго расспрашивал меня, а затем сказал:
– Вы бы согласились, сударь, пожить некоторое время здесь?
– С большим удовольствием, сударь.
– Вы человек состоятельный?
– Да, сударь.
– Хотите отдельный флигель?
– Да.
– Вам угодно принимать друзей?
– Нет, нет, никого. Этот руанский человек, может быть, попытается отмстить мне, он способен преследовать меня и здесь.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И вот уже три месяца я один, один, совершенно один. Я почти спокоен. Я боюсь лишь одного... что, если антикварий сойдет с ума... Если его поместят здесь... Ведь даже тюрьма не вполне надежна.
«Бесполезная красота» (1899)
Эдвин Морган
Тень игры
В одном из сказаний, содержавшихся в книге «Мабиногион», два враждующих царя играют в шахматы, между тем как в соседней долине сражаются насмерть их войска. Время от времени являются гонцы с известиями о ходе сражения – цари словно бы слушают их и, склонясь над серебряной шахматной доской, передвигают золотые фигуры. Постепенно выясняется, что в превратностях битвы повторяются превратности игры в шахматы. К вечеру один из царей опрокидывает доску – он получил мат, и вскоре окровавленный всадник сообщает ему: «Твое войско бежит, ты лишился своего царства».
Э. А. Мурена
Кот
Как долго он просидел взаперти?
Туманное майское утро, с которого все началось, теперь казалось ему столь же призрачным, как день его рождения – событие совершенно непостижимое, несмотря на свою очевидность. Он решился на это, узнав, что другой имеет над ней тайную власть.
Себе он сказал, что поступает так, быть может, ради нее, тем самым избавляя от унизительного и бессмысленного выбора. Но в глубине души знал, что следует пути, избранному много раньше.
В то утро между ними все было кончено. Когда он вышел из чужого дома, ветер разогнал туман, и, подняв глаза в слепящую высь, он увидел черное облако, похожее на огромного паука, бегущего по снежному полю. И навсегда запомнил: с той минуты кот его соперника, чьей преданностью гордился хозяин, стал с безразличным видом следовать за ним, не отставая ни на шаг и терпеливо снося все попытки прогнать его прочь.
Он отыскал не слишком грязный и не слишком неудобный пансион – тогда еще он придавал значения подобным вещам. Кот был крупным, мускулистым, серым с грязно-белыми пятнами. Он походил на древнее, одряхлевшее божество, у которого еще достанет сил напакостить людям. И люди не жаловали кота – покосились на него брезгливо, с опаской и вышвырнули вон с позволения невольного хозяина. На следующий день новый постоялец вновь обнаружил кота у себя в комнате. Тот возлежал на кресле. Чуть приподняв голову, кот взглянул на него и снова погрузился в сон. Его опять выкинули, но он неизвестно как пробрался в дом, в ту же комнату. Кот одержал победу, ибо с тех пор хозяйка пансиона и прислуга оставили его в покое.
Можно ли поверить в то, что коту удалось подчинить себе человека, изменить его жизнь?
Поначалу постоялец часто выходил. Он не мог подолгу находиться в убогой комнатушке с крикливыми полосатыми обоями, потертой мебелью, которая при ближайшем рассмотрении оказалась удивительно уродливой, и тусклой лампой, с грехом пополам освещавшей половину комнаты. Он уходил, бродил по улицам в надежде обрести утраченный покой и возвращался еще более подавленным. Кот не выходил никогда. Однажды вечером, когда постоялец, вернувшись с прогулки, дожидался в дверях, чтобы горничная закончила уборку, он убедился, что кот и тогда не покидает своего убежища: по мере того, как женщина с веником и тряпкой перемещалась по комнате, кот переходил с одного места на другое, пока не устроился там, где все уже было прибрано. Иногда кот допускал просчеты, но горничная тихонько шикала на него – без злобы, просто предупреждая, – и кот отпрыгивал в сторону. Почему он отказывался выходить: из страха или инстинктивного стремления к удобству? Как бы то ни было, человек решил уподобиться коту, хотя бы для того, чтобы обрести некую мудрость в том, что у животного вызывалось страхом или ленью.
Он разработал план: сперва отказаться от утренних, а затем и от вечерних прогулок и, преодолев несколько приступов глухого отчаяния, сумел осуществить задуманное. Он читал книжонку в черном переплете, которую принес с собой в кармане, и часами бродил по комнате в ожидании ночного выхода. Кот почти не глядел в его сторону, казалось, он довольствуется тем, что ест, спит и вылизывается быстрым языком. Однажды холодным вечером человек не захотел одеваться и вообще не вышел на улицу. И мгновенно уснул. С того дня все затруднения исчезли, словно он взобрался на вершину, с которой оставалось только спуститься вниз. Его дверь открывалась только для того, чтобы внесли еду, а рот – чтобы принимать пищу. Он оброс бородой и наконец отказался от прогулок по комнате.
Лежа по обыкновению в постели, сильно располнев, он погружался в неведомое прежде состояние полнейшего блаженства.
Взгляд его был неизменно прикован к гипсовым розеткам, украшавшим низкий потолок, но сам он их не замечал, ибо его потребность в зрелищах с избытком удовлетворялась ежедневным десятиминутным созерцанием обложки. Похоже, у него проснулись новые способности: желтоватые отблески лампы на черном глянце рождали столь причудливые тени, столь тонкие оттенки, что одного этого реального предмета хватало, чтобы, пресытясь, погрузиться в нечто вроде гипнотического сна. Обоняние также обострилось, ибо легчайшие запахи, взвиваясь и обволакивая тело, заставляли грезить о бескрайних фиолетовых лесах, о шуме морского прибоя. Его стали посещать чарующие видения: свет день и ночь горевшей лампы тускнел, и появлялись женщины в длинных покрывалах с алыми или бледно-зелеными лицами, небесно-голубые кони...
Кот между тем невозмутимо возлежал в кресле.
Однажды за дверью послышались женские голоса. Как он ни силился, слов ему не удалось разобрать, но смысл и без того был ясен. Словно ему воткнули кол в огромное дряблое брюхо.
Это ощущение, хотя и нестерпимо острое, было таким далеким, что он понял: пройдет еще много часов, прежде чем он сумеет отозваться. Ибо один из голосов принадлежал хозяйке пансиона, а другой – ей, которая наконец его нашла.
Он уселся в постели. Попытался сделать хоть что-нибудь – и не смог.
Он поглядел на кота. Тот, приподнявшись, тоже смотрел на дверь, но оставался совершенно невозмутимым. И человек еще острее ощутил свое бессилие.
Его била дрожь, а голоса за дверью все не смолкали. Вдруг он ощутил невероятное напряжение, казалось, изчезни оно, и он рассыплется на части, разлетится в прах.
Тогда он разинул рот, застыл на миг, не понимая, для чего он это сделал, и наконец из его груди вырвался кошачий вопль, пронзительный и отчаянный.
Ню Цзяо
История о лисицах
Ван увидел двух лисиц, стоявших на задних лапах, прислонясь к дереву. Одна из них держала в руках лист бумаги, и они смеялись, словно над хорошей шуткой.
Ван попробовал спугнуть лисиц, но не тут-то было; тогда он бросился на лисицу, державшую листок, подбил ей глаз и отнял бумагу. На постоялом дворе Ван рассказал о своем приключении. В это время появился господин с синяком под глазом. Он с интересом выслушал Вана и попросил показать ему бумагу. Ван уже протягивал лист, как вдруг хозяин постоялого двора заметил у новоприбывшего хвост. «Это лисица!» – закричал хозяин, и человек мгновенно обернулся лисицей и убежал.
Лисицы не однажды пытались вернуть бумагу, покрытую непонятными письменами, но безуспешно. Ван решил вернуться домой. В пути он встретил все свое семейство, направлявшееся в столицу. Родные Вана утверждали, что двинулись в путь по его просьбе, а мать показала письмо, в котором он приказывал продать все имущество и приехать к нему в столицу. Ван внимательно посмотрел на письмо и увидел, что это чистый лист. И хотя они остались без крова, Ван решил: «Возвращаемся».
Однажды в доме объявился один из младших братьев, которого все считали умершим. Он принялся расспрашивать о злоключениях семьи, и Ван рассказал ему всю историю. «Ах, – сказал брат, услышав о столкновении Вана с лисицами, – в этом-то корень всех бед». Ван показал брату листок. Тот поспешно схватил бумагу. Заполучив желаемое, он издал какой-то возглас и, обернувшись лисицей, убежал.
Джон Обри
В виде корзинки
Томас Трэхерн[92]92
Трэхерн Томас (ок. 1636-1674) – английский священник, барочный поэт, открытый фактически лишь в XX в. Автор религиозных поэм («Царство Христово», опубл. 1903), кн. стихов и прозы «Сотницы» (опубл. 1908).
[Закрыть] рассказывал, что однажды, лежа в постели, он увидел рядом с занавеской плавающую в воздухе корзинку; он, кажется, говорил, что в корзинке лежали фрукты. Это было видение.
«Miscellanea» (1696)
Сильвина Окампо
Искупление
Антонио позвал нас с Руперто в дальнюю комнату и властным тоном велел садиться. Постель была убрана. Антонио вышел в патио, открыл дверцу птичьего вольера и, вернувшись, улегся на кровать.
– Сейчас я вам покажу один трюк, – сказал он.
– Ты что, решил в цирк устроиться? – спросила я.
Антонио пару раз свистнул, и в комнату впорхнули Фаворитка, Мария Каллас и рыженький Мандарин. Пристально глядя в потолок, Антонио засвистел снова, пронзительно и с переливами. Это, что ли, его трюк? И зачем он вообще позвал нас с Руперто? Почему было не подождать прихода Клеобулы? Наверно, подумала я, весь спектакль затеян с одной-единственной целью: доказать, что Руперто не слепой, а сумасшедший, ведь придя в восторг от мастерства Антонио, Руперто мог забыться и выдать себя. От мельтешения канареек меня клонило в сон. И так же неотвязно крутились в памяти воспоминания. Говорят, перед смертью человек как бы заново проживает всю свою жизнь; в тот вечер мое прошлое тоже ожило, и мной овладело глухое отчаяние.
Я отчетливо, как на картинке, увидела свою свадьбу с Антонио в декабре, в пять часов пополудни.
Уже было жарко, и когда мы вернулись домой, то, снимая в спальне подвенечный наряд и фату, я с удивлением заметила за окном канарейку.
Сейчас-то я знаю, что это был не кто иной, как Мандарин; сидя на апельсиновом дереве в патио, он клевал единственный уцелевший на его ветвях плод.
Антонио заметил, что я загляделась на птицу, но целовать меня не перестал. А меня прямо-таки заворожило то, с каким остервенением кенарь впивался в апельсин. Я наблюдала за птицей, пока трепещущий Антонио не увлек меня на супружеское ложе, застеленное покрывалом, которое – наряду с прочими подарками – служило для моего жениха перед свадьбой залогом счастья, а мне внушало ужас. На гранатово-красном бархате был вышит дилижанс. Я закрыла глаза и почти не помню, что произошло дальше. Любовь тоже путешествие, и я много дней подряд училась любви, не имея ни малейшего понятия о том, каким это бывает блаженством и какой мукой. Наверное, поначалу мы с Антонио любили друг друга одинаково сильно, и единственное, что нам мешало, так это моя стыдливость и его робость.
Наш маленький домик с крошечным садиком стоит у самого въезда в городишко. Воздух тут целебный, горный, прямо под боком начинаются поля, их видно из наших окон.
Мы уже приобрели радиоприемник и холодильник. На праздники и по случаю всяких семейных торжеств к нам являлась целая толпа друзей. Что еще можно было пожелать? Клеобула и Руперто – на правах друзей детства – приходили чаще других. Антонио давно был в меня влюблен, и они это знали. Он меня не добивался и даже не выбирал; правильнее будет сказать, что я его выбрала. Он мечтал лишь, чтобы жена его любила и была ему верна. Все же остальное, в том числе и деньги, его мало интересовало.
Руперто садился в уголок и с места в карьер, не успев еще настроить гитару, требовал мате или – если стояла жара – оранжада. Для меня он был одним из тех родственников или друзей, на которых смотришь почти как на мебель и замечаешь, только когда она сломается или ее передвинут в другое, непривычное место.
«Канареечки-певуньи», – неизменно приговаривала Клеобула, но на самом деле охотно пришибла бы птиц половой щеткой, потому что терпеть их не могла. Интересно, что бы она сказала, увидев, какие смешные номера они вытворяют, причем совершенно бескорыстно, не дожидаясь, пока Антонио угостит их листиком зеленого салата или семечками?
Я машинально протягивала мате или стакан с оранжадом Руперто, сидевшему на венском стуле в тени беседки; он всегда туда забивался, как пес в свой угол. Я не воспринимала его как мужчину и вела себя без тени кокетства. Частенько я впускала его в дом, не удостаивая даже взглядом и не задумываясь о том, что волосы у меня мокрые после мытья и что в бигуди я смотрюсь настоящим страшилищем; я могла открыть ему дверь, не вынимая изо рта зубной щетки и не смыв с губ зубной пасты; а бывало, с рук у меня хлопьями падала мыльная пена, потому что я затеяла стирку, а фартук на животе топорщился, и я казалась пузатой, словно беременная. Думаю, что не раз я, забывшись, выходила при Руперто из ванной, завернувшись в махровое полотенце и волоча ноги в шлепанцах, как старуха или распустеха какая-то.
Проказник, Базилик и Горец подлетели к посудине, в которой лежали маленькие стрелы с шипами. Подхватив их, они летели к сосуду с какой-то темной жидкостью и старательно макали в нее крошечный наконечник стрелы. Птички казались игрушечными, этакими дешевенькими подставками для стрел-зубочисток, украшениями на прабабушкиной шляпе.
Клеобула – а она, вообще-то, позлословить не любит – обратила мое внимание на то, что Руперто слишком настойчиво на меня смотрит. «Ну и глаза! – без умолку твердила она. – Ну и глаза у него!»
– Я научился спать с открытыми глазами, – пробормотал Антонио, – это одно из самых крупных достижений в моей жизни.
Я вздрогнула, услышав его слова. Так вот, значит, что он намеревался нам продемонстрировать?! Но, с другой стороны, разве это такой уж потрясающий трюк?
– Ты как Руперто, – голос мой звучал отчужденно.
– Как Руперто, – повторил Антонио. – Канарейки ведут себя послушней, чем мои собственные веки.
Мы сидели втроем в потемках, будто кающиеся грешники. Но что общего между привычкой спать с открытыми глазами и дрессированными канарейками? Антонио озадачил меня, и неудивительно – он ведь так не похож на всех прочих мужчин!
Клеобула уверяла меня и в том, что, настраивая гитару, Руперто оглядывал меня с ног до головы, а однажды вечером, напившись и задремав в патио, вообще не сводил с меня глаз. В итоге я перестала вести себя естественно и, наверное, даже начала кокетничать. Мне грезилось, что Руперто смотрит на меня как бы сквозь маску, в которую вделаны его глаза, эти звериные глаза, не закрывавшиеся, даже когда Руперто спал. Он впивался в меня тем же загадочным взглядом, каким смотрел на оранжад или мате, когда хотел пить. Бог знает что было у него на уме. Других столь же пытливых глаз было не сыскать во всей провинции, да что там – на всем белом свете; остальные смотрели на мир потухшим, мертвенным взором, а глаза Руперто сияли и казались такими бездонносиними, словно в них притаилось небо. Это был не человек, а нечто бестелесное, безгласное и безликое – одни глаза; так, по крайней мере, казалось мне, однако Антонио мыслил иначе. В копир концов то, что творилось у меня в подсознании, начало его раздражать, и он стал грубым и заставлял меня выполнять всякую неприятную работу, словно я была не женой его, а рабыней. Перемены в характере Антонио очень меня огорчали.
До чего странные существа – мужчины! Какой же все-таки трюк собирался показать нам Антонио? А ведь те его слова про цирк, наверное, не шутка...
Вскоре после свадьбы он начал частенько отлынивать от работы, ссылаясь на головные боли или на какие-то странные, неприятные ощущения в области желудка. Вероятно, все мужья одинаковы?
Огромный птичий вольер на дальней половине дома теперь стоял совершенно заброшенный, а ведь раньше Антонио прямо-таки надраивал его до блеска. По утрам, если выдавалась свободная минутка, я старалась его почистить, насыпала в белые кормушки канареечного семени, клала пару листиков зеленого салата и меняла воду, а когда самочки откладывали яички, мастерила им гнезда. Раньше всем этим занимался Антонио, но теперь он не проявлял к уходу за птицами ни малейшего интереса; впрочем, он и от меня ничего не требовал.
Мы женаты уже два года! А ребенка все нет как нет! Зато канарейки, не в пример нам, вывели столько птенчиков!
Комнату заполнил запах мускуса и вербены. Канарейки воняли курицей, от Антонио разило табаком и потом, а Руперто в последнее время благоухал исключительно спиртным. Мне рассказывали, что он беспробудно пьет. А какая грязь была в комнате! На полу валялся корм для канареек, хлебные крошки, листья салата, окурки, пепел...
Антонио с детства все свободное время отдавал дрессировке животных; оттачивая свое мастерство – а мой муж был настоящим мастером, ничего не скажешь, – он выдрессировал сначала собаку, потом лошадь, потом скунса (прооперированного, чтобы не вонял), которого какое-то время повсюду таскал за собой; а после нашего знакомства Антонио в угоду мне решил заняться канарейками. Дабы завоевать мое сердце, он посылал мне с канарейками любовные письма и цветы, перевязанные ленточкой. Антонио жил от меня в целых пятнадцати кварталах, но крылатые почтальоны всегда безошибочно отыскивали нужный дом. Невероятно, но факт: канарейки навострились даже втыкать цветы мне в волосы и засовывать любовные записочки в карман моей блузки.
Интересно, трюки с цветами и записочками труднее того, что канарейки выделывают сейчас с этими проклятыми стрелами?
В нашем городке Антонио завоевал всеобщий почет и уважение. «Гипнотизируй ты женщин так же, как птиц, ни одна перед тобой не устояла бы», – говорили тетки Антонио в надежде, что племянник женится на миллионерше. Однако, как я уже упоминала, Антонио был равнодушен к деньгам. Он с пятнадцати лет работал механиком и жил в полном достатке, что, естественно, предложил и мне вместе с рукой и сердцем. У нас было для счастья все. И я не могла понять, почему Антонио не попытается отдалить от себя Руперто. Мало ли какой предлог можно найти, взять хотя бы и разругаться из-за работы или политики, до потасовки или стрельбы дело не доводить, но дружка от нашего дома отвадить. Антонио ничем не выдавал своих чувств, только характер у него испортился, и я догадывалась, по какой причине. Отбросив в сторону скромность, я вынуждена была признать, что мужчина, который всегда казался мне эталоном нормального человека, теперь просто свихнулся на почве ревности.
Антонио свистнул, снял майку. Тело его казалось отлитым из бронзы. Взглянув на него, я так и затрепетала. Помнится, перед свадьбой я увидела статую, очень похожую на Антонио, и покраснела до ушей. Но разве я никогда не видела его голым? Почему же меня это так поражало?!
С другой стороны, в чем-то характер Антонио изменился к лучшему, и это меня частично утешало: из инертного он стал крайне активным, прекратил хандрить и пребывал в явно веселом расположении духа. У него появились какие-то таинственные дела, хлопоты, а ведь это говорило о повышенном интересе к жизни. После ужина мы ни на минутку не оставались вдвоем в комнате, чтобы послушать радио, почитать газеты, поболтать о том, что приключилось за день, или просто посидеть, безо всякого дела. В выходные и праздники мы теперь тоже не позволяли себе передохнуть: мне передалось беспокойство Антонио, и я, как его верное отражение, металась по дому, прибираясь в шкафах, в которых и так царил порядок, мыла и перемывала и без того чистые целлофановые пакеты – в общем, из кожи вон лезла, стараясь соответствовать мужу, занимавшемуся бог знает какими таинственными делами. Он же с удвоенной нежностью и заботой ухаживал за птицами, тратя на них большую часть своего свободного времени. Антонио сделал новые пристройки к вольеру, а вместо засохшего деревца, росшего посередине, посадил новое, побольше и посимпатичней, и вольер стал еще краше.
Две канарейки выронили стрелы и кинулись драться; перья полетели во все стороны, Антонио даже почернел от злости. Интересно, он мог бы их убить? Клеобула обмолвилась как-то, что Антонио жестокий. «Кажется, будто у него за поясом кинжал», – пояснила она свою мысль.
Антонио больше не позволял мне чистить вольер. В то время он уже покинул супружеское ложе и перебрался на дальнюю половину дома, в комнату, служившую нам кладовкой. Ночи напролет Антонио лежал на тахте – той самой, на которой любил в часы сьесты прилечь мой брат, когда приходил к нам в гости, – и, видимо, не мог сомкнуть глаз; я так думаю, потому что порой до рассвета слышно было, как он ходит взад и вперед по каменным плитам пола. Иногда он часами просиживал взаперти в этой проклятой комнате.
Канарейки одна за другой выронили из клювиков крошечные стрелы, уселись на спинку стула и нежно защебетали. Антонио встал и, глядя на Марию Каллас, которую всегда называл «Королевой бунтарей», произнес какое-то слово, на мой взгляд лишенное всякого смысла. Канарейки снова вспорхнули в воздух.
Я пыталась подглядеть через разноцветные витражи в окне, чем же он там занимается. Я даже нарочно поранила руку ножом, чтобы под этим предлогом к нему постучаться. Когда он открыл дверь, стайка канареек вылетела из комнаты и направилась к вольеру. Антонио обработал мою рану, однако держался сухо и недоверчиво, словно догадываясь, что я специально все подстроила, пытаясь привлечь его внимание. Примерно в это же время он на две недели отлучался из дому, уехал на грузовике неизвестно куда и привез целую сумку разных трав.
Я взглянула украдкой на заляпанную юбку. Какие все-таки грязнули эти крохотные птахи! И когда только они умудрились меня перепачкать? Я посмотрела на них с ненавистью: даже в потемках мне не хочется выглядеть замарашкой.
Руперто, не подозревая о том, какое дурное впечатление производят его визиты, приходил к нам все так же часто и вел себя по-прежнему. Избегая его взоров, я подчас уходила из патио, но муж под любым предлогом заставлял меня вернуться. По-моему, он даже находил какое-то удовольствие в этой неприятной ситуации. Взгляды Руперто казались мне уже непристойными: они раздевали меня в тени беседки и склоняли к позору на закате дня, когда свежий ветерок нежно поглаживал мои щеки. Антонио же, наоборот, никогда не смотрел в мою сторону или делал вид, что не смотрит, – так по крайней мере уверяла Клеобула. Ах, если бы мы не были знакомы, женаты, если бы я еще не знала его ласк и могла бы снова повстречаться с ним впервые, заново открыть для себя этого человека и отдаться ему!.. На какое-то время это стало самой страстной моей мечтой. Но разве возможно вернуть утраченное?
Я поднялась с кровати, ноги у меня болели. Терпеть не могу подолгу находиться без движения. До чего же я завидую летящим птицам! Впрочем, канареек мне жалко. По-моему, они страдают, подчиняясь Антонио.
Антонио не только не избегал общения с Руперто, но даже, наоборот, поощрял его визиты. Дошло до того, что во время карнавала, когда Руперто засиделся у нас допоздна, Антонио предложил ему остаться переночевать. Пришлось поместить его в комнату, которую временно занимал Антонио. В ту ночь мой муж как ни в чем не бывало вернулся на супружеское ложе и мы опять спали вместе. С тех пор моя жизнь снова вошла в нормальную колею; так, по крайней мере, мне казалось.
В углу, под тумбочкой, я заметила злополучную куклу. Надо бы ее поднять, подумалось мне. Словно угадав мои мысли, Антонио приказал: «Не двигайся».
Я вспомнила, как тогда, в карнавальную неделю, прибираясь в доме, я обнаружила завалявшуюся в шкафу у Антонио куклу, сделанную из какого-то мягкого материала: то ли из пакли, то ли из тряпок; у куклы были большие голубые глаза, а черные кружочки посередине обозначали зрачки. Одета она была в костюм гаучо и вполне могла бы служить украшением нашей спальни. Я, смеясь, показала ее Антонио, а он вдруг вспылил и вырвал у меня куклу.
– Я храню ее в память о детстве, – сказал он. – Мне не нравится, когда ты трогаешь мои вещи.
– Но что такого, почему нельзя трогать твои детские игрушки? Мало ли мальчиков, которые играют в куклы?! Тебе что, стыдно? Разве ты не стал давным-давно взрослым мужчиной? – возразила я.
– Я не обязан давать тебе объяснения. Попридержи язык, вот и все.
Разозленный Антонио положил куклу обратно на шкаф и не разговаривал со мной несколько дней. Но потом мы вновь обнялись, как в старые добрые времена.
Я провела рукой по влажному лбу. Неужели локоны распрямились? К счастью, в комнате не было зеркала, иначе я бы не выдержала и пялилась бы в него, а на канареек, которые казались мне абсолютно безмозглыми, не смотрела бы.
Антонио часто запирался в дальней комнате, причем, как я заметила, оставлял открытой дверцу вольера, чтобы птицы могли залететь к нему в окошко. Сгорая от любопытства, я решила подглядеть за ним и залезла на стул: дело в том, что окно довольно высоко (и поэтому со двора, естественно, ничего не было видно).
Я смотрела на обнаженный торс Антонио. Это мой муж или статуя? Он называет Руперто сумасшедшим, но сам, быть может, еще больший безумец. Сколько денег он просадил на своих канареек, а мне стиральную машину так и не купил!
И вот однажды мне удалось разглядеть лежавшую на кровати куклу. Вокруг нее вилась стайка птиц. Комната превратилась в своего рода лабораторию. В одном глиняном сосуде лежала куча листьев, стеблей, темной древесной коры, в другом – маленькие стрелы с шипами, а в третьем блестела какая-то коричневая жидкость. Мне показалось, что я уже сидела это когда-то во сне, и я поделилась своим недоумением с Клеобулой, а она ответила: «Стрелы с кураре вполне в духе индейцев».
Я не спросила, что такое кураре. Я даже не поняла, каким тоном она произнесла эти слова: презрительным или восхищенным.








