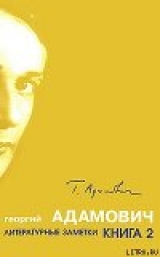
Текст книги "Литературные заметки. Книга 2 ("Последние новости": 1932-1933)"
Автор книги: Георгий Адамович
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
ЗАМЕТКИ О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:
ПОСЛЕ «ПЛЕНУМА». –
ВЕЧЕР В СОРРЕНТО. –
ЕЩЕ О ХРОНИКЕ КАТАЕВА. –
ПСИХОЛОГИЗМ И СОВЕТСКИЙ РОМАН
Первый «пленум» Союза советских писателей собрался в Москве в дни предпраздничные, накануне октябрьских торжеств. Совпадение оказалось как нельзя более кстати: на писательских заседаниях тоже господствовали настроения праздничные и торжественные… Если не считать Клычкова, выступившего с очень сдержанной и двусмысленной речью, все участники съезда друг друга поздравляли, все говорили о невиданном расцвете советской литературы и указывали, что никогда, нигде лучших условий для творчества, чем в СССР, не было. Правда, Авербах, привыкший командовать и, вероятно, раздраженный тем, что на этот раз ему пришлось только каяться в грехах, неожиданно обозвал былых своих подчиненных «хамами». Но этот диссонанс был тотчас же заглушён бурным взрывом общего творческого восторга, да и сам Авербах поспешил заметить, что никого обижать не хотел. Съезд закрылся при ликовании участников его. В телеграмме на имя Сталина были выражены самые благонамеренные, пылкие и высокие чувства.
Разумеется, прения на съезде посвящены были одной теме: знаменитому апрельскому постановлению ЦК, уничтожившему РАПП… До 23 апреля, по выражению одного из ораторов, создавались в России не «Магнитострои литературы», «Магнистострои групповщины». Ныне каждый писатель, согласный признать над собою общее идейное руководство «ленинской партии», получил, так сказать, права гражданства и возможность печататься без риска быть объявленным «классовым врагом».
«Литературная газета», подводя итоги, пишет:
«Пленум дал ярчайшее доказательство гениальной мудрости решения ЦК. Все писатели, большая часть которых до сих пор была разъединена и сидела по своим углам, явилась на пленум, чтобы с энтузиазмом подчеркнуть преданность советской власти. Выступление таких старых дореволюционных писателей, как А. Белый, как Пришвин, с высказанными в них желаниями обобществить свой станок, с указаниями на то, что нигде в мире нет такого внимания к литературе, такого "покровительства писателям", как у нас, еще более подчеркивает, что постановление ЦК чрезвычайно своевременно вскрыло и вместе с тем еще более стимулировало переход писателей на рельсы советской власти, создав единый фронт писателей от Чумандрина до Андрея Белого».
О выступлении Андрея Белого – скорее трагическом, чем смешном, и, во всяком случае, крайне тягостном для всех, кому, по давним воспоминаниям, еще дорог этот одареннейший писатель, – уже упоминалось в нашей газете. Характерно, что и он, и все другие утверждали, что благодетельное действие решения ЦК уже сказалось на практике и что советская литература переживает дни небывалого творческого подъема («нам бешено хочется творить», – сказал Л. Грабарь). Книги будто бы выходят «сплошным величавым потоком», одна другой лучше, одна другой значительнее. Где эти книги – неизвестно. Журналы, действительно, стали чуть-чуть живее, чем был год тому назад, но особых шедевров – даже и по советской оценке – в них незаметно. Окончен «Скутаревский» Леонова, роман очень неровный, очень спорный, талантливый, как все, что Леонов пишет, но, во всяком случае, ни в какой связи с апрельским партийным постановлением не стоящий. Тянется бесконечный, сероватый, скучноватый «Последний из Удэге » Фадеева. «Энергия» Гладкова, «Баррикады» Павленко, «Время, пространство, движение» Никулина – вся эта «продукция среднего качества» тоже могла появиться когда угодно. Где шедевры, обязанные своим возникновением ЦК, повторяю, – неизвестно. Конечно, шесть или семь месяцев, прошедшие со дня «гениального решения», – срок небольшой, и вполне естественно, что та сравнительная свобода, которую получили писатели в России, еще не успела заметно отразиться на их работе. Но тогда непонятно, кому нужны речи о небывалом расцвете.
Из теоретических вопросов на съезде довольно много было уделено внимания «социалистическому реализму». Сторонникам «революционной романтики» был дан бой, – и те поспешили отступить; впрочем, кое-какие позиции они за собой сохранили, и расположенный к благодушной терпимости пленум признал, что и «красная мечта» имеет право на существование, поскольку она отражает «взволнованность писателя и заглядывание в будущее». Ни к какой определенной, обязательной для всех программе пленум не пришел: Боже упаси, с новейшей точки зрения это опять была бы «групповщина». Никаких «заостренных выводов», – как выражаются в советской печати, – не сделал. Собрания прошли, главным образом, в приятных разговорах. Если какой-либо вывод и напрашивается сам собой, то лишь тот, что лучшая в мире литература преисполнена благодарности и любви к лучшему в мире политическому строю… Читатель может подумать, что я иронизирую. Нет, это не только лейтмотив всех речей, но и формула, с совершенной точностью передающая настроения и помыслы участников съезда. Явные, по крайней мере: о тайных мы можем только догадываться.
* * *
Прежде ездили в Ясную Поляну. Теперь ездят в Сорренто.
Молодой драматург Афиногенов, автор «Страхам, путешествовал прошлой весной по Италии, заглянул в Неаполь и не мог, конечно, удержаться от соблазна побывать у Горького… В трогательной волнующей форме передает он в последнем номере «Красной нови» свои впечатления от встречи и бесед с «нашим изумительным Максимычем» (обращение к Горькому в одном из юбилейных приветствий от рабочих).
Афиногенов, разумеется, сильно волновался. О чем он будет говорить с великим писателем? Не помешает ли ему? Не «податься ли назад»? Но показался на пороге Горький, «большой, чуть сгорбленный, покашливая и дымя в усы», обласкал робкого посетителя, – и «сразу отпала шелуха довстречных мыслей».
«Великий писатель » был с Афиногеновым весьма словоохотлив. Сначала спросил с отеческой суровостью: «Ну, как у вас там; какое положение в литературе, с кем деретесь?», – а потом принялся рассказывать анекдоты… Анекдот за анекдотом: то со ссылкой на последнюю речь Кагановича, то из личных воспоминаний, то из области чистой фантазии. Сообщил, между прочим, что «белые» в пароксизме ненависти к СССР организовали в Париже «контрчеку». Сообщил, что одна его знакомая лично знала Серафима Саровского, который был «прижимистым кулаком». Рассказал, как до самых последних лет при царском режиме его, Максима Горького, обижали: пришел к цензору, а тот и сесть не попросил, – «так стоя и дожидался». Подчеркнул свое недоверие к философии, пустой буржуазной выдумке: «в самых сложных философских системах ничего нет такого, что не содержалось бы уже в простых, примитивных идеях народных масс».
О многом говорил Горький, всего не переберешь. Изредка беседа прерывалась вздохом: «В Москву, в Москву».
– Замечательные там творятся дела, мне бы в Москву поскорее… Доктора не пускают, говорят, рано, в Москве еще холодно. А я поеду, я должен первомайскую демонстрацию увидеть, я все равно поеду.
* * *
Два слова еще по поводу хроники Вал. Катаева «Время, вперед!», о которой я писал на прошлой неделе.
Одному французскому писателю на днях передавали при мне содержание этой вещи. Он послушал и сказал:
– Это фетишизм.
Интересно, что слово «фетишизм» мелькнуло уже и в советской критике в связи с катаевской хроникой, – хотя, конечно, тут же вызвало гневные возражения. Напомню, что во «Время, вперед!» говорится о соревновании отдельных заводов в изготовлении максимального количества бетона в рабочую восьмичасовую смену. Рабочие полны энтузиазма. Героические подвиги их на «трудовом фронте» возбуждают беспредельный восторг автора.
Фетишизм… Действительно, для Катаева бетон – это как бы некое божество, требующее жертв, а труд, имеющий целью хозяйственное обогащение страны, является процессом, поглощающим не только все физические, но и все духовные силы человека. Катаевские рабочие борются за строительство, как рыцари шли в крестовые походы: дойти в Иерусалим – и умереть; побить мировой рекорд по бетону и как бы раствориться в радостном трепете от предчувствия окончательной, последней победы социализма. Карьеристы и честолюбцы не в счет, речь идет об основной массе. У нее никаких «запросов» нет: все дано, все заключено в технике и хозяйстве. Успешное ведение хозяйства страны даст абсолютное счастье. Поэтому-то и труд, к этой цели направленный, вызывает почти что религиозное воодушевление. Бетон – залог торжества над жизненным страданием.
В этом смысле «Время, вперед!» – произведение, чрезвычайно характерное для теперешней России. Думаю, что и на Западе оно придется по вкусу тем, кто болезненно ощущает разлад духовной и физической деятельности человека и, вместо гармонического союза этих двух начал, готов немедленно помириться на поглощении одного другим. Единство устремления всей человеческой энергии будто бы достигнуто, – но какой ценой? Престиж мертвой вещи настолько вырастает в глазах живого и свободного индивидуума, что он на служение ей отдает всего себя.
* * *
Довольно точно и правдиво передает впечатления «среднего» европейского читателя от советской литературы статья Р. де Сен-Жана в «Нувель литтерэр».
«Ничто не повергает француза в такое недоумение, как современный русский роман… Подмените любовь пятилеткой, если угодно. Но поймите же, что этим вы сразу уничтожаете долгую литературную традицию, которая даже и в самой России дала шедевры Толстого, Достоевского и Чехова».
Недоумение основано на полном исчезновении «психологизма». В то время как на Западе это течение становится все шире и сильнее, в России оно внезапно оборвалось… «Такие писатели, как Всеволод Иванов или Лидия Сейфуллина, оставляют человеку лишь естественные функции». Западный роман изображает столкновение личности с обществом. В России общество не удостаивает личности своим вниманием, борьбы между ними быть не может, общество всегда торжествует и заранее в торжестве своем оправдано.
«Новый человек, служитель государственного блага, не знает больше порывов, раздумий, мечтаний и внутренних диалогов, которые составляют достояние героев буржуазных романов. Ему недостает одиночества в самом простом смысле слова, он даже не может воскликнуть, как восклицали принцы в пародии на трагедию:
– Удалимся в наши покои!
– ибо его покои это общая комната, где сожители ни днем, ни ночью не дадут ему уйти в свои мысли и страсти… Будущий Стендаль принужден будет отказаться от всяких монологов и отправить своего героя на какую-нибудь образцовую ферму.
Автор статьи решает вопрос, может быть, слишком прямолинейно: всякий, внимательно следящий за советской литературой, признает это… Но, несомненно, анализ «переживаний» у советских романистов, действительно, сходит на нет, и потому-то пресловутый лозунг «живого человека» и вызывает в России столько неразрешимых споров, что без углубления в душевную жизнь нет возможности дать образ человека. Идеологи и теоретики в большинстве случаев настаивают: живой человек литературе нужен. Но только писатель пробует его показать, они сразу в ужасе открещиваются: как смеет этот злосчастный «живой человек» думать о чем-либо, кроме классовой борьбы и строительства? Получается некое «или-или»: или безупречно-революционный истукан, или человек подлинный и потому с неизбежными «провалами». Теория отказывается признать противоречие, но практика обойти его не может… до сих пор советская литература поневоле выбирала, большею частью, первое «или». Если бы тот «социалистический реализм», о котором теперь так много говорят, позволил литературе обратиться к настоящей жизни, он спас бы ее от медленного омертвения.
<«СЧАСТЬЕ» Ю. ФЕЛЬЗЕНА. – КЛЕТЧАТОЕ СОЛНЦЕ» А. ТАЛЬ >
У каждой книги – своя судьба. «Habent sua fata libelli», – сказал древний поэт. Одни рассчитаны на успех широкий и быстрый, даже иногда мгновенный: всем книга «нравится», все находят в ней что-то для себя приемлемое и приятное, всех она так или иначе волнует или интересует. Автор обращается не к индивидуальным особенностям какой-либо отдельной, близкой ему категории людей, а к тому, что во всех людях есть несомненно-общего и что они с радостью друг в друге обнаруживают. Величайшие книги человечества бывают таковы, но таковы же и те романы и повестушки, которые в читательской памяти «сгорают быстрее свечи»: разница вся в том, насколько дорог людям и неискореним из их сознания образ, созданный автором, требует ли он от них умственно-душевного напряжения, или, наоборот, поощряет их слабость и лень… Можно сказать, что есть бессмертно-общее, но есть рядом поверхностно или эфемерно-общее: всем близок и понятен «Дон Кихот», например, но ведь и романы Потапенко в определенной среде и в определенную эпоху возбуждали у тысяч читателей одинаковые эмоции. В литературе, увы, Потапенок неизмеримо больше, чем Сервантесов. Широта и легкость успеха в огромном числе случаев покупаются ценой его глубины.
Другие книги доступны только при наличии которого внутреннего родства с автором. Читательские «массы» над такими произведениями скучают: они чувствуют, что автор к ним высокомерно пренебрежителен, и в ответ как бы обижаются, мстя ему безразличием и холодностью. Но «где-то есть душа одна», она это лично-прихотливое, от всего отрешенное и грустное сочинение прочтет и – продолжу Некрасова – «она до гроба помнить будет». Найдется две-три таких души, сто душ, быть может, – они в книгу «влюбятся», все до последнего слова в ней примут и поймут и потом попытаются заразить своей влюбленностью остальной мир. Иногда это удается. Иногда – нет. Опрометчиво, конечно, было бы думать, что всякое узкое и глубокое признание a priori ведет к славе: если люди и согласны исправить свою первоначальную ошибку, то на веру они этого не делают и предварительно хотят убедиться, что ошибка в самом деле была… Писатель, до конца замкнутый в себе, подлинной славы никогда не узнает. Характерен в этом отношении пример Иннокентия Анненского: уж у этого ли поэта не было влюбленнейшего, очарованного, тесного окружения, казалось бы, обеспечивающего посмертную судьбу, сходную с тютчевской, – и все-таки пределы его влияния оказались скоро достигнутыми, и шире их раздвинуть до сих пор еще невозможно. В чем дело? Мастерство ведь почти что несравненное, своеобразие духа пленительное, – в чем дело? Вячеслав Иванов когда-то заметил, что Анненский принадлежит к «скупым нищим жизни». Точнее и острее сказать трудно, – и, кажется, в этой характеристике и дан самый верный ключ к разгадке. Нет самозабвения, нет щедрости – слишком много дальновидной, умной бережливости. Время и так называемая «толпа» на этот счет редко заблуждаются: суд их по большей части – суд зоркий и справедливый.
Самый серьезный упрек, который мне хотелось бы сделать Юрию Фельзену, автору бесспорно замечательного и – не в обычно-поверхностном, а подлинном смысле слова, – «интересного» романа «Счастье», это именно его замкнутость. В сущности, даже не упрек: упрекать можно только в том, что поправимо, в том, за что человек лично ответственен… Фельзен, кажется, рвется из заколдованного круга своих «переживаний». Но мир, лежащий за ним, для него недоступен и недостижим. Нечего делать: весь его стыдливый пафос, вся тусклая и горькая поэзия его творчества – от сознания невозможности переступить черту и смутного понимания, что переступить ее все-таки надо. «Счастье»? Есть, вероятно, ирония в названии книги. Много правильнее было бы озаглавить ее – «Одиночество».
Не думаю, чтобы когда-нибудь – не только в ближайшее время, но и позднее – у Фельзена образовался обширный круг читателей. Но не сомневаюсь ни на минуту, что уже и теперь найдутся в Париже или в далекой Латвии, а то и где-нибудь «под знойным солнцем Аргентины», по всем углам и странам русского «рассеяния» люди, для которых его книга будет неожиданным и радостным откровением, люди, которые будут читать ее и перечитывать, с удивлением следя за безошибочными и неутомимыми блужданиями автора по дебрям какого-то темного, странного, печального, но им хорошо знакомого внутреннего мира. Должен признаться: я был заинтересован «Счастьем», так сказать, со стороны. Но при совпадении душевных типов чтение Фельзена должно быть до жуткого увлекательно: нечто вроде саморазглядывания в свете рентгеновских лучей.
Никакой, или почти никакой фабулы. Герой пишет длинное, заполняющее всю книгу, письмо своей возлюбленной Леле. Та, вероятно, никогда не прочтет этого бесконечного послания, да это и не нужно. Она не то что ограниченнее героя; нет, она могла бы, может быть, понять все, что он ей пишет, – но ей не очень хочется погружаться во все эти причудливые, тончайшие и капризные сложности, ее тянет жить. А жизнь из-за излишнего внимания к тонкостям и сложностям можно и пропустить, прозевать. Леля этого, по-видимому, инстинктивно остерегается, а он, герой… он жить все равно не умеет и не хочет. Показательно для него, что сразу, уже на первых страницах романа-письма, он в обычном своем путанном и прихотливом стиле признается, что для него высшее блаженство – полулежа на кушетке, молча гладить лелины волосы, ничего не думая, ничего не делая, – если бы все существование его могло заключаться только в этом, он благодарил бы судьбу… Нельзя сказать, что этот человек умен: он не выражает никаких общих мыслей. Но он наделен необычайным, скорее женским, чем мужским, даром улавливать и понимать каждое мельчайшее душевное движение, и эта созерцательность, ни разу не потревоженная спящей силой, развивается в нем до ясновидения. Книга, действительно, похожа на монолог ясновидящего, внешний мир исчез, зато внутренний освещен беспощадным сиянием. Человеку надо же на что-либо обратить свою энергию, и если ему к тем областям, которые в самом общем значении можно назвать социальными, доступ закрыт, то, естественно, он тратит силы на наблюдение за самим собой… Леля ему изменяет, вокруг тянется жизнь, полная обманов, грусти и лжи, кто-то за кого-то бессмысленно выходит замуж, кто-то стреляется от безнадежной любви, другие пьянствуют, картежничают, говорят плоские пошлости, – а он, герой, все только замечает, записывает и объясняет. У него есть цель: убедить Лелю в том, что счастье дружбы, – если нет счастья страсти, – ценнее всех ценностей на свете, он без конца ее о дружбе молит, всячески доказывая ей, что все остальное прах, суета сует, чепуха, что личная любовь включает в себя все блага мира, – и, конечно, остается со своими мольбами один, без ответа. Леля, может быть, и вернется к нему. Он простит измену, забудет обиду, он все забудет и простит вообще, – вспомним еще раз Некрасова:
Сердце мое, исходящее кровью,
Всевыносящей любовью
Полно, друг мой!
Но положение его безысходно-печально. Нельзя такого человека любить, не «не за что», скорей «нечего» в нем любить, – разве что встретится ему такая же сомнамбулическая душа, вялая и чистая, обостренная и осторожно-расчетливая, одна из «скупых нищих жизни», которая в нем узнает себя, как в зеркале… Нет основания, конечно, отождествлять автора с его литературными героями. Но Фельзену такие же нужны и читатели, – и если найдется их и не очень много, то преданы они ему будут, как никакому другому современному писателю. Не испугает их ни трудное своеобразие стиля, ни постоянное возвращение к тем же суждениям, ни вся вообще напряженнейшая и вдохновенно-кропотливая путаница этой книги, которую нельзя «перелистать», в которую надо вчитаться.
Два слова в заключение о языке «Счастья». Он крайне неправилен. Автор это, очевидно, знает – и устами своего героя говорит.
– Не человек для языка, а язык для человека. Мы вправе ломать существующий язык, если не можем при его посредстве себя и свое выразить, и грех перед человеческим достоинством и назначением – недоговаривать малодушно, языку уступать… Все это требует медленной и страстной работы над словом: пускай получатся неуклюжие, неловкие сочетания, – по крайней мере, будет высказано действительно нами задуманное, не то приблизительное и случайное, что у нас появляется в легкомысленной, горячечной спешке из-за ленивого подчинения внешне удавшейся фразе.
Взгляд очень спорный – и в общей своей форме очень опасный. К какому хаосу может он привести! Если даже будет достигнута особая, прежде неведомая, индивидуальная выразительность стиля, – стоит ли «игра свеч»? Вопрос, над которым надо было бы подумать. У Фельзена его отступление перед грамматикой почти всегда оправдано (все-таки не всегда). Но у других оно может быть внушено безволием и даже распущенностью.
* * *
После удивительного «Счастья» довольно трудно перейти к «Клетчатому солнцу» Анны Таль.
Это вовсе не плохая книга. Есть в ней и вкус, и какое-то хрупкое холодноватое изящество… Но это роман, в обычном и самом условном смысле слова, с известной порцией разговоров, с установленной долей описаний природы, со страдающей и непонятой героиней, с различными типами и персонажами, введенными в повествование лишь для его оживления, со всеми теми данными вообще, которые требуются по готовым рецептам общедоступной литературной кухни. Рецепты хороши сами по себе, они в течение многих лет проверены, они выработаны опытными мастерами, – но для подлинного творчества их все-таки мало; нужно «кое-что» другое, свое, в дополнение к принятой схеме. У Анны Таль этого «кое-что» пока не заметно. Если быть вполне откровенным, то надо сказать, что не видно у нее еще и залогов его появления… Роман чистенький, не бездарный, но чуть-чуть ученический. Было бы, пожалуй, даже предпочтительнее, если в нем было бы меньше гладкости за счет внутреннего движения, и если бы к нему не так шел эпитет «удачный» – эпитет похвальный, конечно, но ограниченно-похвальный. Было бы больше надежд, – а то сейчас приходится считать, что «Клетчатое солнце» не ранний, бледный набросок молодой писательницы, а ее «достижение».
Ольга Кривецкая замужем за немецким ученым, профессором Шрадером. Она не счастлива и не несчастна. У нее «мятущаяся» душа, она сама не знает, чего хочет, – и мужа, разумеется, бросает. Начинается довольно длинная цепь «увлечений»: мальчик-итальянец Джино с «холодными, мягкими губами», затем какой-то скрипач, затем немецкий журналист и другие. Счастья, увы, все нет. Ольга ищет забвения в искусстве. Она – талантливый скульптор и думает в лепке найти свое подлинное призвание. Старый русский художник ею, полувлюбленно заботится о ней, и Ольга в ответ на его внимание называет его своим «единственным другом». Но это тоже не счастье. Рассеянная, утомленная жизнь в Париже, денежные заботы, неудачи… В искусстве Ольга достигает успехов, но душа ее пуста. Наконец, попадается на ее пути американец Армстронг, прямодушный, простой человек – богатый, конечно, как и полагается быть американцу. Ольга уезжает с ним на его родину. На этом роман и кончается.
У Анны Таль нашлось достаточно чутья, чтобы рассказать эту незамысловатую историю без дешевого лиризма. Наоборот, она даже кое-где подсушила ее иронией.
Не совсем ясно, сочувствует ли автор своей взбалмошной героине или посмеивается над ней. Это и лучше, ибо нет ничего рискованнее попыток выдать фарс за драму.








