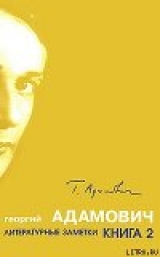
Текст книги "Литературные заметки. Книга 2 ("Последние новости": 1932-1933)"
Автор книги: Георгий Адамович
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ». КНИГА 48-я. Часть литературная
Если бы спросить читателей «Современных записок» насчет того, что предпочтительнее: печатать в каждой книжке журнала лишь одно-два беллетристических произведения, но зато целиком, или, наоборот, давать место нескольким авторам, но с неизбежными пометками «продолжение следует», «окончание следует», «конец первой части», «отрывок из второй части» и т.д., – читатели несомненно высказались бы за печатание повестей и романов целиком. Упрек в «отрывочности» приходится слышать в беседах о «Современных записках» постоянно. Действительно, следить за какой-нибудь вещью, растянутой на год, а то и на полтора, и все в ней помнить, так чтобы авторский замысел с каждой новой главой становился все яснее, – почти невозможно. Над очередным отрывком читатели, большею частью, восстанавливают в памяти то, что из нее наполовину уже исчезло. «Да, да, припоминаю, он ведь влюблен в эту Соню…» Или: «кажется, последняя глава кончилась на том, что он во всем сознался и заснул…» Восстанавливается, в лучшем случае, фабула. Внутреннее же действие и движение, то есть самое существенное в творчестве – искажается или даже остается вовсе не замеченным.
При том методе составления номера, которого держится редакция «Современных записок», оглавление получается, бесспорно, очень содержательным и привлекательным. Но только оглавление. Чтение самой книжки вызывает досаду, как бы ни был хорош помещенный в ней материал – из-за обилия «продолжений» и «окончаний». Пожалуй, лучше было бы пожертвовать эффектным разнообразием содержания ради законченности и полноты читательских впечатлений.
Бывают, разумеется, произведения, которые иначе как в нескольких номерах поместить невозможно… Но не всегда у редакции «Современных записок» есть это оправдание. Например, в последней книжке – повесть Георгия Пескова «Злая вечность»: тридцать пять страничек и – «окончание следует». Повесть умная, интересная: неужели в толстом, увесистом томе не нашлось еще нескольких десятков страниц для нее? Или беллетристика в журнале – только придаток, приманка, а главное в нем – статьи и публицистика, на которые вся редакторская заботливость и обращена? Не думаю, чтобы это было так. Но, несомненно, редакции «Современных записок», стремящейся каждую беллетристическую вещь разрезать на несколько частей, случается порой ту или иную повесть этим и «зарезать».
Роман Осоргина «Свидетель истории», печатаемый маленькими порциями, выйдет, по-видимому, живым из испытания. Объясняется это тем, что в нем нет текучести и непрерывности развития. Роман легко разбивается на отдельные эпизоды. Каждый эпизод до известной степени самостоятелен. Очень возможно, что позднее, когда мы «Свидетеля истории» прочтем целиком, обнаружится в нем то, что теперь от внимания еще ускользает. Но и «Олень», помещенный в прошлом номере журнала, и «Побег», напечатанный в новом, представляют собой законченные рассказы. Признаюсь, мне больше по душе «Олень»… В нем больше было напряжения, больше убедительности. Даже если и не разделять всецело отношения Осоргина к тем людям и событиям, о которых он говорит, нельзя было все таки не почувствовать в «Олене» искренности и какого-то отстоявшегося, проверенного, проясненного пафоса. Здесь, в «Побеге» – все мельче. Это просто «случай». Случай необыкновенный, и рассказывает о нем Осоргин занимательно. Но обращается он главным образом к нашему любопытству. Того длительного отзвука, который оставлял в сознании «Олень», «Побег» не дает. Заключительные «буддийские» строки слишком туманны и беспредметны, чтобы его вызвать.
Закончен «Подвиг». Позволю себе отложить отзыв об этом романе до общей статьи о его авторе – Сирине. Несколькими беглыми словами здесь отделаться нельзя. Бесспорно, Сирин – замечательное явление в нашей новой литературе. Замечательное – и по характеру своему довольно сложное. Он соединяет в себе исключительную словесную одаренность с редкой способностью писать, собственно говоря, «ни о чем». Когда-то Лев Шестов сказал о Чехове, что его писания – это «творчество из ничего». О Сирине можно было бы повторить эти слова, придав им смысл и оттенок, которые к Чехову относиться не могут, – оттенок несравненно большей «опустошенности», большей механичности и странной, при этом, беспечности. У нас есть многочисленные любители выискивать всюду скрытый смысл и улавливать особые «ритмы современности» в самых простых вещах. Вероятно, уловят они что-нибудь таинственно-глубокое и в «Подвиге». Между тем, этот роман, – бесспорно талантливый, – представляет собою апофеоз и предел «описательства», за которым зияет пустота. Ни страстей, ни мыслей… Мартын едет в Советскую Россию, но мог бы с тем же основанием отправиться и на Полинезийские острова: в логике романа ничего не было бы нарушено. Соня Зиланова могла бы за Мартына выйти замуж: ничего не изменилось бы. Как в витрине куклы могут быть расставлены в любом порядке, в любых сочетаниях: нужен для того, чтобы это было удачно, только вкус и «глаз», нужно чутье – органической же связи все равно не добиться. А чутья у Сирина много. Еще больше – умения писать так, как будто все у него льется само собой, с мастерской непринужденностью, с редким блеском… Не буду, однако, касаться темы о «Сирине вообще», оставлю ее для отдельной статьи. Тема заслуживает статьи: это, во всяком случае, – вне сомнений. О «Подвиге» скажу только, что в этом романе, – по сравнению с «Защитой Лужина» и, в особенности, более ранними вещами, – видна работа автора над стилем: реже сделались метафоры, точнее и скромнее стали сравнения, уменьшилось вообще количество эффектов… Осталось только пристрастие к особо «кряжистым» словечкам, которым, очевидно, надлежит придать языку некую черноземную сочность и полнокровность. Надо надеяться, что рано или поздно Сирин разлюбит и их.
«Злая вечность» Георгия Пескова помещена в одной книжке с «Подвигом» как будто для контраста. Действительно, контраст разительный… Даже странным кажется, что в одно время и в приблизительно однородной среде появляются вещи настолько во всем противоположные. Песков и его повесть – полностью еще в старых русских проклятых вопросах: о Боге, о вечности, о грехе, о смерти… Влияние Достоевского заметно даже в интонациях некоторых фраз (например: «с мыслью о смерти примириться нельзя, князь!» – так и кажется, что в ответ «тихо улыбается» князь Мышкин). Нельзя назвать «Злую вечность» выдающимся художественным произведением: герои повести больше разговаривают, чем живут… Но зато разговоры они ведут живые. Все это, конечно, уже было сказано. И не раз. Но важно ведь не то, чтобы человек непременно думал о чем-либо новом, а чтобы он о старом и неразрешенном думал так, как будто оно, это старое и неразрешенное, впервые именно ему и представилось. Кто упрекнет Георгия Пескова в элементарности размышлений, должен бы иметь в виду, что его герои бродят вокруг да около таких вопросов, которые в ответ только две-три простейшие догадки и допускают.
«Гремучий родник» Скобцова-Кондратьева, может быть, и представляет ценность с точки зрения бытовой или этнографической. Не знаю. Но к литературе это произведение имеет отношение более чем отдаленное. Надо полагать, что в качестве бытового документа ему и дано место в «Современных записках». Иное объяснению помещению «Гремучего родника» в журнале разборчивом и труднодоступном для писателей, не обладающих «именем», – найти трудно.
О «Воспоминаниях» А.Л. Толстой мне уже приходилось высказываться. Они по-прежнему в высшей степени интересны. После появления первых глав этих мемуаров многие сомневались: стоило ли, следовало ли все это извлекать на белый свет? Не лучше ли было бы подождать? Думаю, что мало-помалу эти сомнения рассеиваются: то, что Александра Львовна пишет, слишком важно для понимания ее отца и атмосферы, в которой он жил. Это, конечно, только свидетельство – не более. Пожалуй, это даже чуть-чуть одностороннее свидетельство. Но уж если дело о Льве Толстом и его жене привлекло к себе внимание всего мира, если в деле этом каждый считает нужным сказать свое мнение, – иногда совершенно вздорное, – надо было выслушать и Александру Львовну.
Есть замечательные вещи в отделе статей. В частности, – «Назаретские будни» Мережковского. Судя по этой главе, «Иисус Неизвестный» будет лучшей книгой писателя. Едва ли и могло быть иначе: к этой книге Мережковский, в сущности, шел всю жизнь, всю жизнь готовился к ней. В «Назаретских буднях» есть в каждой строчке радость и волнение: «наконец-то дошел». И есть лиризм, рожденный близостью к словам, образам и лицам, после долголетнего ожидания, наконец, будто бы обретенным. Книга, наверное, многим покажется еретической, если не хуже… Впрочем, она обращена к людям внецерковных настроений. Надо только сказать, что даже и «Назаретские будни» осторожнее не читать людям, которые свой религиозный покой боятся смутить.
Выделю статью П. Бицилли «Параллели», – написанную с глубокой и сдержанной, чисто умственной страстью. Автор проводит «параллели» между судьбой Маркса, Толстого, Фрейда и Пруста. Больше всего страсти в словах о Марксе. И как в них все верно, как «злободневно»! Невольно думаешь: если бы эти несколько страничек распространить по России, кое-что в них предварительно растолковав и разъяснив, – хорошее было бы это дело. Чрезвычайно тонко и все о Прусте. Приходится только пожалеть, что человек, так много знающий и, в особенности, так много понимающий, как Бицилли, редко пишет о литературе. Достаточно прочесть его рецензию на книгу о Тургеневе, чтобы убедиться, что он в нашей современной критике мог бы занять одно из первых, – если даже не первое, – мест. (Да, впрочем, критики случайные всегда были интереснее профессионалов. Шестов, например, о котором сегодня мне пришлось вспомнить по поводу его статьи о Чехове: в вопросах литературы он проницателен необычайно. Статья о Чехове есть, в сущности, единственно-цельное, что у нас на эту тему написано. Статья о Ибсене, глубокомысленная и пленительная – тоже. Но спускается со своих высот к литературе Шестов не часто.)
С интересом все прочтут воспоминания Шаляпина и отрывок из книги о «Декабристах» – Цетлина. Стихов много, и попадаются среди них прекрасные. Обращаю особенное внимание на стихи Георгия Иванова, а из более молодых – Довида Кнута; затем – на небольшие стихотворения Смоленского и Софиева, у которого довольно бедна словесная изобретательность, но есть все-таки свой тон и свой голос.
< «СТИХОТВОРЕНИЯ» В. РОПШИНА (САВИНКОВА). –
«ЭТА ЖИЗНЬ» А. ШТЕЙГЕРА >
Едва ли кому-нибудь придет в голову подойти к сборнику стихов покойного Савинкова с оценкой узко литературной или эстетической. Невозможность такого подхода настолько ясна, что о ней не стоит предупреждать и ее нет смысла растолковывать: поистине, это значило бы «ломиться в открытую дверь».
Но искусство есть все-таки искусство, стихи все–таки стихи. Как бы мы ни пытались внушить себе, что данная книга является, в сущности своей, только «человеческим документом», в ней мы имеем дело с элементами умышленности и условности. Только через них мы узнаем что-то об авторе, о Савинкове. Исключить полностью литературный подход к поэзии нельзя. Если нужен «человеческий документ» в чистом виде, лучше обратиться к дневникам, письмам, рассказам современников. В частности, может оказаться, что эти свидетельства о личности Савинкова будут интереснее и ценнее его попыток творчества. Это даже больше чем вероятно.
В стихах Савинкова – надо признаться – не видно таланта. Нет в них никакой свободы, никакого взлета, ничего вообще, что в характеристике поэта нередко определяется эпитетом «Божьей милостью»… Это замечание относится и к внутренней сущности стихов Савинкова. Но скажу сначала два слова о их наружном облике.
Попадаются стихи неплохие. Но если они не плохи, то почти всегда подражательны – до откровенных заимствований даже:
Ярмо постыдное уныло я влачу,
И горько жалуюсь, и…
Я невольно продолжил, читая: «и горько слезы лью», но тут же вспомнил: это не Савинков, это Пушкин.
Как нежны Ниццы очертанья,
И как лазурны берега,
В каком торжественном молчаньи
Горят альпийские снега.
Эта строфа в точности воспроизводит интонацию Тютчева (дело не в Ницце, разумеется, которая хоть и связана навсегда с лирикой Тютчева, но не составляет все-таки его неотъемлемой собственности, а в восклицательном обороте «как», «в каком» – типично тютчевском). Стихи поздние нередко напоминают З. Гиппиус… Стремление быть самостоятельным – стремление, которое у Савинкова, несомненно, было очень сильно, – приводит его большей частью не к овладению мастерством, а к отказу от мастерства. Савинков чувствовал, вероятно, что подлинным поэтом ему не стать. «Техника» давила, угнетала его и заставляла быть внешне похожим то на одного, то на другого поэта. Он ее откинул и предпочел писать вещицы, предназначенные будто для мелодекламации: короткие, примитивно-выразительные по смыслу, но без всякой выразительности самого слова – капризные, приперченные, обманчиво-оригинальные… З. Гиппиус в предисловии к сборнику спрашивает себя: «нашел ли Савинков свою манеру?» и тут же отвечает: «во всяком случае до совершенства не довел». Думается, что З. Гиппиус преувеличивает значение литературных опытов Савинкова. О каком совершенстве в применении к ним можно говорить? В этих стихах отчетливее всего виден испуг творчески слабого сознания, которое отбрасывает общий язык, общие формы выражения, ибо оно не может в них проявить себя. Бывают люди, которые всегда, во всех случаях одеваются «по-своему»: иначе их не заметят… Вот приблизительно впечатление от стихов Савинкова. Для них характерно не преодоление общности (с чего только и начинается всякая «своя манера»), а беспомощное отступление перед ней.
Теперь о том, что сквозь эти стихи светится: о «душе» их и о душе их автора. Постараюсь передать впечатления так, как будто вам о Савинкове почти ничего не было известно.
Бесспорно, писал эти стихи человек не обыкновенный, правильнее – не обычный. Но в нем, как в творчестве его, отсутствует та благодать, то внутреннее сияние, тот свет, которые возбуждают к человеку любовь. Вероятно, Савинкова мало любили: разумеется, я говорю только о любви-дружбе, не касаясь других областей… Поздний, обмельчавший байронизм чувствуется в нем. «Жизнь – пустая и глупая шутка», – он повторяет это неизменно, на все лады. Он по-настоящему несчастен. Но в самое свое несчастье, в свое подлинное непоправимое одиночество он вносит усмешку, которая уничтожает возможность сочувствия. Иногда он вносит туда же и кокетство, позу: как бы «посмотрите, какой я!» Должен сказать, что те противоречивые строки, где Савинков упоминает о грехе убийства и посещающих его кошмарах, принадлежат к самым тяжелым и в каком-то смысле даже отталкивающим во всей книге. Не то чтобы об этом нельзя было писать. Обо всем можно писать, обо всем решительно, без исключения. Но здесь Савинков охлажденным чувством, охлажденным условно-красивым словом касается глубочайшей и трагической темы… Получается нечто трудновыносимое. Если даже знать биографию автора, если вспомнить, что эти строки не только «слова, слова, слова», что за ними есть реальность, – впечатление остается то же.
Индивидуализм у Савинкова развит болезненно. Я, я, я, – кроме этого, он ничего не видит и не знает. Пожалуй, именно в этом разгадка того привкуса «мучительности», который придает все-таки его книге значение, несмотря на дилетантизм ее и постоянно чувствующуюся фальшь: несчастен Савинков из-за отсутствия «выхода» к миру, из-за обреченности своей остаться в себе, как несчастен всякий прирожденный индивидуалист, сознающий свое состояние. У Савинкова ум был прозорлив, но бессилен исправить или заменить что-либо. И даже самая жизнь его, где, несомненно, жертвенность была, – даже самая жизнь его, по-видимому, двигалась в значительной мере гордостью, надменным и холодным расчетом, увлечением опасностью:
Мне душу тешили кровавые забавы.
Вот признание более искреннее, пожалуй, чем «кошмары»… Нередко только эта душа ощущала свое окаменение, ужасаясь ему, – и тогда вырывались стихи, похожие на крик:
Прости меня,
Дай мне забвенья,
Прости меня,
Я так устал…
Одна из книг Розанова кончается фразой, которую часто вспоминаешь, думая о людях. Здесь она, кажется, будет уместнее, чем где бы то ни было:
– Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин только жалости.
* * *
«Пишите прозу, господа!»
Каждый раз, когда перелистываешь новый сборник стихов одного из наших здешних молодых поэтов, хочется повторить давний призыв Брюсова: «Пишите прозу, господа!» Не в том беда, что стихи сейчас мало кто читает, ценит и понимает: это не должно бы поэта смущать, не должно бы его сбивать с пути. Но есть ли, действительно, «путь» у авторов выходящих сейчас в довольно большом количестве маленьких, белых, чистеньких книжечек? Едва ли. Они пишут стихи главным образом потому, что до них стихи писали другие, повторяют чужие слова и приемы, и если даже у них есть свои мысли и чувства, то сквозь чужую, заимствованную оболочку этого «своего» не видно. Заняты они не творчеством, а лишь приятной, но пустоватой «игрой в творчество». Одни из них талантливы, другие бездарны. О бездарных говорить не стоит, но талантливых жаль, потому что их губит форма, если можно так выразиться. Проза – честная, требовательная и сухая проза – заставила бы их быть строже к себе, убедила бы, что говорить следует только тогда, когда есть что сказать. Стихи же позволяют бесконечные перестановки слов и строчек, мнимой важностью и мнимой глубиной которых автор обманывает, прежде всего, самого себя. Автор возразит, может быть, что он «поэт», что иначе как в размеренных строфах, он высказаться не может. Полно! Поэты подлинные, врожденные, только в ритме и музыке слов оживающие, – величайшая редкость. Во всей современной русской литературе поэтов – в этом смысле – всего два-три. Наши же молодые стихотворцы в огромном большинстве случаев держатся стихов или по «инстинкту самосохранения», т. е. из безотчетной боязни обнаружить свою творческую несостоятельность, или по какой-то странной умственно-душевной лени, мешающей им понять и почувствовать свою основную ошибку, – и, поняв, сделать вывод.
Анатолий Штейгер, автор сборника «Эта жизнь», – бесспорно талантлив. Он пишет стихи внешне изящные и внутренне тонкие. Кое над чем в его книге хочется задуматься, кое-что тянет перечесть и даже запомнить. Но все же общее впечатление остается расплывчатым. Похоже на то, что стихи не помогают автору высказаться, а препятствуют ему сделать это. Рифмы аккуратно и наивно возникают в конце строчек, ямбы и хореи придают мертвенную гладкость фразам, которые нередко требуют совсем другой интонации… Получаются стихи, не лишенные прелести, но чуть-чуть игрушечные, будто написанные не совсем «всерьез». Между тем, вчитываясь в сборник Штейгера, видишь, что он мог бы писать иначе. Стихи умаляют его. Как человек литературно одаренный он «владеет формой» неплохо, но необходимости писать именно стихи, кажется мне, не ощущает. Все то, что в стихах условно, у него именно как условность и выступает наружу. И форма не сливается с содержанием, а лишь надевается на него будто футляр.
На обложке «Этой жизни» объявлено о выходе в свет прозы Штейгера. Очень будет интересно прочесть ее. Она может оказаться гораздо значительнее его стихов.
О чем говорит Штейгер? На подобный вопрос, к какому бы автору он ни относился, всегда трудно ответить коротко. Замечу все-таки: Штейгер выражает мысли и чувства тех людей, которые как бы боятся жизни.
Сейчас, особенно среди нашей здешней молодежи, это распространенный и любопытный «случай». Все в книге Штейгера происходит только «на пороге», из-за черты он на все и глядит. Иногда он восклицает:
О, этот бедный мир совсем не плох!
О, эта жизнь – совсем не наказанье!
Но это – «восклицание зрителя», не более… Штейгер еще совсем юн. Есть основания верить, что он когда-нибудь найдет в себе силы жить по-настоящему. Тогда, надо думать, и в писаниях его появится та убедительность и та правдивость, которых им недостает теперь.
ЗАМЕТКИ О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
С полгода назад в «Новом мире» была напечатана повесть Я. Рыкачева «Величие и падение Андрея Полозова» – произведение настолько незаурядное, что нельзя было не запомнить имени его автора, писателя совсем еще малоизвестного. О повести этой была уже речь в нашей газете. Напомню, что в ней чрезвычайно тонко и метко был очерчен тип «приспособленца», доходящего в своем сложном и трудном искусстве до подлинной виртуозности. Андрея Полозова, провинциального честолюбивого журналиста, которого «ребята выдвинули на работу в Москву», все принимают за убежденнейшего большевика. «Глубоко свой парень», как принято теперь выражаться в России, Андрей Полозов делает головокружительную карьеру и только по какой-то несчастливой роковой случайности оказывается разоблаченным. Автор подчеркивает, что «падение» его именно случайно: вполне было бы возможно для Полозова блистать на советском литературном небосклоне и до сих пор.
Я. Рыкачева, как водится, за его повесть ожесточенно бранили. Критика указывала, что он в выполнении ленинского завета о «срывании всех и всяческих масок» зашел слишком далеко и не удержался от клеветы. Но нашлись у Рыкачева и защитники – Лидия Сейфуллина, например (кстати: довольно смелый и честный человек, – если судить по ее выступлениям на различных теперешних «дискуссиях») Из-за «Величия и падения Андрея Полозова» разгорелись страсти.
Подпись Рыкачева с тех пор останавливает на себе внимание. И не напрасно. Интересно и своеобразно все, что Рыкачев пишет. В скором времени должна выйти его книга: «Идеологические портреты». Некоторые отрывки из этой книги появились в московской периодической печати. В одном из последних номеров «Литературной газеты» помещен любопытнейший «портрет» попутчика Каширина.
Каширин – лицо воображаемое. Автор предупреждает, что «искать оригинал этого портрета было бы бесплодным делом». Надо думать, что это действительно так. Рыкачев склонен к обобщениям, не к фотографической передаче неповторимых черт той или иной индивидуальности.
Писатель Каширин относится к революции не с ненавистью, а с печалью. Именно поэтому он и числится в «попутчиках»: звание, которое Каширин ценит, которым он даже гордится. Печаль Каширина внушает читателям уважение. Они, читатели, не замечают, что Каширин «ощущает величие эпохи более всего со стороны причиняемых ею душевных неудобств». Они видят лишь, что Каширин «несет свою печаль как высокую болезнь, как горький отстой тысячелетней культуры».
Каширин пишет:
«Предо мной – одно из великих свершений человеческой воли. Вот он – путь: от римского водопровода до этого гиганта социалистической индустрии. Вдали угасает заря. На тревожном фоне заревого неба, словно мифические гиганты, шагают в неизвестность телеграфные столбы. В закатном Пламени быстро дотлевают последние лоскутья дня. Скоро сойдет на землю ночь – беззвездная и безлунная. Запомним ли мы когда-нибудь эту бездомную, черную пустоту!»
Дальше идет речь о промфинплане, о прорывах, о соцсоревновании, об ударничестве… Не к чему придраться. Но в элегическом тоне каширинских строк звучит: «Все суета сует и томление духа, бесплодны труды человека и нет в них пользы под солнцем». И как бы ни восхищался Каширин «гигантами социалистической индустрии», он с меланхолическим лиризмом своим не расстается. Какой-нибудь красный директор у него непременно «печальный, изможденный человек, с большими недоуменными глазами, как бы вопрошающими: ну, как, правильно я делаю свое дело? »
Попутчик ли Каширин? Рыкачев в этом сильно сомневается. Он восклицает: «Избави нас, Боже, от печали, а с ненавистью мы сами справимся». Для него эта печаль – «явление сложное и ядовитое».
Ибо в СССР, по убеждению Рыкачева, – печаль отменена. «Разумеется, – говорит Рыкачев уже от имени пролетариата и революции, – каждый писатель имеет право на свое собственное восприятие. Иначе было бы с лихвой достаточно одного писателя. Но и действительность имеет кое-какие права. Мы требуем, чтобы писатель уважал права этой действительности».
Кто в СССР не согласен с тем, что все в мире прекрасно и с каждым днем становится еще прекраснее, – должен молчать.
Таков единственный вывод, который можно сделать из рыкачевского очерка. Автор едко иронизирует над Кашириным, которого изображает пошляком и плутом. Портрет, несомненно, актуален и меток. Остается только неясным, как отнесся бы Рыкачев к печали своего героя, будь она не напускной и лживой, а искренней и подлинной.
* * *
Как он отнесся к тому, что теперь пишет Юрий Олеша, например? Если искать печали, то ни у кого из признанных и официально одобряемых советских писателей более острой печали не найти. Пожалуй, только у Шкловского в его последних книгах. Но Шкловскому в России очень тяжело живется. К Олеше отношение иное. С ним, правда, много спорят, но спорят еще и до сих пор весьма почтительно. Рта ему не зажимают. Настроения его, по-видимому, объясняются причинами внутренними, и поэтому и вызывают в советской критике тревожное недоумение. «Что ему надо?» – как бы говорит эта критика, привыкшая к покорному, счастливому и тупому спокойствию тех, кому при ее содействии удалось выйти в люди.
Олеша в маленьком и довольно «желтом» журнальчике «30 дней» поместил свои отрывочные заметки и записки. Почему именно он выбрал для обнародования их место столь мало подходящее, объяснять не берусь. Может быть, для того, чтобы придать им вид мелочей, пустяков, второстепенного, завалявшегося материала. Заметки названы: «Кое-что из секретных записей попутчика Занда».
Как будто бы и не Олеша пишет, а какой-то вымышленный, несуществующий Занд. Но никого эти хитрости в заблуждение не введут. Каждое слово в «секретных записках» проникнуто личным неподдельным чувством, личной болезненно-взволнованной мыслью, – и некий тов. Бачелис, тут же в послесловии читающий Олеше нотации, твердо знает, что обращается он по правильному адресу.
Невозможно определить, о чем именно грустит или тоскует Занд-Олеша. Обо всем – и ни о чем. Он сам ищет нужных, точных слов и не находит их. «Когда начинаешь проверять себя, осматриваться, взвешивать то, что сделал, становится ясным, что твоя деятельность, которая в иные минуты кажется тебе такой значительной, на самом деле чрезвычайно ничтожна…» Это – чувство «суеты сует», то именно, над чем посмеивается Рыкачев. Но рыкачевский герой действительно смешон, а об Олеше этого не скажешь…
Занд вспоминает людей, которым он за что-либо благодарен, или которые его удивили. Джек Лондон, Бальзак, Пушкин, Толстой. О Толстом он говорит остроумно:
«Этот человек был так велик и такое сознавал в себе превосходство, что не мог мириться с тем, что в мире и в жизни могут существовать другие великие люди или идеи, с которыми он не мог бы померяться силами. Он выбрал себе самых могущественных противников, и только тех, перед которыми все человечество простиралось ниц: Наполеон, Смерть, Христианство, Искусство и самое Жизнь, потому что написал “Крейцерову сонату”, где призывал людей к отказу от размножения, то есть от самой жизни…»
Занд завидует Толстому, завидует многим другим. Он «страстно мечтает о силе» и не чувствует ее в себе.
Наиболее плодотворное – и для советского писателя неожиданное – замечание сделано как бы вскользь:
«Так вот в чем дело! – говорит Занд после долгих и не совсем ясных размышлений о себе, о своей жизни, о своем ремесле, – так вот в чем дело! Возврат внимания в себя, в мир внутренний! Сама профессия моя, профессия писателя, такова, что внимание не может принадлежать только внешнему миру».
Занд рассказывает, что он поделился своими думами с каким-то «большевиком-редактором». Тот ответил:
– Вы должны включиться в жизнь масс.
Такой же совет дает Олеше тов. Бачелис.
– Вам нужно слиться с массой.
Эти поучения в советской России каждый слышал, конечно, не раз. Едва ли они покажутся Олеше и его Занду убедительными.
* * *
Б. Левин – писатель новый и, кажется, совсем еще молодой. В последнее время его небольшие повести и рассказы мелькают в журналах часто.
Б. Левина так охотно печатают не потому, чтобы он был беллетристом особенно благонамеренным и нужным с партийной точки зрения или обладал выдающимся художественным талантом… Нет, ни в том, ни в другом отношении Б. Левин ничего исключительного собой не представляет. Но у него есть дар, редкий в новейшей словесности: дар легкости, дар увлекательности, нечто родственное тому, что от всех или почти всех современных повествователей отличает Алексея Толстого.
Конечно, все это – «для среднего читателя». Конечно, это не глубоко… Но в своем роде это замечательные образцы умения из самых, казалось бы, неподходящих элементов составить смесь, где всего в меру: и любви, и политики, и юмора, и различных художественных «блесток», – всего вообще, что должно удовлетворять и критику, и простых смертных.
О романе Б. Левина «Жили два товарища» я расскажу в ближайшее время более подробно. С бытовой точки зрения, роман этот достоин пристального внимания. Но любопытны и мелкие вещи Левина: рассказ «Одна радость», например, напечатанный в ноябрьской книжке «Красной нови».
Завязка – самая наивная. Большевик-энтузиаст, Сморода, работает по уборке льна. Далеко, за шесть тысяч верст, на Онекстрое работает редактором местной газеты его жена Наташа, тоже большевичка, и тоже энтузиастка. Наташа любит Смороду, Сморода любит Наташу. Но счастье их нарушает инженер Эун, к которому Наташа уходит. Сморода взбешен, потрясен, но… он читает об успехах Онекского строительства и забывает личные обиды. «Радость!» – восклицает он. Автор добавляет от себя: «Товарищи вас ждут десятки, сотни, тысячи радостей!»
Эту незамысловатую историю Левин рассказывает очень живо и искусно. Более чем вероятно, что он скоро станет одним из популярнейших в России беллетристов: у него есть для этого данные; и, по-видимому, единственным побуждением к творчеству является для него желание заинтересовать читателя. Цели своей он достигает.








