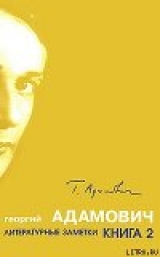
Текст книги "Литературные заметки. Книга 2 ("Последние новости": 1932-1933)"
Автор книги: Георгий Адамович
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Георгий Адамович (1892-1972)
Литературные заметки Книга 2. («Последние новости 1932-1933)
1932
МЫСЛИ И СОМНЕНИЯ:
О ЛИТЕРАТУРЕ В ЭМИГРАЦИИ
Прошлой весной в Париже устроен был одним эмигрантским журналом вечер поэзии. Участвовали поэты заслуженные и поэты юные, читали стихи нараспев, меланхолическими и негромкими голосами, бледной рукой поправляли «непокорную» прядь на лбу, в искусных и размеренных строфах говорили о любви, одиночестве, смерти, надежде, тоске… Было скучновато. Публика позевывала, но аплодировала.
При выходе, в толпе, я услышал замечательный диалог:
– Представьте себе, – говорил кто-то, – здесь, на этой эстраде, Маяковского! С его глоткой, с его пафосом, с его стихами. Какой бы это был триумф! После них всех…
– Да, конечно, триумф был бы… Да.
Отвечавший соглашался неохотно. Помолчав, добавил:
– И, все-таки, его стихи были бы самыми плохими из всего, что сегодня было прочитано.
Дело не в Маяковском, конечно. Дело шире. Маяковский лично не интересен, при всем его таланте. О нем, собственно говоря, и спорить нечего. О нем невозможно задуматься: все ясно, как дважды два.
Но и тот « вечер поэзии » отошел на задний план. Говоривший обобщил вопрос, освободив его элементов случайности. С ним хотелось согласиться потому именно, что он в своем общем противопоставлении литературы эмигрантской литературе советской эту эмигрантскую литературу мыслил «идеально». Он обогащал ее тем, чего в ней нет. Он сам всем своим обликом казался тем ее героем, о котором она, в сущности, ничего еще не рассказала.
Когда думаешь на эти темы, множество «за» и множество «против» встает в сознании. Но человеческий ум плохо мирится с неурядицей и путаницей противоречивых доводов. Он стремится к ясным положениям. Он жертвует одними доводами ради других, – или осмотрительно обходит все то, что покой его может смутить.
* * *
Недавно это и произошло.
М. Слоним написал статью о литературе в эмиграции. Б. Зайцев ему ответил. По Слониму получалось, что в эмиграции не только ничего нет, но ничего и быть не может: все его надежды обращены к Советской России. По Зайцеву, наоборот, литературы в России не существует: русская литература сейчас вся за рубежом.
Не будем решать, кто из спорящих прав. Решить это было бы и трудно, ибо и тот и другой, в желании во что бы то ни стало «выпрямить свою линию», рассуждают порой, действительно, слишком прямолинейно. Не правы оба. Преимущество мысли, пожалуй, все-таки, на стороне Слонима. Но у Зайцева есть преимущество чувства, очень достойного, сдержанно-мужественного. У Слонима непонятно его радостное оживление, его бодрый и приподнятый тон: говорит он вещи, в большинстве случаев, верные, однако чрезвычайно печальные, – а говорит, торжествуя. Похоже на то, что для него полемический успех дороже всего: предвидя свою победу в полемике, он и радуется, – и забывает при этом, что говорит о живых людях, которым тяжело ведь и без него, что эмигрант ведь и он сам, что эмиграция вообще есть ужасное несчастье, и если даже никакой «миссии» у здешней литературы нет, то все-таки вбивать ей «осиновый кол» в ее воображаемую могилу нельзя, не за что, и не может быть это оправдано ни историей, ни подлинным положением дела, и никогда не будет оправдано.
* * *
Она сейчас не на высоте эпохи, – кто спорит. Упреки она заслужила. Основными своими мотивами она никак не обращена к тому, что сейчас происходит в мире. В этом отношении кое-что из написанного за последние годы в Советской России, несомненно, значительнее и, при всей своей сыроватости, все же отмечено острым зрением, чутким слухом к времени. Настоящая же Европа, «заграница» (особенно Франция и Англия) в книгах своих зрелее, тоньше, наконец, просто-напросто интереснее: два-три наших писателя такое сравнение выдержат, а для остальных оно было бы крайне опасно… Здесь, в эмиграции, раздается барабанный бой «хранения заветов» и «стояния на славном посту», с твердой надеждой, что заветы и посты в недалеком будущем полностью восстановятся, или культивируются воспоминания, или рассказываются историйки, более и менее невинные. Вдохновения, пафоса в эмигрантской литературе мало. К ней уменьшается внимание, но не сама ли она в этом виновата?
Удивительнее всего то, что она здесь, в условиях полной свободы, ничего не отвечает, ничего не возражает теперешней новой России. Будучи частью России и всячески отстаивая свое право быть ею, она как будто не видит, не знает, не хочет знать, что в России создается… Она отделывается усмешками или проклятиями, в лучшем случае. Дело дошло до того даже, что она уступает некоторым советским писателям (Олеше, например) защиту, отстаивание и развитие своих убеждений и ценностей, – защиту идеи личности, прежде всего. Но в советских условиях подобная «миссия» обречена на двусмысленные уловки, отступления, хитрости, на недоговоренность вообще. Казалось бы, здесь и договорить все… Но здесь литература об этом молчит. Молчание может быть красноречивым, может быть полным смысла и значения, – когда оно вынуждено: молчание некоторых писателей там, в России, именно так нами и воспринимается. Но ведь здесь-то, в эмиграции, говорить позволено все: молчание здешней литературы заставляет думать, что ей нечего России сказать. При подлинном и пристальном своем внимании к внутренней жизни, к «психологии» (у некоторых молодых в особенности) она не знает, что с этим материалом делать, и только переносит пресловутое «описательство» извне вовнутрь, с картин природы или быта на «переживания», ничего не изменяя по существу… Она слабеет, мельчает.
Но хоронить ее все-таки рано. Иногда в стихах какого-нибудь маленького поэта слышится то, что может здесь «вдохновение» зажечь, иногда в беседах возникает то самое. И, вероятно, именно об этом думал после литературного вечера, о котором я рассказывал, тот умный, «принципиальный» эмигрант.
Повременим с похоронами. Это верно, что земли нет, общества нет, отклика нет, обновления нет, движения нет, – и теоретически как будто бы все беспросветно. Но здешняя наша литература должна, все-таки, жить, как тень от той советской, как недоумение, обращенное к ее непонятной, если только не притворной, уверенности, как вопрос, как отказ от огрубения, хотя бы даже и общественно-спасительного. Душа мира не хочет впасть в детство, которого требует коммунизм, – или фашизм, и все вообще, что этим течениям родственно. О, как много могла бы сказать русская литература здесь в ответ на то, что сказано там , если бы только она нашла в себе силы говорить! До сих пор она лишь высокомерно морщилась или вносила в спор запальчивость личных обид, неубедительную и даже вызывающую смущение. А люди так ждут ее подлинного голоса, что даже слабые намеки принимают за слова. «Лучше Маяковского». Стихи, пожалуй, в большинстве случаев были хуже Маяковского. Но в намеках их можно было, все-таки, расслышать то, что Маяковский и его товарищи растеряли. В их нежности, в их лиризме могло бы, по теперешним временам, быть больше творческой смелости, чем в рабском и плоском «динамизме» современных советских од. Могло бы… если бы только голос этих стихов был голосом воли, а не усталости.
* * *
Литература не творится в торжествах и успехах. Не питается ими, во всяком случае.
И вот порой приходит в голову: были ли когда-нибудь для литературы условия такой чистоты, такой ответственности, как наши теперешние, – и неужели же мы их пропустим, ничего в них не поняв и не заметив?
Грустнее нынешнего положения эмигрантской литературы нельзя ничего себе и представить. Чего ей только не приходится слышать о себе – и молча сносить? «Гордыня» ее – ведь это миф: давно уже ничего от былой гордыни не осталось. Потеряно влияние, рассеяны все иллюзии, исчез последний след возможности «арривизма» путем словесного творчества. Все предоставлено самому себе, – и вот выясняется, что литература «сама по себе» – предмет роскоши, вызывающий своей праздностью скорее всего разочарование. Не так давно состоялся в Париже диспут на тему: «конец эмигрантской литературы», – и многие отметили это название с удовлетворением. «Так ей и надо!» Неужели же она не примет всего этого, как высокий и тягостный дар, и не сумеет найти слова о человеке, которому – как бы это сказать? – жизнь и мир делают больно? О человеке, который не хуже, чем он был прежде, не глупее, не пустее, – и, все-таки, стал никому не нужен только потому, что за ним нет опоры, силы, никакой власти вообще, ни над чем. Какие страшные выводы из факта этой внезапной ненужности, из самой возможности такого факта! Ну, допустим, «умирающий класс», допустим, – что же из этого? Одного такого объяснения, по чудовищной его грубости, достаточно, чтобы навсегда внушить отвращение ко всем будущим «строительствам», если основаны они на подобной звериной логике. Неужели здешняя литература ничего не скажет о человеке, который слишком уж развит, слишком многое помнит, чтобы сливаться и соединяться с другими людьми на почве «наибольших удобств», «наилучшего распределения материальных благ» и прочих дикарских приманок, – и который бережет не только книжное и сомнительное понятие «духовности», но и скромную уединенную «душевность», сейчас исчезающую, сейчас презираемую, почти уже совсем развенчанную, напрасно и легкомысленно, пожалуй… Люди всегда примыкают к победителям, по угодливости своей, всегда «толкают падающего». Теперь в России – проблемы, завоевания, достижения, новые горизонты, массовые расцветы. Иностранная, а отчасти и эмигрантская, критика все это комментирует, с разной степенью почтительности. Здесь – «запустение». И на самом деле – запустение. Комментировать – будем откровенны, – почти нечего. Но неужели же это так и будет дальше? И неужели здесь, в оскудении и одиночестве, в оставленной судьбой и людьми, все-таки, единственно-свободной и честной русской литературе никто не найдет слов, которые на веки веков станут «поперек горла» всем небрезгливым победителям и устроителям, останутся вечным упреком и отравой всех будущих коллективных спокойствий?
Есть в эмиграции замечательные писатели, замечательные люди. Не много, – но есть. Икс, например… Ему, кажется, жизнь сейчас открыла глаза на все. Но чем он занят? И как может быть, что никто не обратится к нему, как когда-то Тургенев к Толстому:
– Друг мой, великий писатель земли русской! Неужели же вы все-таки никогда обо всем этом ничего не напишете? Обо всем этом… вам-то, теперь-то уж ведь не надо объяснять, о чем!
СТИХИ В. СМОЛЕНСКОГО
Имя Владимир Смоленского еще два-три года тому назад никому не было известно. Сейчас его знают все те эмигрантские писатели, которые следят за развитием и жизнью здешней поэзии.
Смоленский выдвинулся быстро и занял место в первом ряду наших молодых поэтов по праву. Он, несомненно, даровит. Помимо этого, стихи его обладают особым свойством «нравиться»: иногда видишь даже их слабости, замечаешь недостатки, – но стихи все-таки кажутся хорошими, удачными, благодаря пронизывающей их музыкальной прелести. О поэтах принято говорить, что они «поют». К Смоленскому это выражение применимо без натяжек: текст его стихов, сам по себе довольно бледный и однообразный, оживает сразу, как только на помощь ему приходит ритм или мелодия, улавливаемая в звуках слов. «Голос мой негромок», – мог бы повторить Смоленский вслед за Баратынским. Негромок, да, – едва ли сам поэт на этот счет обольщается. Но голос у него чистый, свой. Процитирую Баратынского дальше:
…Я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие.
У Смоленского есть основания отнести и эти слова к себе.
Содержание и характер его стихов определяются названием книги – «Закат». Оговорюсь, что мне не особенно по вкусу это название: образ, пожалуй, слишком уж потрепанный, стертый, – притом это все-таки образ, следовательно, не просто слово, в котором стираться и линять нечему. Так ведь можно переутончиться до того, что назовешь книгу «Зори» или «Волны»… Но не буду придираться к мелочам. Все знают, что найти для книги стихов название – дело чрезвычайно трудное, почти всегда кончающееся неудачей. У «Заката» есть хоть достоинство точности.
Стихи Смоленского до крайности меланхоличны. Они, действительно, «закатны». Поэт не живет, поэт «перманентно» умирает, и если даже заговорит иногда о своей любви, или о своих страстях, то сейчас же переносится мыслью в потусторонний мир… Лучшие его слова – для потустороннего мира: там витают ангелы, там пребывают блаженные тени, там и он, поэт, найдет свое последнее, вечное счастье. Правда, все это похоже на какие-то искусные, романтически-померкшие, театральные декорации… Тема смерти, составляющая как будто бы основу поэзии Смоленского, на самом деле в ней и «не ночевала». Тема эта не убаюкивает и пленяет, а жжет все насквозь, дотла… То, о чем Смоленский пишет, правильнее было бы определить, как прозябание, скуку, жалость к самому себе. В особенности это последнее: жалость к самому себе. Я думаю, что Смоленскому, действительно, жить очень скучно и чуть-чуть страшно. Романтическими видениями он себя утешает, сознавая в глубине души, что носится «без руля и без ветрил».
Разумеется, можно было бы эти соображения о поэзии одного из «эмигрантских молодых людей» обобщить. У Смоленского есть талант, у других его нет. Но не случайно же такая лирика возникла именно здесь. Оставлю, однако, беседу об этом до другого раза. Приведу, в заключение, для образца, одно из самых удачных, по-моему, стихотворений из «Заката»:
Какое дело мне, что ты живешь.
Какое дело мне, что ты умрешь.
И мне тебя совсем не жаль – совсем!
Ты для меня невидим, глух и нем,
И как тебя зовут, и как ты жил
Не знал я никогда или забыл,
И если мимо провезут твой гроб,
Моя рука не перекрестит лоб.
Но страшно мне подумать, что и я
Вот так же безразличен для тебя,
Что жизнь моя, и смерть моя, и сны
Тебе совсем не нужны и скучны,
Что я везде – о, это видит Бог! –
Так навсегда, так страшно одинок.
Здесь Смоленскому сквозь обычную для него «дымку» удалось добиться подлинной энергии выражения. Это не только прельщает – это запоминается.
< «ОГНИ В ТУМАНЕ» ВС. Н. ИВАНОВА >
Немало появилось за последние годы книг, где в той или иной форме предлагается нам «философия» русской революции и всех вообще событий и явлений нашей эпохи. Большей частью авторы этих книг не принадлежат ни к какой отчетливой политической группировке и ни в литературе, нив общественной жизни неизвестны. Нередко случается также, что на издании подобной книжки деятельность авторов и прекращается. К ним – к этим произведениям, – естественно, относишься недоверчиво… Огромная самонадеянность нужна, чтобы отважиться на обнародование целого тома своих будто бы оригинальных мыслей по вопросу такой сложности, такой противоречивости, а главное – такой еще «болезненности»! Человек, выпускающий книгу своих «дум» о революции, полагает, значит, что все думы, высказанные до него, – неверны или несущественны. Он рассчитывает осчастливить мир: недоверие, повторяю, естественно. И почти всегда оно оказывается оправдано. Совсем недавно еще мне пришлось убедиться в этом, читая изданную в Белграде книжку проф. Краинского «Без будущего» – «очерки по психологии революции и эмиграции». Удивляет в ней не столько несомненный вздор, преподносимый в качестве мыслей, сколько развязно-величественный, учительный, вещий тон… В этом роде писал когда-то покойный Карабичевский: «Да тяготеет же над Россией мое проклятие!» Автор не почувствовал, в какое смешное положение попал он: Россия и его проклятие!
Книга Всеволода Иванова (харбинского, а не советского, разумеется) «Огни в тумане» относится к тому же разряду «философических» произведений. Ей дан многозначительный подзаголовок «думы о русском опыте». Однако автор вводит нас в заблуждение: никаких дум в его книге нет, и если уж что-нибудь в ней отсутствует целиком, то именно мысль.
«Живя в Петербурге, мы отрицали Петербург. Живя в нации, мы отрицали нацию. По паспорту православные, мы глумились над верой и над попами. Мудрено ли, что, гонясь за народом, мы истребили свою народную государственную мысль?»
Я выбрал цитату почти что наудачу. Однако содержание ее характерно для всей книги. Лейтмотив Всев. Иванова, на протяжении трехсот страниц «Огней в тумане»: что имеем – не храним, потерявши – плачем. Из всей нашей истории за последние десятилетия он в состоянии сделать один только вывод: прежде все было лучше, чем теперь, следовательно, напрасно прежнее было разрушено; если бы злые люди не поусердствовали, все до сих пор стояло бы на своем месте… Всякий согласится, что к сверхобывательщине этих «дум» то, что даже с натяжкой можно было бы назвать разумом или рассудком, не имеет никакого отношения. Мысль ведь всегда производит какую-то работу. Здесь же дано ощущение в сыром виде.
Но ощущения эти встречают сейчас сочувствие, встречают отклики, – люди ленятся думать, и Всев. Иванов это знает. Он храбро идет «по линии наименьшего сопротивления». Долой всех, долой все! Нужны новые деятели, способные понять ошибку и грех прежних поколений. Где, однако, найти их? Автор горестно оглядывается вокруг:
– Нет сейчас усовершенствованных, в смысле национализма, Герценов, нет православных Писаревых, нет монархических Катковых и Аксаковых, нет церковных Добролюбовых, нет плачущих гражданскими слезами Некрасовых, нет поэтов крестьянства Столыпиных, нет поэтов фабрики Морозовых и Прохоровых. А главное – нет пророка стиля Достоевского.
Он призывает соотечественников: «Идеям Маркса и прочим глупостям и пошлостям противопоставьте свои идеи». Однако труд этот читатели должны проделать сами. Назвать Маркса дураком Иванов умеет, но на что-либо большее сил у него не хватает.
Книга составлена из статей, печатавшихся в дальневосточных газетах. «Стороннее» замечание: как устарела форма «фельетона», казавшаяся еще недавно столь новой… Короткий рассказ вначале, потом переход к делу, чем-то со вступительным рассказиком связанному, потом несколько «хлестких штрихов», короткие фразы, точки и какая-нибудь фиоритура в конце. Невозможно читать, невыносимо. Еще, пожалуй, об «отцах города», которые что–то там недосмотрели насчет освещения Дворянской улицы, так подходило писать. Но о России и судьбе ее – невозможно.
< «ХУДОЖНИК НЕИЗВЕСТЕН» В. КАВЕРИНА >
Это одна из тех пяти-шести, самое большое – десяти советских книг, которые за год, действительно, стоило прочесть. Повторю то, что мне уже не раз приходилось говорить: кто хочет знать, что в советской литературе делается, должен, разумеется, читать все приходящие к нам из Москвы книги, или, по крайней мере, все журналы… Однако труд этот, необходимый для того, чтобы быть «в курсе дела», по существу, оказывается в огромной своей части напрасным (притом, это именно труд, а никак не удовольствие). Книги выходят сейчас в России лживые, пустые или донельзя наивные. Конечно, кое-что в них, или, вернее, сквозь них, светится, – кое о чем догадываешься, перелистывая их. Но даже информацию они дают сбивчивую и жалкую. Того, на что способна подлинная литература, – глубокой и творческой переработки случайного, сырого жизненного материала и его обобщения – в них нет и помину. И лишь очень редко попадаются книги, которые оправдывают поиски и вознаграждают за потраченное время.
Именно потому что они все-таки попадаются, у нас есть основание утверждать, что литература в России жива. Десять книг в год. Если вдуматься, – это вовсе не так мало. В лучшие времена у нас выходило за год книг «настоящих», – т. е. таких, о которых можно было сказать, что их стоит прочесть, не многим больше. Если сейчас, даже в самое последнее время, при беспримерно-бдительном жестоком правительственном надзоре, еще появляются книги, где есть смысл, талант и авторская ответственность за каждое слово, это доказывает силу сопротивления литературы, неистощимость ее жизненной энергии. Литература подавлена, но не убита. И под грудами бездарных или безграмотных «ударнических» упражнений, под ворохами резолюций, постановлений и лозунгов, она еще дышит. Нет-нет, да и послышится рядом с казенными барабанами и трещотками ее голос.
В. Каверин, автор повести «Художник неизвестен», – писатель еще молодой, но уже довольно известный и опытный. Это – один из младших «Серапионовых братьев». В первое время, когда «серапионы» гремели и выступали, – печатно или устно, почти всегда совместно, – Каверин был как бы на вторых ролях. Казалось, это беллетрист поверхностный, увлеченный формалистикой, способный только на ухищрения и более или менее остроумные словесные фокусы. О Никитине, например, писателе старательном, но мало оригинальном и не особенно даровитом, спорили без конца. Много было толков о Зощенко, о Всеволоде Иванове, которые, по крайней мере, внимания оба заслуживали. Каверин же оставался в тени. Лишь в последние годы он стал выдвигаться, лишь в последнее время стало наконец ясно, что в его душе и сознании есть кроме формализма и кое-что другое. О повести «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове » у нас не так давно шла речь. После нее Каверин издал две книги: «Пролог» – нечто вроде записок обследователя «совхозов» и рассказы «Черновик человека». Обе были встречены советской критикой недоброжелательно, однако, без ярости. «Художник» же вызвал ярость… «Литературная газета» в особой редакционной статье выделила месяц тому назад три произведения, которым следует дать «беспощадный отпор» как «буржуазным вылазкам»: эти три произведения – «Охранная грамота» Пастернака, «Сумасшедший корабль» Форш и «Художник неизвестен» Каверина. Отпор уже и дается… Надо сказать, однако, что к Пастернаку в России сохраняется «пиетет», и тронуть его почти никто не решается. Пастернака побаиваются, имя его окружено ореолом какой-то необычайности, и Пастернаку сходит с рук то, что другим не прощается. Недавно сам поэт об этом говорил с недоумением:
– Я не понимаю, что здесь делается. Других освистывают, а когда я выступаю с такими же заявлениями, мне аплодируют… (Прения по докладу Асеева «О поэзии», 13 декабря пр. г.)
Поэтому об «Охранной грамоте» пишут сравнительно уклончиво. Конечно, «буржуазно», конечно, «индивидуалистично», но… тут каждый критик находит свое «но», для смягчения обстоятельств в преступлениях Пастернака. С Ольгой Форш и, тем более, с Кавериным не стесняются. Ближайший товарищ Каверина, Никитина, писала на днях, что «Каверину надо в лоб указать его ошибки». А перепуганная редакция журнала «Звезда», напечатавшая каверинского «Художника» до того, как он вышел отдельной книгой, объявляет даже, что в ближайшее время она в порядке самокритики даст объяснение, как, почему и отчего с нею такой грех случился.
Не знаю, каковы будут объяснения «Звезды» Похоже на то, что редакция понадеялась на внешнюю, фабульную сложность повести Каверина. «Не поймут!» – как бы решила она, думая о цензуре. Там, «в сферах», вероятно, и на самом деле не все поняли, но обостренным ухом почувствовали неполную благонамеренность и забили тревогу.
При первом чтении «Художник неизвестен» кажется вещью крайне причудливой и неясной. Ум, дарование и умение автора чувствуются сразу, но раздражает «литературщина» в повести: умышленная путаница в изложении, щеголяние недоговоренностью, остатки фокусничанья вообще… Но повесть заинтересовывает, и ее перечитываешь. Тогда обнаруживается стройность замысла, и все в «Художнике» становится внутренне-оправданным, – все до малейших деталей. Это не только интересная и местами даже глубокая книга, это редкая литературная удача, т. е. произведение, где, по Чехову, «каждое ружье стреляет». Приемы автора могут не нравиться, но они достигают цели, они убедительны, так как подчинены единой логике всей вещи… Может быть, найдутся читатели, которым все это покажется очевидным сразу… Не знаю. Я рассказываю только о своих впечатлениях и откровенно признаюсь, что мне ценность и прелесть «Художника» открылась вполне лишь при вторичном чтении.
Два человека живут, действуют и размышляют в повести: Архимедов и Шпекторов… С первой же главы «Художника» начинается их диалог, тянущийся, с отступлениями и вариантами, через всю вещь, – тот напряженный, страстный, единственный диалог, который ведет, в сущности, вся советская литература, у разных авторов, поскольку они находятся на известном идейном уровне. «Как будем жить?» – будто спрашивается в этом бесконечно-длящемся, единственном разговоре. Коммунизм, личность, общество, свобода, творчество, труд… как все это примирить? Архимедов – мечтатель, сумасброд, «идеалист». Шпекторов – практик. Архимедов думает о морали. Мораль отстала от техники. «Личное достоинство должно быть существенным компонентом социализма».
У Шпекторова заботы иные.
– Мораль? У меня нет времени, чтобы задуматься над этим словом. Я занят. Я строю социализм. Но если бы мне пришлось выбирать между моралью и штанами, я выбрал бы штаны.
У Архимедова есть семья: жена, ребенок… Ребенок, впрочем, может быть, и не его, но Архимедов об этом и не догадывается. Жена Архимедова, Эсфирь, любит Шпекторова, но уйти от мужа не хочет, жалея его и чувствуя вину перед ним. Ребенок назван Фердинандом – в честь Лассаля, которого Архимедов чтит, как своего учителя. В тот же вечер, когда начинается диалог о морали, полусумасшедший Архимедов уносит ребенка из дома… «Потому что это единственное, что еще можно исправить». Он уносит своего сына от «лицемерия, бесчестия, подлости и скуки». Ночь. На Невском, под Думой, со спящим ребенком на руках, чудак разговаривает сам с собою, обращаясь к памятнику Лассаля:
– Распорядитель людей, погибший от случайной пули, ветер дует тебе в глаза во время наших наводнений. Осенью на тебя падает дождь. Зимой на твоем лице проступает иней. Ты видишь скольжение и смену людей, и история ночует рядом с твоим пьедесталом. Скажи мне, кто из нас прав? За кого ты голосуешь, учитель?
Лассаль молчит. (Любопытная мелочь. Один из главных упреков советской критики Каверину: отчего герой его ищет ответа на свои сомнения у Лассаля, а не у Маркса? В памятниках Марксу недостатка, ведь, нет.) Но жизнь, по-видимому, голосует за Шпекторова. Шпекторов побеждает. Архимедов уходит в свои мечты или свой бред. Эсфирь, жена его, кончает самоубийством, выбросившись из окна. Архимедов тщетно ищет «морали» в окружающем его бездушном, лицемерном мире.
Есть у Архимедова область, в которой никто и ничто не угнетает его, – искусство. Он – художник, тайный, непризнанный. Здесь, в искусстве, царит свобода, здесь человек не подчиняется «ни законам, ни запрещениям». В повести Каверина говорится об искусстве и природе его очень много. Многое из сказанного интересно. Но остается, все-таки, впечатление, что «выход в искусство» был для автора выходом вынужденным, ибо только здесь, в этой сравнительно нейтральной сфере он мог предоставить своему Архимедову, а заодно и себе, свободу. Вольнолюбивые порывы Архимедова суживаются в своем значении из-за того, что он обращает их к живописи, а не к жизни, но иначе в советской книге быть не может. Это слишком понятно, чтобы требовать какие-либо объяснения. Понятно и то, что Архимедов представлен человеком, у которого «не все дома». Автор не мог бы поручить лицу здравомыслящему и положительному сказать все то, что он сказать хочет.
Эсфирь выбросилась из окна. Мысль о том, чтобы «перестроить мир», Архимедову не удалась. Веселый и трезвый Шпекторов растолковывает ему:
– Есть один только выбор – выиграть или проиграть… Или запишись на бирже труда, ты ведь когда-то служил в аптеке. Пользуйся выходными днями, учись рисовать. Может быть, придет время, когда мы позовем тебя раскрашивать наши знамена.
Кстати, Шпекторов отбирает у Архимедова сына. Ребенку будет лучше у него. Лучше «и со стороны семейно-бытовых условий, и в отношении социальной среды». Архимедов покорно на все и со всем соглашается. Последняя глава занимает полстранички. Эпиграф из Хлебникова:
– Это сквозь живопись прошла буря. «Она лежит, сломав руки, полная теней… Час сумеречный. Снег синий, голубой, белый».
Описывается картина. Изображена на полотне мертвая Эсфирь, конечно.
«Это могло удаться лишь тому, кто со своей свободой гениального дарования перешагнул через осторожность и нечестность современной живописи, которая так отдалилась от людей… Нужно было разбиться насмерть, чтобы написать эту вещь.
Цвета такие-то. Фигуры такие-то. Картон. Масло: 80x120. Художник неизвестен».
Нужно было разбиться насмерть, чтобы написать эту вещь. Разбилась Эсфирь. Но фраза-то ведь относится к Архимедову. Значит, как-то победу он, все-таки, одержал! Значит, победа Шпекторова не так уже полна и прочна! Значит… впрочем, всего не скажешь. Каверин коснулся старой, великой темы о «мнимом неудачнике», темы, которая всю жизнь волновала и мучила Ибсена, например, – до его «Эпилога» включительно. Неудивительно, что эта тревожная тема в ее современном «оформлении», с отзвуками на современность вообще, пришлась в России не ко двору.
Пересказ не может дать понятия о вещи. Пересказ всегда схематичен, ибо разлагает живое создание на фабулу, замысел, стиль и другие элементы. «Художник неизвестен» хорош тем, что в нем все слито и сплетено, в нем нет отдельно слова и отдельно идеи, а одно стало другим, как бывает у подлинных писателей.
Два слова в заключение. В советской печати скажут, может быть, что «Художник неизвестен» нам нравится из-за своей «буржуазности», и будут, пожалуй, этим Каверина попрекать. Какой вздор! Кто этому поверит! Хвалить a priori то, что в Москве бранят, у нас нет ни желания, ни основания. Книге Каверина мы радуемся, как всякой русской книге, – если она умна, жива и талантлива. А бывает это не так часто.








