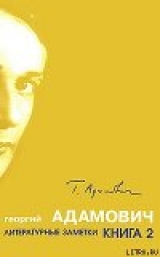
Текст книги "Литературные заметки. Книга 2 ("Последние новости": 1932-1933)"
Автор книги: Георгий Адамович
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ». Книга. 50-я. Часть литературная
Юбилей «Современных записок» – большое событие в нашей здешней жизни. Не обычное, рядовое «редакционное торжество» отмечаем мы в эти дни, а общий наш и редкий культурный праздник. Нельзя, конечно, радоваться тому, что мы за границей так засиделись и что выпуск пятидесяти книжек журнала оказался возможным, но надо радоваться, что хватило на такое дело у эмиграции духовной энергии и жизненной силы.
П.Н. Милюков в особой статье уже приветствовал редакцию журнала. Не могу все-таки начать отчет о юбилейной книжке «Современных записок» так, как обычно, – т.е. прямо с разбора помещенных в номере литературных произведений. Еще на днях, в частной беседе, один известный русский писатель говорил:
– В сущности, это лучший журнал из всех, какие у нас были. Даже и в России.
Есть, может быть, в этих словах преувеличение. Но очень небольшое. В том, что «Современные записки», во всяком случае, один из двух-трех лучших журналов, какие были в России, – сомневаться невозможно. Для эмиграции же эти пятьдесят книг, при всей спорности многих отдельных вещей, в них помещенных, – подлинный «патент на благородство».
В юбилейном номере редакция пожелала, по-видимому, продемонстрировать свою заботу о «литературной смене» и уделила молодым писателям больше места и больше внимания, чем обычно. Академизм «Современных записок», впрочем, давно уже начал сдавать свои позиции. Первоначально журнал стоял на охранительной, так сказать, точке зрения: он не осуждал «исканий», но и не интересовался ими; не отрицал таланта у молодежи, но на свои страницы допускал исключительно писателей с более или менее громкими именами. Именно в том, что называется «хранением заветов», редакция видела свою задачу. Но шли годы – и мало-помалу стало выясняться, что «заветы» – не консервы, которые можно хранить сколько угодно, лишь бы только не подвергать их действию свежего воздуха. Появилась опасность отрыва от жизни ради холодноватого музейного благолепия. К чести руководителей «Современных записок» надо сказать, что они это вовремя почувствовали и проявили достаточно гибкости в маневрировании. Сейчас в журнале существует принцип преемственности: от Куприна, Ремизова или Алданова мы беспрепятственно переходим к Сирину, Газданову или Берберовой. «Современные записки» не только поддерживают прошлое и настоящее, но и думают о будущем. Ощупью они идут к нему, допуская неизбежные ошибки, колеблясь в симпатиях и в выборе, теряя в пресловутой своей «солидности», но зато выигрывая в живости… Неизвестно, кто, действительно, будет литературным наследником былых «заветов», но это сейчас и не существенно. Гадать не к чему. Важно другое: сознание, что кто-то принять и продолжить эти «заветы» должен. Словесность продолжается, потому что не умерла культура.
Книга открывается первыми главами нового романа Алданова «Пещера». Это, как говорится, подарок читателям к юбилею: давно уже многие спрашивали, будут ли продолжены «Бегство» и «Ключ», давно ждали рассказа о том, что стало с Кременецким, с Брауном, с Нещеретовым и всеми вообще героями правдивой и увлекательной алдановской хроники. Мы успели с ними настолько уже свыкнуться, что невольно искали их вокруг себя здесь, где-нибудь совсем близко, в том или ином эмигрантском центре… Лучший комплимент писателю трудно сделать: его образы, значит, безошибочно верно были угаданы и очерчены, если обрели плоть и кровь. Можно сказать даже еще определеннее: мы подружились на страницах «Ключа» и «Бегства» с семьей этого петербургского адвоката, такой жалкой, слабой и человечной; как о друзьях смутно тревожились: где Кременецкие теперь? Муся в Париже. Старики Кременецкие в Берлине. Семен Исидорович хворает, обеднел и нервничает. Он перевел в немецкие деньги главную часть своих сбережений, утверждая, что «Германия все-таки есть Германия, а марка есть марка». Афоризм оказался не из удачных, к тревожному изумлению Тамары Матвеевны, твердо верящей в гениальную проницательность мужа: марка подвела. Впрочем, Кременецкий духом не падает. «Папа говорит, – сообщает дочери Тамара Матвеевна, – что Россия должна скоро возродиться и что мы скоро опять будем в Питере, я сама так думаю, и чего бы только я ни дала, чтобы опять жить, как прежде, до всех этих несчастий». Алданов как будто нарочно оставляет своим героям все их иллюзии – не только насчет Питера и «прежней жизни», но и другие, чтобы тем печальнее казалось все повествование, озаренное горькой и холодной мудростью Брауна.
«Жанете» Куприна дан подзаголовок – роман. Между тем, напечатано всего тридцать страниц текста, а в следующем номере уже обещано окончание. Роман будет, по-видимому, чрезвычайно короткий. Куприн рассказывает о русском чудаке-профессоре, живущем в убогой парижской мансарде. Жанета – маленькая девочка, которую профессор встречает на улице: она входит в действие лишь в самом конце напечатанного отрывка. Любопытство возбуждено, но надо запастись терпением на три месяца. Пока можно только сказать, что парижское житье-бытье ученого русского энтузиаста описано Куприным с обычным для него легким и уверенным мастерством.
Ремизов дал отрывок из какого-то нового, большого и сложного своего произведения. Говорю «какого-то», ибо название этой большой вещи еще неизвестно, имена же героев повторяются уже давно в разных ремизовских рассказах… Очевидно, эти рассказы должны быть все объединены. Отрывок, напечатанный в «Современных записках», озаглавлен «Кран гиппопотама». Фабула его незначительна. Но замечателен тон, для Ремизова крайне характерный и с каждым годом все сильнее обостряющийся: витиеватый и гневный, уклончивый и суровый, лукавый и грозный, полный всевозможных «sous entendus», то вздымающийся к небу, как молитва, то сбивающийся на мелкий анекдот… Можно любить или не любить Ремизова, но нельзя отрицать того, что это один из искуснейших и своеобразнейших наших писателей. Правда, нет у него самого высокого – и самого трудного – творческого свойства: прямоты. Пафос Ремизова чуть-чуть слишком хитрый, чуть-чуть порочный и робкий в основе своей. Ремизов никогда не говорит того, что хочет сказать, он только ходит вокруг да около, намекает, посмеивается, отнекивается, шепчет… Но на эти странные словесные узоры и сплетения он подлинный волшебник.
Роман Сирина «Камера обскура» по-прежнему занимателен, ловко скроен и поверхностно-блестящ. При такой плодовитости, какую проявляет молодой автор, трудно, конечно, ждать все новых шедевров… Однако «Защита Лужина» возбудила все-таки к Сирину настолько большое доверие, что каждая новая его вещь встречается с исключительным интересом. «Подвиг» надежд не обманул. Наоборот, он их упрочил. К сожалению, нельзя, кажется, будет сказать того же и о «Камере». Роман внешне удачен, это бесспорно. Но он пуст. Это превосходный кинематограф, но слабоватая литература.
О «Повелительнице» Берберовой не скажу ничего. Роман только что вышел отдельной книгой и заслуживает особого разбора.
Очень интересен – или, точнее, «любопытен» – небольшой рассказ Газданова. Это законченный образец новейшей эмигрантской беллетристики, со множеством влияний, умело переработанных, и каким-то врожденным даром попасть в самый корень современных вкусов и мод. Много психологии, мало действия, длинные, запутанные фразы, запятые и точки с запятой вместо бедных, безнадежно устарелых точек.
Рассказ несколько надуман и подчеркнуто «тонок», но все же бесспорно талантлив. Прелестен любовно-фантастический эпизод, в него вплетенный. Плохо только то, что через несколько часов по прочтении почти невозможно вспомнить, о чем же в «Третьей жизни» говорится. Замысел рассеивается, как мираж.
Поэтический отдел богат, как давно не был. Это, вероятно, тоже результат юбилейных настроений, обыкновенно в «Современных записках» поэзию не очень жалуют. На этот раз редакции пришлось даже отказаться от обычного местничества и расположить стихотворцев не по старшинству, а по алфавиту. Мне очень понравились стихи Оцупа, – в особенности, третье стихотворение, простое, сдержанное и на редкость чистое. Стихи Ходасевича, как всегда, изощренно-искусны и ироничны. Не думаю, однако, чтобы «Я» принадлежало к лучшим его созданиям. Не лучшие свои стихи дал и Георгий Иванов (у него очень хороша только «метафизическая грязь» в последнем стихотворении: зато первое – довольно вяло). Ладинский красноречив и патетичен. Поплавский певуч и задумчив. Есть настоящее чувство у Раевского – в стихотворении, отдаленно напоминающем тютчевское «Пошли, Господи, свою отраду». Декоративен Голенищев-Кутузов. Наконец, Марина Цветаева, как водится, уверяет, что она «одна из всех – за всех – противу всех», но что когда-нибудь это досадное положение изменится. Стихотворение, впрочем, отличное и, наверное, многим понравится: даровитая поэтесса несколько преувеличивает свое одиночество.
Цветаевой же принадлежит статья на тему об «Искусстве при свете совести». Тема острая и глубокая. О таком авторе, как Цветаева, нельзя сказать, что она с задачей справилась или удачно тему «разработала». Держится она в своих высказываниях так надменно-капризно и пишет с такой прихотливой артистичностью, что, применив к ней обыкновенное слово, сразу чувствуешь себя каким-то несчастным канцелярским чиновником. Цитирует она то Тютчева, то Верлена (с ошибкой, конечно, в обоих случаях), «отвечает» за Гете, устанавливает прямую связь между собой и Пушкиным, говорит только с теми, «для кого Бог-грех-святость – есть»… Все это у нее, однако, выходит интересно и оригинально, потому что Цветаева умный и талантливый человек, с подлинным «полетом» в мыслях… Она не ломается, она всегда говорит искренне, в ее словах есть огонь. Но женщина и декадентка в ней не преодолены.
Б. Вышеславцев обнародовал отрывок из записной книжки Достоевского. Запись эта представляет собой стройное и связное рассуждение о бессмертии. Сделана она 16 апреля 1864 года, сразу после кончины первой жены Достоевского. Вышеславцев полагает, – правда, не утверждая этого категорически, – что отрывок появляется в печати впервые. Если меня не обманывает память, он был помещен сравнительно недавно в каком-то советском издании. Но это, конечно, не должно было быть для «Современных записок» препятствием к опубликованию здесь, в эмиграции, документа такой важности. Не буду в короткой заметке полемизировать с Вышеславцевым насчет оценки этой записи. Но скажу все-таки, что, по крайнему моему разумению, ценность этих предельно-рассудочных строк – почти исключительно психологическая. Интересно, что Достоевский мог это писать, и так писать над гробом близкого человека; гораздо менее интересно то, что он записал, само по себе… Но тут я вступаю в полемику и с С.Гессеном, который в библиографическом отделе, рецензируя английскую книгу о Достоевском, разделяет, как будто бы, и даже поддерживает взгляд Вышеславцева. Поражает в размышлении Достоевского тщета доводов. Логика, действительно, «железная» – Вышеславцев прав. Но власть силлогизмов ограничена и, несмотря на их кажущуюся безошибочность, у нас ни на йоту – абсолютно ни на йоту – не прибавляется знания о тех «последних вещах», о которых Достоевский так отчетливо рассуждает. Все по-прежнему темно и неразрешимо: свет был призрачный.
Замечательны – как всегда – «Воспоминания» А.Л. Толстой. Читать их местами тяжело, так много в них суровой правды. Но уж кто хочет вникнуть в семейную драму Толстого и понять ее, тот пусть записки Александры Львовны прочтет: никто еще о Ясной Поляне проницательнее и ярче ее не рассказывал.
<«ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА» Н. БЕРБЕРОВОЙ. –
«ВРЕМЯ,ВПЕРЕД!» В. КАТАЕВА>
Сразу скажу: это одна из тех книг, которые должны были бы рассеять сомнения в силах и жизнеспособности нашей молодой эмигрантской литературы. Я только что прочел ее. По «горячим следам» мне о многом хотелось бы с автором поспорить. Но книга, действительно, существует. От нее отталкиваешься или к ней влечешься, как к подлинно живому миру. В ней есть свой ритм, свой внутренний стиль. Это не призрак: выдуманная фабула отвечает всему авторскому душевному опыту, вместе с ним образуя «содержание», а не развивается самостоятельно, по капризу ничем не управляемой фантазии.
Книга, о которой я говорю, – «Повелительница» Н. Берберовой. Роман печатался отрывками в «Современных записках», но по отдельным главам трудно было догадаться об его стройной сжатой законченности. Да и все, что Берберова писала до сих пор, было если и немного слабее, то, во всяком случае, гораздо «сырее», чем эта вещь. «Повелительница» удивляет и радует.
Творческий облик Берберовой был долгое время неясен. Заметно было с первых же ее рассказов сильнейшее, подавляющее влияние Достоевского. Вместе с тем чувствовалось и тяготение к быту, к так называемым «широким бытовым полотнам», в которых давала себе волю природная авторская склонность описывать, рассказывать и просто так, для собственного бесцельного удовольствия, изображать различные человеческие типы. Трудно было предвидеть, что из всего этого получится… Но с «Повелительницей» неясность исчезает. Здесь все взвешено, и напряженное, внутренне-стремительное, будто летящее действие развивается, никуда не отклоняясь и без перебоев. Остались еще первоначальные склонности, – но они вернее направлены, сильны еще прежние влияния, – но они переработаны. Тень Достоевского еще лежит на «Повелительнице». Но уже нет в романе фраз и диалогов, как бы заимствованных из «Идиота»: есть близость в образах, но исчезло подражание манере… Берберова обострила свой вкус, почувствовала потребность найти свое «лицо», – и нашла его. Вероятно, она усердно читала новых французских прозаиков, которыми увлекается большинство наших молодых беллетристов: от них у нее пристальный, кропотливый психологизм. Кое-чем пленил ее, кажется, и Шнитцлер: изысканно-печальным тоном, романтическим ощущением любви и умением из всякого любовного рассказа сделать какой-то водоворот, неудержимо затягивающий человека. При всем том Берберова осталась типично-русской писательницей, взявшей у иностранцев лишь то, что могло ей быть пригодно. Учиться у них ей было не опасно, потому что живой творческий дар должен был удержать ее от простого копирования.
Есть одна только черта в «Повелительнице» не совсем обычная для русского романа, в особенности современного: несколько «салонная» замкнутость атмосферы… Я думаю, если бы книга Берберовой попала в советскую Россию, ее оценили бы там как произведение сугубо буржуазное, и – надо сознаться – не без оснований. Говорится в «Повелительнице» о любви, чувстве, казалось бы, общечеловеческом. Но есть любовь и любовь: та, которая описана у Берберовой, с ее обманчивой простотой, с ее литературными тонкостями и причудами, знакома или, вернее, доступна лишь душам, чуть-чуть слишком праздным, чуть-чуть слишком избалованным жизнью. Это не упрек писательнице. Каждому свое. Можно и из такого материала создать великую и глубокую поэзию – как сделал это Пруст. Но остается впечатление, что Берберовой в ее романе самой как будто душно, что атмосфера его навязана ей извне, что рано или поздно она сама захочет подышать иным воздухом, посвежее, посвободнее, почище.
Очень мало действующих лиц. Русский Париж. Два героя: студент Саша и богатая, слегка скучающая барышня Лена Шиловская. Приятель Саши, Андрей, влюблен в младшую сестру Лены, собирается на ней жениться и как-то вечером ведет Сашу к Шиловскому в дом. Саша уже раз видел Лену на улице, едва заметил ее, но воображение его все же задето ею. Вечер проходит в незначительных пустых разговорах. Однако неизбежность каких-то событий чувствуется… Через несколько дней Лена встречает Сашу, выходя из кассы театра. Он – бедно одет, бежит из библиотеки домой, в свой грошовый отельчик; Лена – нарядная, пахнущая пряными духами, в своем автомобиле. Она приглашает Сашу обедать в дорогой ресторан, не отпускает его от себя, признается ему:
– Вы мне нравитесь!
Саша польщен и счастлив. В следующую встречу Лена проводит с ним ночь. Саша не очень сильно влюблен, но ему необычайно льстит внимание гордой, независимой, слегка «загадочной» женщины. Он хотел бы, чтобы об этой связи знал весь мир. Умная Лена догадывается об его истинных чувствах и уходит от него.
Тогда Сашей овладевает отчаяние. Оскорбленное самолюбие, исчезнувшие надежды, внезапность обиды, неисправимость положения – все это вынести ему не по силам… Он покидает брата, опускается, тоскует, он на краю гибели. Из отчаяния рождается любовь, на этот раз настоящая, неутолимая. Психологически это очень верно, и написаны эти главы с каким-то лихорадочным, страстным вдохновением (иногда напоминающим конец «Митиной любви»). Но в заключении романа Берберова, мне кажется, допустила ошибку: по всей логике замысла, по всей «музыке» его она вела своего Сашу к смерти – и должна была его к ней привести. Ну, конечно, это было бы «банально», что и говорить. Но бояться банальностей и общих мест – нет оснований. После трех тысяч лет культуры и словесности банальны все положения, кроме вычурных: однако художник властен каждое по-новому оживить, в этом-то ведь и состоит искусство. Саша с Леной примиряются. Конец, на первый взгляд, законный. Но его внутренняя шаткость ясна хотя бы из того, что читатель совершенно не может представить себе, как будут эти счастливые и столь чуждые друг другу любовники жить дальше. Смерть поставила бы точку в повести, которой нет продолжения.
Конечно, это спорно – и свои соображения я высказываю лишь в «дискуссионном порядке». Книга увлекает, к ней трудно отнестись с привычным критическим беспристрастием. Ее горькая, терпкая прелесть надолго останется во взволнованной памяти.
* * *
Одна небольшая повесть – «Растратчики» – дала Вал. Катаеву имя.
После «Растратчиков», имевших, кажется, всюду успех, Катаев сразу занял видное место среди советских писателей. На внимание он, бесспорно, имеет право: немногие из современных беллетристов – не только советских, но и вообще всех пишущих на русском языке, – владеют такой интуицией, как он, таким «нюхом» к жизни, таким острым ее ощущением. В России – Алексей Толстой, больше, пожалуй, никто. Как и Толстой, Катаев – писатель менее всего «интеллектуальный», и там, где без помощи разума обойтись невозможно, он довольно слаб. Но в тех областях, где не столько надо понимать, сколько чувствовать, Катаев достигает правдивости почти безошибочной.
Конечно, с Ал. Толстым сравнивать его еще рано: он не соперник Толстого, он его ученик (как сам Толстой – ученик Бунина). Но ученик способнейший.
Его новое произведение, хроника «Время, вперед!» – вещь по-своему замечательная. В своем роде это – фокус. Написана эта хроника на тему о… бетоне. Бетон – главный герой ее. Читателю предлагается следить не за перипетиями какой-нибудь любовной или идейной драмы, а только за тем, успеет ли на далеком «строительстве» заграничная бетономешалка выпустить рекордное количество бетона в час или не успеет. В Харькове было сделано за рабочую смену триста шесть «замесов». В Кузнецке рекорд этот немедленно был побит. Энтузиазм, ясное дело. Теория утверждает, что норму превышать не следует, что это опасно и непрактично, но теорию создавала гниющая буржуазия – для «наших ребят» она не указ. «Темпочки, темпочки!» – как восклицает один из катаевских персонажей: надо побить и Харьков, и Кузнецк. Четыреста пятьдесят замесов в смену! (читатель, может быть, не знает, что такое «замес», – но это и неважно). Мировой рекорд! Однако на последней странице хроники сообщается, что в Челябинске сделано пятьсот четыре «замеса»… Нет пределов достижениям. Соцсоревнование творит чудеса. Рекорды ставятся и падают ежеминутно. Инженеры-американцы изумленно глядят на советские строительные подвиги. Ребята, охваченные восторгом, тысячами записываются в комсомол. Кризис на Западе разрастается, банки, где американцы держат деньги, терпят крах. Капиталисты со страхом взирают на страну советов. Автор полон счастья и гордости. Время летит вперед.
Все это давно известно по бесчисленному количеству других « производственных » романов и повестей. Внутренняя ценность катаевской хроники ничтожна. Но автор «Время, вперед!» сделал все, что, кажется, возможно было сделать в пределах человеческих сил, чтобы повествование свое оживить. Стоит только сравнить эту хронику с такой благонамеренно-тягучей мертвечиной, как «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян, чтобы удачу Катаева оценить. Это, конечно, не литература, – точнее, не творчество: это исполнение постороннего, данного свыше, задания. Автор не свободен: он следует агитационным обязательным предписаниям. Но так заразительна и так свежа сила, живущая в нем, что в конце концов, ему удается вызвать нетерпеливый интерес даже к бетону. Читаешь – и ловишь себя на беспокойной мысли, что же, побьют рекорд или не побьют?
«Время, вперед!» не вплетет, как говорится, новых лавров в венок Катаева. Но и не разубедит в его писательском призвании. Конечно, писателю нужна не только бойкость пера, но и совесть. Конечно, писатель не должен и не может уступать кому-либо права на замысел, оставляя себе лишь функцию исполнения. Но эту горестную оговорку приходится делать при разборе чуть ли не всех советских книг, талантливых и бездарных, все равно. Вопрос, в ней заключенный, тяжел и сложен… В основе своей он выходит за пределы литературы и относится ко всей современной России, променявшей личную ответственность каждого на общее послушание. Несправедливо было бы по случайному поводу обвинять одного Катаева в том, в чем повинны подчас все, – тем более что Катаев свою ошибку рано или поздно, надо думать, поймет.
Интересно, что «Время, вперед!» – не знаю, помимо воли автора или по его тайному желанию – дает пресловутому «соцсоревнованию» несколько иное внутреннее толкование и освещение, чем обычно принято. По Катаеву, дело не столько в неудержимом «социалистическом пафосе», дело в жестокой борьбе самолюбий, в прислужничестве, в карьеризме. Даже и мальчик-десятник Мося, весь, казалось бы, охваченный бескорыстным восторгом, даже и он просит, чтобы в телеграмме, сообщающей о победе, было указано его имя: «десятник Вайнштейн». Социализм социализмом, а о себе тоже забывать не годится. Новый человек, рожденный в небывало прекрасных и обновленных советских условиях, что-то подозрительно походит на нашего давнего знакомца – человека старого.








