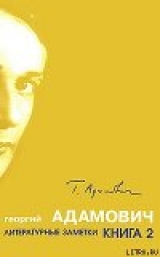
Текст книги "Литературные заметки. Книга 2 ("Последние новости": 1932-1933)"
Автор книги: Георгий Адамович
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ». КНИГА. 49-я. Часть литературная
Беллетристический отдел новой книжки «Современных записок» составлен не совсем обычно: ни одного громкого, заслуженного, общепризнанного «довоенного» имени, если не считать Шаляпина, который, впрочем, не литературе обязан своей славой. Четыре писателя: Сирин, Берберова, Георгий Песков и Газданов. Трое из них – «дети эмиграции». Берберова, если не ошибаюсь, напечатала несколько стихотворений еще в советской России, но только здесь развилась и достигла решительных успехов, так что и ее можно отнести к той же группе… По-видимому, редакция «Современных записок» озабочена сейчас созданием так называемой литературной смены. Ее давно уже упрекают в стремлении только охранять и беречь старое в отсутствии забот о будущем. Редакция уступила, изменила свою линию и, продолжая высокое и нужное дело «охраны старого» – в чем, несомненно, главное назначение такого журнала, как «Современные записки», – ищет те молодые дарования и силы, с которыми можно было бы связать наибольшие надежды. Выбор ее не плох. Конечно, при более остром внимании к здешней молодой литературе и большой смелости в оценке ее внутренних достоинств, – вне связи с той формальной традицией, которую в здешних условиях не так-то легко поддерживать, – список можно было пополнить. Но не будем чрезмерно требовательными. Надо благодарить и за то, что сделано.
В. Сирин принадлежит к явным любимцам журнала. Из номера в номер печатаются в «Современных записках» его произведения, – всегда талантливые, всегда своеобразные, интересные и легкие. Плодовитость этого беллетриста удивительна: он пишет роман за романом, и в сравнительно короткий срок выпустил 5 или 6 книг. При свойствах и особенностях сиринского дара, это – черта довольно опасная. Склонность к «скольжению», увлечение внешней стороной фабулы неизменно были и прежде заметны в романах Сирина, – и, на мой взгляд, делали их менее значительными, чем они по замыслу могли бы стать. Многописание и многопечатание может привести к усилению поверхностного блеска за счет иных качеств… Было бы неосторожно и, во всяком случае, преждевременно утверждать, что это и произошло в «Camera obscura», новом романе Сирина. Вероятно, лишь случайно это произведение, – насколько можно судить о нем по первым главам, – оказалось более авантюрно и кинематографично, чем «Подвиг» или «Защита Лужина»: трудно предположить, чтобы в занимательном и бойком рассказе о всякого рода курьезных происшествиях Сирин видел свой истинный «путь». «Camera obscura» – забава мастера, отдых, игра. Игра увлекательная… Кто читает книги только для того, чтобы узнать, «что случится дальше», кто вообще требует от повествования быстрой, ловкой и неожиданной смены фактов, будет романом вполне удовлетворен. Можно, конечно, искать в чтении и чего-то совсем иного… Тогда лучше «Камеру» вовсе не раскрывать. А уж если раскроет такой читатель роман Сирина, то обратит он в нем внимание не на «интригу», а на отдельные, как бы мимолетные, случайные описания и образы, полные прелести, точности и силы. Обратит внимание и пожалеет, что все это тратится, в сущности, попусту, без следа и цели, – как фейерверк.
О «Повелительнице» Н. Берберовой тоже нельзя высказаться отчетливо и решительно по той простой причине, что роман этот только начат. Первые главы его – едва ли не лучшее, что нам до сих пор приходилось за подписью Берберовой читать. В них меньше сырой «достоевщины», в них больше внутренней стройности и внутренней скромности. В них есть, наконец, та суровая логика в развитии фабулы, которая, действительно, внушена жизнью и поэтому отвергает всякую постороннюю выдумку, хотя бы и внешне эффектную. Берберова с трудом пробивается к свету, еще смутно и тускло брезжущему в ее писаниях, – как трудно живут, трудно думают, говорят, любят и умирают ее герои. Ей еще мешает толща обычных слов, приемов, готовых положений и фраз, она еще бредет ощупью. Но свет перед ней подлинный, и она идет именно к нему… Я употребляю здесь выражение «свет» вовсе не в каком-либо метафизически мистическом смысле, а как одно из условных, общепонятных обозначений того творческого налета, который дает писателю возможность увидеть за своим личным уголком весь мир и связать свое, личное со всеобщим. Выход в открытое море, одним словом, – или, по-старинному, нахождение «своей правды». Берберова, вероятно, ее найдет. Она отличается от большинства здешних молодых беллетристов еще и тем, что упорно продолжает писать о русских людях. Это характерно и для общих настроений ее, и для ее беллетристического чутья. Кто спорит? Одну-две-три повести можно по-русски написать и о шведах, и о японцах, и, если угодно, даже о папуасах. Но наивно и нелепо думать, что раз навсегда, безболезненно и беспрепятственно можно перейти к русской разработке французских или немецких жизненных тем: будто язык дан народу свыше, а не создан им самим, в соответствии его духовному укладу и быту, будто русский язык не проник во все особенности нашей жизни, как в щели, как в складки, не заполнил их, но облек, – и будто все-таки при всем своем богатстве не кажется он груб и беспомощен перед лицом жизни чужеземной, с ее особенностями, на которых создался, на которые ответил ее язык! Здесь вопрос касается как бы платья, готового или сшитого по мерке, на заказ: та же возможность, те же пределы в этих возможностях. Если развить положение до конца, абсурдность его станет внешне ясна: никому не придет в голову писать роман на эсперанто – на языке вообще пригодном только для нигде не существующего «человека вообще».
Г. Газданов пишет о французах. Это очень способный беллетрист, по блеску и какой-то постоянно удачливости письма стоящий рядом с Сириным или непосредственно после него. Его рассказ «Счастье» местами очарователен. Но… налет «эсперантизма» все-таки чувствуется. Андрэ Дерэн, его отец, Мадлен – все они чуть-чуть тронуты той схематичностью, которую никаким искусством скрыть нельзя. Характерно, между прочим, что в диалог Газданов то и дело вводит французские фразы. Зачем? – казалось бы. Ведь его герои французы, они только по-французски и говорят, следовательно, все их беседы даны, как переведенные. Это ведь не то что салонный разговор наших соотечественников, по привычке пересыпающих свою речь французскими словами! Зачем Газданов пишет:
– Я не имею удовольствия вас знать, молодой человек.
– Alles vous en, – тихо сказал он.
Это ничем не оправдано. Надо было бы написать в русском рассказе: «уходите» или «убирайтесь вон».
Но дело, по-видимому, в том, что автор ощущает «приблизительность» своей передачи, бессознательно воспринимает ее как фальшь и кое-где, большею частью даже невпопад, старается эту легчайшую, тончайшую, но неустранимую фальшь исправить и вернуть Дерэна с Мадлен той стихии, откуда они вышли.
Мне показался слегка надуманным в рассказе Газданова его конец. Жизнерадостный французский делец теряет зрение и в слепоте находит новое, облегченное и чистое счастье. Мысль сама по себе глубокая и даже такая, которую можно причислить к «вечным». Но в разных видах и вариантах она была столько раз высказана, что уже не оценивается нами как мысль: обновить ее можно, только пережив, прочувствовав, проведя сквозь свой духовный опыт. Иначе это нестерпимая банальщина. У Газданова в «Счастье» следов личного опыта не заметно. «Стиль – это человек», а стиль Газданова – как и стиль Сирина – крайне далек от всяких перебоев, отражающих какие-либо внутренние катастрофы или преображения.
…Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар!
– писал когда-то Блок об этом. Газданов спокойно рассказывает о спокойных людях. Поэтому идея его «Счастья» похожа скорее на умышленную «тенденцию», чем истинную основу замысла.
Мне уже приходилось говорить о «Злой вечности» Георгия Пескова. Заключительная часть этой полуфантастической повести производит то же впечатление, что и первые главы. Вещь его интересная, страстная, витающая вокруг подлинно серьезных вопросов и тем – и, несмотря на некоторую аляповатость в их разрешении, нисколько не оскорбительная. Вещь в целом, конечно, неудачная, проигранная, но автор рискнул – и уже одно это хорошо! Какой-нибудь ювелирный «этюдик» читаешь с удовольствием и тут же сразу забываешь. «Злую вечность» трудно читать, не морщась, но сознание ею задето, и не напрасно.
В отделе стихов один поэт «довоенный» и знаменитый – З. Гиппиус, три новых, эмигрантских – Терапиано, Поплавский и Эйснер.
У З. Гиппиус очень хорошо «Над забвением» – одно из самых совершенных стихотворений, когда-либо ею написанных. Как почти все лучшие стихи русского символизма, оно напоминает Тютчева – в простом, типично тютчевском выражении изощреннейших догадок и чувств. Эти шестнадцать строк достойны были бы включения в самую строгую антологию русской поэзии за последние десятилетия. Тем более удивительно и тягостно прочесть рядом с ними странное произведение, озаглавленное «Большевицкий сон».
Ю. Терапиано в стихах о России менее ровен, пышен и пластичен, чем обычно, – но зато и как-то «человечнее», чем был в своих стихах до сих пор. Перелом произошел совсем недавно – в этом году. Некоторые давние стихи Терапиано в газетах были проникнуты личной тревожной музыкой, отмечены смутными, неожиданными образами. В «Современных записках» – то же самое. Поэт как будто изменяет культу формы «как таковой» и, кажется, даже изменяет своему учителю, Гумилеву. Измена, вероятно, будет толчком к его полному творческому расцвету.
Стихотворение Поплавского, как всегда, прелестно по звуку. «Какой Страдивариус у вас в руках!» – сказал однажды какой-то критик Фету. Каждый раз, читая Поплавского, я вспоминаю эти слова, – даже и тогда, когда он повторяет и перепевает самого себя.
А. Эйснер – поэт, редко появляющийся в печати. Его стихи в «Современных записках» заставляют об этом пожалеть. Они талантливы и широки по дыханию. В них слышен некрасовский, «пронзительно-унылый», раскатистый голос, не похожий на голоса других наших стихотворцев.
«Воспоминания» Шаляпина чрезвычайно увлекательны и ярки. Если бы даже мы и не знали, что такое Шаляпин, то необычайная щедрость и одаренность его натуры открылась бы в каждой странице его записок. Ум, зоркость и меткость слова Шаляпина таковы, что многие прославленные писатели могли бы у него поучиться искусству видеть жизнь и о ней рассказывать.
По-прежнему интересны мемуары А.Л. Толстой, о которых не раз уже была речь. Отлично написано «14-е декабря» М. Цетлина. Из статей и заметок о литературе выделю «К юбилею Гете» Алданова и статью П. Бицилли.
Юбилей Гете дал повод Алданову высказать ряд тонких мыслей. Несомненно, он и не хотел дать ничего большего и со своей задачей справился блестяще. Все-таки жаль, что «Современные записки» не нашли желательным откликнуться на столетие Гете иначе и рядом с отрывочной статьей Алданова высказаться о величайшем явлении европейской культуры «по существу», во всем объеме и значении этой темы. Время теперь такое, что многие прошлые ценности переоцениваются. У России, в лице ее самых характерных и глубоких представителей, всегда были с Гете тайные счеты, молчаливый и коренной раздор. Нельзя было найти лучшего случая обо всем этом поговорить и дать выход всему тому, о чем многие сейчас по мере сил своих думают.
Стихи
I.
«На стихотворном фронте неблагополучно», – воскликнул недавно один советский критик.
Этой фразы мы, конечно, не повторим, – из-за формы ее: претит нелепый стиль, претят «фронты», которые всюду мерещатся миролюбивым советским критикам и публицистам. (В «Новом мире» с полгода тому назад была помещена заметка о пчеловодстве. Она начиналась так: «Давно пора уже сигнализировать о прорыве на пчелином фронте…»). Но по существу, – о том, что со стихами «неблагополучно», – мы сказать могли бы. И могли бы даже добавить, что об этом «давно пора сигнализировать»… Только по другим причинам, чем в советской России.
Там сетуют на «отставание» поэзии от повседневности, на слабость ее политической «зарядки», на препятствия, мешающие создать «большое искусство большевизма»… У нас здесь такие вопросы мало кого смущают и занимают, даже если бы придано им было противоположное «классовое содержание». У нас сохранилось иное отношение к искусству, – отношение более свободное и в то же время более требовательное (т.е. большего, неизмеримо большего от него ожидающее). Но давно уже требования и ожидания в области поэзии остаются неудовлетворенными, и с каждым годом уменьшается надежда, что стихотворная речь может вновь занять прежнее положение в литературе. По шаблону хотелось бы написать: «появляются прекрасные стихи, но…», – и дальше распространиться на знакомую тему, что прекрасные стихи не всегда еще составляют поэзию. Но нет, не будем себя обманывать: прекрасных стихов появляется мало, очень мало… Поневоле мы сделались снисходительны и довольно легко теперь относим к числу первоклассных стихи среднего вдохновения, среднего мастерства и средней культуры. На них, надо сознаться, никакого «неблагополучия» не заметно. Но те редкие стихотворения, которые, действительно, по составу своему «прекрасны», те написаны с каким-то непонятным, небывалым трудом, не «пропеты», нет, а будто процежены сквозь зубы, не навеяны ласковой и щедрой Музой, а отвоеваны у нас ценой огромных усилий… Настоящие наши поэты не знают больше, как писать стихи. Рассказывают, что когда-то Тургенев жаловался Боборыкину:
– Я разучился писать… не знаю, как, не знаю, о чем.
Боборыкин удивленно на него взглянул, встал, хлопнул себя по ляжкам и ответил:
– А я пишу много и хорошо.
Некоторые стихотворцы готовы были бы сейчас дать ответ вроде боборыкинского. Но он неубедителен.
Что же случилось? Предположение самое простое: исчезли подлинные таланты… Отчасти это, может быть, и так, но только отчасти, – как только наполовину верны в данном случае и общие рассуждения об оскудении в эмиграции всякого творчества, а, следовательно, и поэзии. Бесспорно, у нас сейчас нет такого поэта, как Блок. Но не менее бесспорно, что у нас есть несколько замечательных мастеров слова, для которых стихотворная форма речи была до сих пор наиболее естественной. И все-таки они бессильны вернуть поэзии ее роль, и ни сами в своих писаниях не находят, ни другим не дают того увлечения, того подъема, того восторга, которые обычно с представлением о поэтическом творчестве связывают. Не беда, что они «грустно настроены» или говорят все больше о смерти, – когда же поэты не бывали грустно настроены, когда же они о смерти не вспоминали? Плохо то, что они как будто скованы каким-то холодом, – и таковы же их стихи: медленно, тяжело, болезненно рождаются эти коротенькие поэмки, отточенные, рассудочные. Почти всегда иронические. Не несущие в себе никакой радости… И притом это лучшие современные стихи. Авторы их, повторяю, больше не знают и не понимают, как надо писать. Но как писать не надо, – о! это они знают, чувствуют и понимают отлично, и отсюда их обеспложивающая, иссушающая осторожность в выборе каждого слова, отсюда вообще драматизм их положения: они не могут найти путь, но безвыходность всевозможных тропинок, принимаемых за путь, они видят с совершенной ясностью и блуждать по ним не хотят. Случается, им указывают, с упреком и укором: «Вот Марина Цветаева, например, вот поэт Божьею милостью! Сила, страсть, напор, новизна!» Они глядят на Марину Цветаеву, но остаются при прежнем своем недоумении: нет, так нельзя писать, это-то уже ни в каком случае не путь… Поклонники Цветаевой, конечно, немедленно спрашивают, с заранее торжествующей запальчивостью: скажите, а как же «надо»? – «Не знаем. Но, наверно, не так: это не выход. Лучше молчание». И какого бы из голосистых, подлинно или «мнимоширококрылых» современных поэтов ни назвать, ответ остается таким же, – назовут ли Бальмонта или Маяковского, Пастернака или Игоря Северянина.
По-видимому, дело в том, что сейчас исчерпаны возможности того поэтического стиля, который, в самых общих чертах, может быть определен как «пушкинский». Не иссякли таланты. Не оскудели силы. Но нет больше воздуха в «стране поэзии», нечем дышать, и никакие подушки с кислородом тут не помогут. Нет света за стеклом, свет ушел, отклонился в сторону, – прошу прощения за эти метафоры, при помощи которых я лишь приблизительно пытаюсь передать общее ощущение… По-видимому, настает сейчас пора прозы, и разные, совсем разные люди это в наши годы чувствуют, и к прозе из поэзии тянутся, как бы по инстинкту творческого самосохранения. Ничего страшного в этом нет. Знала же французская поэзия полтора века измельчания и растерянности, пока на смену расиновскому классицизму не пришел новый стиль, – романтический, – появление которого совпало с чудесным расцветом созидательных сил. Восемнадцатое столетие во Франции не было веком упадка, оно, конечно, достойно было по общему творческому напряжению великих предшествующих веков. (Есть у Мишле замечательная фраза: «Le grand siиcle, je veux dire, le dixhuitiиme», – но это было время странного исчезновения поэзии. Нельзя же без оговорок считать достойным этого имени всевозможные рифмованные послания и размышления, мадригалы и эпиграммы, невозможно согласиться и с юным Пушкиным, утверждавшим, что Вольтер – «поэт в поэтах первый». Вольтер, этот удивительнейший писатель, – кажется, самый блестящий из всех, которые когда-либо были в Европе, – не сочинил на своем долгом веку и десяти стихов, достойных быть поставленными рядом со стихами Расина или Гюго. Он все «умел», поэтому писал и стихи, но отсутствие подлинного расположения к ним скрыть был все же не в силах. Да и как все плоско в его поэзии!.. Один Шенье, «райская птица в пустыне», чудо, неизвестно откуда возникшее! Но его одиночество лишь отчетливее оттеняет пустоту за ним и после него… И все-таки французская поэзия возродилась и последние сто лет жила полной, великолепной жизнью. Сейчас она как будто опять иссякает, – до нового, далекого расцвета, надо надеяться. Очень вероятно, что нечто подобное суждено и нам. Одни наши поэты, как ни в чем не бывало, повторяют или беспечно развивают классические образцы, нисколько не тревожась, мертвы они или нет. Другие мучительно бьются над тем, чтобы гальванизировать иссохшую оболочку, и иногда, как подлинные волшебники, достигают в этом деле непрочных, но все же несомненных побед. Третьи – импровизируют: создают «стиль» за свой страх и риск, полагаясь только на себя, только себе веря… – И все вместе, и те, и другие, и третьи влекутся к прозе, дающей сейчас возможность свободного творческого выражения, в противоположность стихам, обрекающим поэта на изнурительную и безнадежную борьбу с материалом. Боюсь, что читатель, по моей вине, не совсем ясно понимает, о чем я говорю, что он упрекнет меня в хождении «вокруг да около» вопроса и темы. Постараюсь в нескольких словах высказаться отчетливее и конкретнее.
Когда в книге или журнале видишь двенадцать-шестнадцать аккуратно-размеренных строчек, – почти всегда мелькает мысль, догадка, ощущение: это не серьезно. Это – «пустяки». И почти никогда не обманываешься. Не серьезно, – т.е. не имеет подлинной связи с жизнью, не идет из нее, не возвращается к ней, не участвует вообще в едином, единственном бытии… Слова более или менее искусно связаны между собой. Иногда приятно, иногда – нет. Но чувствуется, что самый процесс составления строчек и строф уже механизирован и лишен того привкуса или отзвука «взрывания» косной материи, которое и есть, собственно говоря, творчество. «Не светит и не греет». Лишь в самых редких случаях вспыхнет огонь, да и то не надолго: все вокруг уже перегорело, нечем огню питаться. Такими слабоозаряемыми стихами и приходится теперь утешаться… Можно было бы выдумать новое направление, разжечь страсти вокруг какого-нибудь нового «изма». Но мир очень поумнел за эти годы. «Измы» сильно скомпрометированы. Всем своим опытом мы знаем, что «направление» – т.е., в сущности, стиль, – только тогда и плодотворно, и долговечно, когда не выдумано наспех, от нечего делать или по чьему-либо самонадеянному капризу, а как бы внушено временем и ему соответствует. Стиль нельзя импровизировать. Именно это я имел в виду, говоря, что сейчас наиболее «взыскательные» знают только то, как не следует писать: они безошибочно ощущают внутреннюю порочность индивидуальных импровизаций, ничем, кроме личной прихоти, не ограниченных… А общего канона нет, и сейчас даже невозможно предвидеть, каков он будет, если когда-нибудь и возникнет.
По любви к поэзии и преданности ей, поэты теперь должны были бы подумать, не лучше ли до поры до времени оставить стихи, дать поэзии отстояться и отдохнуть, и, может быть, позволить ей настроиться на неведомо новый лад в действительном, глубоком, а не злободневном «созвучии» с эпохой. Не для всех, конечно, такой отказ возможен. Есть стихотворцы «одержимые», не способные жить вне размеренного напева: им нельзя советовать отказаться от самих себя. Но большинство людей, по привычке пишущих стихами, не таковы, и если их к прозе сейчас влечет, то это не случайно: они хорошо сделали бы, если бы своего внутреннего голоса послушались. Оказалось бы, что они способны создать не одни только «пустяки» (или оказалось бы, что только на пустяки они и были годны… Но таких не жаль. Чем скорей «за ушко, да на солнышко», тем лучше). И, может быть, в черновой работе прозы, в условиях ее неумолимой словесной честности мало-помалу выяснились бы элементы, – и психологические, и чисто-литературные, – из которых впоследствии сложится новая, по-настоящему живая поэзия… Мнимая измена предстанет тогда, как нужнейшая жертва.
Все это – затянувшееся предисловие. Я собрался было писать о новых явлениях в нашей поэзии, – в частности, о берлинском сборнике «Роща» и некоторых стихотворениях, помещенных в последней книжке «Чисел». Но о стихах у нас редко и мало говорят, а «на стихотворном фронте неблагополучно». Поэтому невольно начинаешь с общих размышлений, а начав их, не знаешь, где и кончить, вернее, оборвать… И в «Числах», и в сборниках наших молодых поэтов интересны упорство, настойчивость, уверенность, с которыми отстаиваются за современными стихами «право на существование», – притом существование как бы внешнего порядка, отнюдь не прозябание. Кое-что из напечатанного побуждает этому упорству сочувствовать: победителей, как известно, не судят… Многое – вызывает горькое недоумение.
Однако, – до другого раза. Надеюсь, кстати, что в этот «другой раз» в разборе отдельных образцов мне удастся сделать более убедительными те общие соображения, которые сегодня могли показаться голословными и отвлеченными.
II.
Берлинские стихотворцы, выпустившие сборник «Роща», не называют себя «молодыми». Они – просто «поэты».
В Париже, на обложке сборников такого рода, указание на возраст стало обычаем. По-моему, берлинцы поступают правильнее. Эпитет «молодые» не только не во всех случаях соответствует действительности, но и содержит в себе что-то похожее на просьбу о снисхождении: будто ученический журнал… Критика в ответ снисходительно треплет «молодых» по плечу: дети, мол, – что с них спрашивать? Отношения получаются не совсем достойные, и недаром один из тех, кому снисхождение надоело, воскликнул, наконец:
– Не хочу быть молодым поэтом!
Дело касается, ведь, не какой-либо возрастной группы, а лишь людей, начавших печатать свои стихи уже в эмиграции. Естественно, что среди них стариков нет. Но они и не дети, далеко не дети, – и некоторые из них лишь случайно не имеют дореволюционного «стажа». По составу участников, по их общекультурному уровню, по месту, которое они занимают в нашей литературной жизни, берлинский сборник «просто поэтов» вполне аналогичен парижским сборникам «молодых».
Трудно сравнивать, где стихи лучше, да и не к чему это делать… Безболезненно можно было бы многих авторов пересадить с одной почвы на другую и никто этой пересадки не заметил бы. В Берлине, пожалуй, нет таких уже развившихся индивидуальностей, как Поплавский или Кнут, Ладинский или Смоленский, но, в общем, там пишут с тем же средним умением и ограниченной успешностью, что и здесь. Подобно Чичикову, стихи – «не так, чтобы слишком толстые, но и не то, чтобы чересчур тонкие». Читаешь их без каких-либо эмоций, отрицательных или положительных. Изредка только хочется улыбнуться, – когда, например, один поэт рассказывает, как ему «за пазуху ветер лазает», или другая поэтесса сообщает, что в душе ее
…Блаженство выше каланчи.
Но это – мелочи. В целом, стихи, как говорится, – гладкие. С внешней стороны они очень характерны для эмигрантского периода русской словесности: в советской России поэзия имеет совсем другой облик. В последние предреволюционные годы, в Петербурге и Москве тоже заметно было «беспокойство о новом»… Эмиграция принесла с собой культ былых прочных традиций и противостояния советскому развалу: как ни почтенны сами по себе эти стремления, они, увы, нередко приводят к эпигонству. Это и случилось в области стихов. Оправданием наших поэтов может служить только то, что сейчас, – как я уже говорил, – в общей «переоценке» всех ценностей, в общем мировом смятении и путанице всех понятий, совершенно не видно даже самых общих, самых смутных очертаний какого-либо возможного будущего поэтического стиля, – если только не обманываться и не принимать за стиль отдельные шаткие, ни на чем не основанные, личные настроения. Кто хочет писать стихи, – тот, пожалуй, на эпигонство в наши дни обречен. Но, сознавая это, стоит ли упорствовать?
Мне хотелось бы спросить берлинских поэтов, участников «Рощи», а заодно и «молодых парижан», и других: неужели вы полагаете, честно, «положа руку на сердце», что эти три-четыре строфы с аккуратно пригнанными рифмами, с вялой раскачкой ритма и все теми же, все теми же словами в почти том же самом сочетании, – неужели вы полагаете, что они выражают ваше творческое «усилие», а не лень и самоубаюкивание, принимаемое за творчество? Мы – читатели, – право, лучшего о вас мнения. Мы верим, что в ваших душах, в ваших сознаниях есть мысль и страсть, и отчаяние, и восторг, есть вообще все то, что составляет человека. И мы убеждены, что все это «подлинно-творческое» осталось где-то за пределами ваших стихов, что вы увлечены пустоватой игрой, которая тешит иногда самолюбие, но ни вам, ни кому-либо другому настоящего удовлетворения не дает, что вообще к миру, к жизни, к вам самим эти красивенькие, однообразные создания имеют лишь самое отдаленное отношение… Искусство? Бросьте! Это – старые, глупые сказки: будто искусство в стороне от бытия, будто ничто современное, тревожащее, задевающее, в него входить не должно и даже касаться его не вправе. Это – вы сами себя успокаиваете, ищете в своей слабости на что опереться! Искусство, конечно, не прямо, не непосредственно, но выражает или отражает все то, что проносится в сознании, не чисто оно, и не чистотой брезгливой чистюльки-недотроги, которая всего сторонится. В нем все плавится, все перегорает: черный уголь преображается в белое пламя, – но уголь-то пламени нужен, без угля пламени нет… Едва ли наши берлинские или парижские стихотворцы настолько наивны, чтобы об этом не догадываться или просто не подумать, хотя бы и стоя на иной точке зрения. Но их парализуют стихи, канон, привычная и сейчас уже совсем условная оболочка. Стихи помогают им существовать в литературе призрачным существованием, без риска и почти без затрат… «Кто вы? Я поэт». О чем его поэзия, чего он сам хочет, что он делает в мире, – на это «поэт» отвечать не обязан. Если бы, все-таки, он попробовал писать прозой! Свобода прозы, отсутствие в ней всяких перил, многому его научила бы, многого с него потребовав.
Позволю себе короткое «pro domo sua», – позволю себе его лишь в уверенности, что эти мои ощущения многим знакомы: я очень люблю стихи… Вопреки распространенным сейчас мнениям, я продолжаю верить, что это высшая форма словесного творчества, поистине, «божественная», поистине, «вечная». Всякие соображения о «перерастании» поэзии жизнью представляются мне ребяческим вздором. Все можно сказать в стихах, – и как сказать! Тютчев, например… Разве тоненькая книжка его стихов не «стоит» всего Достоевского, – стоит не в том смысле, конечно, что он «выше» или «ниже» его, или сводит Достоевского «на ноль», а только в том, что она представляет собой нечто равноценное, настолько же глубокое, единственное и незабываемое. Конечно, Тютчев никогда не получит в Европе такого влияния и признания, как Достоевский, – но это ведь оттого, что он непереводим. Мы-то знаем цену ему. И знаем, чем он и как Россию обогатил. (Кстати, о Тютчеве и Достоевском. Не удавалось ли порой Тютчеву с чудесной прелестью, с чудесным лаконизмом создать как будто целую главу «психологического» романа, – в нескольких словах?.. Например, «Весь день она лежала в забытьи» или «Она сидела на полу»). А Бодлер! О нем тоже можно было бы сказать, что его «книжка небольшая томов премногих тяжелей». Не только «премногих», но и всего, вероятно, что во французской литературе за последние полвека появилось. Когда Гюго покровительственно сказал, что Бодлер создал «un nouveau frisson», он не предвидел, вероятно, что из этого «нового трепета» выйдет все позднейшее искусство. Но не будем говорить о Тютчеве и Бодлере. Если говорить коротко, поневоле придется ограничиться одними только восклицаниями. А раз увлечешься такой темой, – то никогда и не кончишь… Скажу только снова: я очень люблю стихи… Но, читая современные сборники их, я то и дело начинаю в своей любви сомневаться, и не раз ловлю себя на мысли: если мне над этой книжкой скучно, то не во мне ли самом вина? Сомнение рассеивается, как только вспоминаешь иные стихи – даже и не такого уровня и не такой силы, как те, которые я только что упомянул, а бледнее, скромнее. Но сейчас даже и так никто не пишет, никто не может писать. Одни, поумнее, дописывают; скупо и редко, – боясь всего похожего на красноречие и десятки раз проверяя, – взвешивая каждое слово и как бы обескровливая себя. Другие… но анекдот о Боборыкине я уже рассказал. Земля оскудела под стихами. Надо перейти на другую полосу, чтобы дать той набраться новых соков и сил, – да и для того тоже, чтобы самим на иссохшей почве не работать бесплодно.
В берлинском сборнике есть стихи, посвященные России. Они сами по себе не плохи… Но характерно, что мы к ним заранее, а priori относимся с недоверием, безошибочно предчувствуя какую-то пропасть между нашим теперешним «чувством России» и тем, что в стихах может быть передано. Я пишу «безошибочно» потому, что предчувствие, действительно, никогда не обманывает: в стихотворных мотивах о России, во всех обращениях к ней, или воспоминаниях, – фальшь и нестерпимая слащавость ощущаются неизменно. Мы инстинктивно знаем, что сейчас стихов о России не может быть. Но не это ли убедительнее всего свидетельствует о летаргическом сне, охватившем поэзию? Не в России же дело. Уж о чем бы, кажется, и «пропеть» современному поэту, как не о России, что, кроме нее и нашей памяти о ней, дало бы ему возможность «ударить по сердцам с неведомою силой»? Но нет слов и нет ритма. Нет стиля. Любители покушений с негодными средствами упражняются время от времени в своем любимом занятии, а другие молчат.








