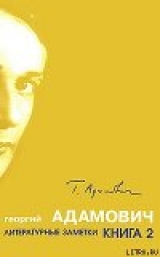
Текст книги "Литературные заметки. Книга 2 ("Последние новости": 1932-1933)"
Автор книги: Георгий Адамович
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
«СУМАСШЕДШИЙ КОРАБЛЬ»
Буржуазное реставраторство… Авторам трех книг, вышедших за последние месяцы, предъявлено в России это обвинение. Речь идет о реставраторстве в области искусства. Все три автора делают, по мнению коммунистической критики, попытку опорочить новое пролетарское понятие о творчестве и внушают читателям представление старое, «идеалистическое»: о том, что искусство создается свободной личностью, что для этой личности никакие законы не писаны, что одно дело – творчество, а другое – обслуживание непосредственных, практических нужд эпохи.
На многочисленных, или, вернее, даже бесчисленных, литературных «дискуссиях», происходивших этой зимой в Москве и в провинции, ставился вопрос о совместимости искусства с социализмом. Разумеется, ставился только риторически. Заранее было известно, что ораторы поспорить могут по какому угодно поводу, но насчет кровной, неразрывной связи искусства с социализмом окажутся в полнейшем единомыслии. Это, действительно, так и было. Но требовалось же спорщикам на кого-нибудь нападать, кого-нибудь обличать и громить! Надо же было иметь под рукой материал, на разборе которого удалось бы продемонстрировать собственную благонамеренность! Три книги послужили для этого: «Художник неизвестен» Каверина, «Охранная грамота» Пастернака и «Сумасшедший корабль» Ольги Форш.
Больше всего было разговоров о «Сумасшедшем корабле». В художественном отношении это самое слабое из трех названных произведений: едва ли кто-нибудь станет это отрицать. Но зато книга Ольги Форш проще и доступнее книг Каверина и Пастернака. Она легче поддается анализу. Поэтому-то, вероятно, ей и придали в советской критике значение, которого она не имеет.
Если у Каверина и Пастернака чувствуется пафос, который при желании может быть истолкован как «боевой» или «нам враждебный», то у Ольги Форш ничего такого нет. Книга грустная, ироническая, мечтательная и кроткая. Ни в какие битвы Ольга Форш вступать не собирается. Победителям, мнимым или подлинным, она вежливо уступает дорогу. Себе только оставляет право рассказать о замечательных и чудаковатых людях, застигнутых революционной бурей и, каждый по своему, оберегавших от этой бури свой хрупкий, сложный, причудливый внутренний мир. Форш рассказывает о них с сочувствием. Но в сочувствие вкрадывается жалость, и на всей повести как бы лежит та
…улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья.
Сумасшедший корабль – это петербургский «Дом искусства» на Мойке, в гостеприимных, безвкусно-роскошных елисеевских палатах: последнее пристанище писателей и художников перед окончательным «рассеянием», последний островок утонченнейшей петербургской художественной культуры, уже заливаемый волнами варварства (кстати, Ольга Форш делит свою повесть на «волны» вместо глав – рассчитывая, очевидно, что так читателю будет легче вообразить себя в океане). Не раз уже были описаны и это время, и эта среда. Кто их видел и помнит, для того, пожалуй, во всех рассказах недостает «чего-то»: трагизма, высоты и чистоты тогдашнего воздуха и тогдашних настроений. Георгий Иванов из-за своей гоголевской странной страсти к «кувшинным рылам» это в «Петербургских зимах» не совсем отчетливо передал. Не передала этого в своем суетливом, нервном, сбивчивом, пестром повествовании и Ольга Форш.
Она рассказывает:
«В Сумасшедшем корабле сдавался в архив истории последний период русской словесности. Впрочем, не только он, а весь старорусский лад и быт. Точнее сказать, для быстрейшей замены России четырьмя буквами СССР ампутировались еще не изжитые временем старые формы… Все жили, как на краю гибели… И вместе с тем именно в эти годы, как на краю вулкана богатейшие виноградники, – цвели люди своим лучшим цветом». Один за другим проходят перед нами обитатели Дома, – и те, кто с ними дружил или общался. Как водится, автор в предисловии утверждает, что портретов в его книге нет. На самом деле, – портреты всюду, на каждой странице, и они настолько похожи, что сразу ясно, о ком Форш говорит.
Вот Шкловский, вот Чуковский, вот Блок, уже умирающий, молчащий, окаменевший. Вот Аким Волынский с его фантастическими и пламенными монологами о балете, античности и Леонардо да-Винчи… Он ищет слушателей, и даже утром в умывальной, чистя зубы, кричит кому-то:
– Эй, послушайте, подойдите. Поговорим о Логосе.
Дальше – Сологуб, Гумилев, Щеголев, Клюев и многие другие. В повествовании нет ни последовательности, ни развития. Витиеватая речь Ольги Форш вьется прихотливейшими узорами, стилизуясь под то, как действительно человек может вспоминать и рассказывать о происходившем десять-двенадцать лет тому назад.
Грех автора «Сумасшедшего корабля», с точки зрения советских добровольных цензоров, очевидно, в том, что он героев своей книги не «заклеймил презрением». Надо было показать, что они обречены историей на гибель и делают жалкие попытки с историей бороться. Надо было от них «отмежеваться». Форш рассказала о них без ненависти. Она их представила еще людьми, а не отбросами и хламом. Это и оценено как «вылазка классового врага».
< «CEBEPHOE СЕРДЦЕ» АНТ ЛАДИНСКОГО. –
«ПОИСКИ ОПТИМИЗМА» В. ШКЛОВСКОГО>
Перелистывая второй или третий раз книгу и собираясь о ней – как обычно пишут – «побеседовать с читателем», критик большей частью испытывает затруднение… Опытные, благоразумные люди рекомендуют о своих затруднениях не рассказывать: до них-де никому нет дела. Это, вероятно, так. Читатель любит, чтобы ему предлагали суждения отчетливые, твердые, как бы уже кристаллизовавшиеся, и вводить его против воли в «кухню творчества» не следует.
Да… но ведь затруднение или, вернее, ситуация возникает вовсе не от колебаний в оценке книги, как читатель может предположить. Достоинства, срывы, общий творческий и культурный уровень – все это бывает ясно сразу. Смущение – только от осознания своего бессилия: как о книге рассказать? В особенности, если это книга стихов. Нельзя же ее «критиковать», не дав понять и почувствовать, в чем ее сущность. А попытка эту сущность передать превращается обыкновенно в жидкое и вялое стихотворение в прозе, в плохое изложение того, что у поэта изложено хорошо. Или в одно из тех безобидных, но бессмысленных упражнений, которым с важным видом предавались в свое время составители наших учебников словесности. Цитата в две-три строчки и тут же замечание вроде: «однако поэт любит природу»; еще цитата, и опять комментарий: «таким образом созерцание заката создает светлое настроение в душе поэта». И так далее. Предполагается, что все, вместе взятое, дает полную и стройную картину мироощущения разбираемого автора. Творчество рассматривается как программное, систематическое изложение взглядов. Комментатору, делающему свое нехитрое дело, не приходит и в голову, что при желании можно было бы данному поэту навязать совсем другую программу, подобрав другие цитаты.
Как писать о стихах? Пушкин и в особенности Баратынский оставили нам классические образцы «рецензий». Они разбирали стихи технически, – как мастера. По их пути шел Брюсов, за ним Гумилев. При обращении поэта к поэту это и до сих пор лучший способ разбора, – лучший не только внешне, но и внутренне: самый целомудренный, вернее всего удерживающий от дешевой профанации того, что техникой не исчерпывается и что, по Блоку, «несказанно». Но этот вид критики не подходит к общей печати. Приходится разные способы комбинировать: давать и лирически туманный отчет о своих общих впечатлениях, и два-три технических замечания, и даже какую-нибудь цитату с комментарием. Основное же и самое важное в такой заметке – это все-таки тон, которым она проникнута: отдаленный, ослабленный отзвук музыки, которая слышится в книге. По этому тону читатель судит, стоит ли книгу читать, – если только он критику хоть сколько-нибудь верит, конечно.
Передо мной сборник стихов Ант. Ладинского «Северное сердце». Мне очень хотелось бы, чтобы эту небольшую книжку прочли все те, кто любит стихи. Не знаю, найду ли я «тон», чтобы обыкновенным, прозаическим и сухим языком достойно рассказать о ней.
Книга удачно названа. Слово «северный» верно передает то, что для нее, может быть, наиболее характерно: чистый, снежно-белый колорит, льдистая хрупкость образов… Бывает поэзия, которая как бы идет в жизнь, чего-то от жизни ждет и требует: такова, например, поэзия Блока; и в этой глубокой «человечности» – вся ценность блоковских стихов. Из книг, о которых мне недавно довелось писать, к этой категории относятся «Парижские ночи» Д. Кнута. Но бывает и другая поэзия: уклоняющаяся от жизни, ускользающая, скорее очаровывающая, чем волнующая, скорее «прелестная», чем «прекрасная». Мне кажется, такова поэзия Ладинского. Она никогда не переступает той черты, которую сама себе определила. Она никогда не перестает быть искусством, «только искусством», – и этой областью она довольствуется. Первое впечатление – стихи слегка игрушечные: не говоря уже о намеренной, пасторальной наивности выражений, они даже по внешнему виду таковы. Узкие-узкие, высокие колонки печати с равномерной аккуратностью красуются на страницах. Ни одной строчки длиннее другой, ни одного переноса, ни одного лишнего движения… Все подчищено, подлажено.
Но первое, беглое, впечатление не совсем правильно. В размер, будто бы монотонный, врываются прихотливейшие ритмические перебои. В ткань слов и звуков входят пронзительно-жалобные ноты – острые, как иглы, короткие и звенящие. У Бенедиктова есть где-то выражение «замороженный восторг». О Ладинском можно было бы сказать «замороженная грусть». Созданный им мир совсем похож на живой, – только в последнюю минуту как будто какой-то леденящий ветерок дохнул на него и заворожил, остановил. Поэт тоскует, ахает, мечтает, поет, рассказывает – все по-настоящему, но мы не столько внимаем и верим ему, сколько любуемся им. Это – театр, искусный и изящнейший, и не случайно Ладинский так часто о театре, в частности о балете, пишет. Он возвращает нашей современной поэзии элементы волшебства, сказочности, ею утраченные. Оттого ли, что другие элементы, более суровые, более мужественные и горькие, ему недоступны? Не знаю. Об этом не думаешь, читая «Северное сердце». Перевертываешь страницу за страницей, – и только удивляешься легкому и почти всегда безошибочному мастерству поэта, его пленительному и печальному, «холодному» вдохновению:
– Пусти меня в сердце, снегурка!
– Царевич, там холодно, лед.
Прелестная, белая шкурка
Не греет, тепла не дает.
Но сердце растаяло. Розы
Непрочны в стране ледяной,
И крупные женские слезы
Катились одна за другой.
И как в Мариинском театре,
Средь белых деревьев зимы,
Вдруг нежная музыка смерти
И розовый снег… Это – мы.
Что сказать еще? Пожалуй, лучше вместо многословных рассуждений повторить совет: кто любит стихи, пусть прочтет книгу Ладинского.
* * *
От Виктора Шкловского лет пятнадцать-восемнадцать тому назад ждали очень многого.
Я помню, как на каком-то из раннефутуристических вечеров в Тенишевском зале Маяковский вывел его на эстраду и, представляя публике, произнес несколько раз слово «гениальный». Футуристы щедро раздавали друг другу такие титулы. Но Шкловский не был среди них вполне «своим». Маяковский говорил не совсем так, как обычно: серьезно, убежденно. И никто из тех, кто в то время знал Шкловского, особенно удивлен не был: действительно, он производил впечатление человека, одаренного совершенно исключительно… Поэт – не поэт, критик – не критик, ученый – не ученый. Ни он сам, ни друзья его не знали, чем ему следует заняться в литературе. Но достаточно было с ним поговорить полчаса, чтобы счесть чуть ли не все области ему доступными.
Гениален Виктор Шкловский, по-видимому, все-таки не был. Но ему внушили, что он гений, и он в это без колебаний поверил. Получилось в результате после долгих блужданий нечто жалкое и невыносимое: гениальничанье.
Теперь от Шкловского никто больше ничего уже не ждет. Формализм, созданный им, кончен, да он и сам от него отрекся. Битвы с символистами отошли в область предания. Исчез былой задор, да и не на кого было обратить его. «Облетели цветы, догорели огни», одним словом… Но гениальничанье осталось. Осталась и необычайная самоуверенность, вечное желание обратить на себя внимание, устало-ироническая, всезнающая усмешка, обращенная на весь мир. (Будто: «что вы все там, дурачье, что-то думаете, пишете, толкуете! Бросьте! Вот я посмеиваюсь, острю, рассказываю анекдоты, а все-таки все знаю и понимаю лучше вас всех».)
Шкловский, бесспорно, очень умен. Удивительно, что он не видит – он, искуснейший теоретик! – какая дурная литература его теперешние писания.
Последняя книга Шкловского называется «Поиски оптимизма». В ней он от литературы как будто окончательно отказывается: простота крайняя, непосредственность предельная. Пишет он обо всем, что взбредет в голову… Но вглядимся в эту непосредственность. Первая часть книги названа, например, так; – «Часть первая. У нее название "Все, как у людей"».
Третья – « Часть третья. Это середина книги или около того».
Никого такими «штучками» не обманешь. Это явное манерничанье, явное жеманство, а не простота. Это «воняет литературой» за версту.
В «Поисках оптимизма» рассказывается о самых различных людях, делах и случаях. Предисловие меланхолично и расплывчато. Шкловский говорит: «Мы ведь знаем, что жизнь негодная, мы не знаем, как построить дома… Ничего не решено, путь не найден». Дальше он бойко передает несколько бытовых сценок из теперешней московской жизни. Затем описывает Кавказ. Затем подробно излагает сиамского принца Чакробона. После Чакробоно наступает черед Марко Поло. После Марко Поло следуют воспоминания о Маяковском. Затем – картина съезда каких-то колхозниц. Затем – стратегические размышления и параллель между описанием Бородина у Толстого и Загоскина. Наконец, несколько слов о сердце, которое писатель несет, как птицу, в руках, и о жизни, которая «такая тяжелая, такая большая». Точка, конец.
Все это изложено короткими, будто задыхающимися фразами.
«Писатель несет живую птицу – сердце в руках.
Не голубя, может быть. Может быть, курицу. Но оно живое.
Едет он трамваем. Толкаются.
Он защищает сердце локтями.
Толкаются все, даже старухи.
Очень трудно…»
Все пересыпано мрачными шутками. Все преподнесено как откровение. За автора чуть-чуть неловко.
Дурная литература. Но… перворазрядный человеческий документ.
Нельзя сомневаться, что жить Шкловскому сейчас, действительно, тяжело. В советской печати его травят или еще хуже: о нем молчат. Болезненный индивидуализм его там решительно не ко двору. Надежды не сбылись. «У меня нет сил на создание романа который был бы равен мне по силе». Юность прошла. «О, молодость, футуризм! О, улетевшая, не взлетевшая молодость», – горестно вспоминает Шкловский теперь былые свои развеянные, исчезнувшие иллюзии. Он ищет «оптимизм», но находит в себе только жажду покоя. «Во имя нашего великого времени будем беречь друг друга. Нужно спокойствие, как на войне, или как в инкубаторе». Книга глубоко истерична. Каждую минуту, за каждой фразой ее возможен крик и плач. Ее содержание можно было бы передать давними стихами Андрея Белого о самом себе:
Пожалейте, придите!
…………………………………………..
Я, быть может, не умер, быть может, вернусь.
Проснусь!
О «ПАФОСЕ МОСКВЫ»
Начну с Лоренса. На первый взгляд, трудно связать его с какой бы то ни было беседой на московские, т. е. советские, темы. Однако именно он, Лоренс, и толки, возникшие вокруг его последнего романа, навели меня на мысль об этой статье.
Месяца полтора тому назад в связи с выходом русского перевода «Любовника леди Чаттерлей» я дал об этой книге сочувственный отзыв. Конечно, я предвидел и догадывался, что она вызовет у многих читателей недоумение и изумление, – особенно у тех, которые мало знакомы с европейской литературой последних двух-трех десятилетий. Оплошностью моей было то, что я об этом не сказал и, выделив «Любовника» как самостоятельное явление, не попытался объяснить, почему такая книга теперь могла быть написана и почему она на Западе почти никого не отталкивает. Эту вину я признаю: нельзя было просто восхищаться прелестью лоренсовского замысла, надо было о многом предупредить и много доводов в оправдание Лоренса привести. Для русского читательского сознания откровенность «Любовника леди Чаттерлей» ошеломляюще нова и поэтому нелегко приемлема (притом, пожалуй, для лучших русских сознаний, с нормами, с традициями и своим духовным стилем, с готовностью слушать и учиться, однако не вслепую, с желанием понять и принять, однако не на веру, – не для тех, конечно, которые все боятся, как бы их не заподозрили в отсталости, и поэтому все свои литературные мнения черпают из передовых парижских или лондонских журналов).
Не ждал я только того, что книга может показаться вздорной и вредной. А именно это и произошло. В ответ на статью о романе Лоренса я получил довольно много писем – больше, чем получал их после какой бы то ни было статьи за последнее время. Письма почти все – с упреками. Некоторые из них серьезны и несомненно искренни. Их бы стоило привести и разобрать, если бы это не заняло столько места. Авторы их нашли у Лоренса непристойность, но не почувствовали ничего другого… Ни глубокого его снисхождения к человеку, ни ужаса перед давящей, как крышка гроба, «механической» цивилизации, ни, наконец, – и это самое главное – добра и света, которыми для Лоренса проникнуто все, что создается и направляется природой. Но не буду с этими моими корреспондентами спорить – они до известной степени правы в своем возмущении: как Винкельман говорил, что «мы не настолько нравственны и не настолько безнравственны, чтобы ходить голыми», так и современный читатель, очевидно, уже не настолько чист и еще не настолько порочен, чтобы отнестись к книгам вроде той, которую написал Лоренс, без протеста.
Приведу одно письмо:
«Милостивый государь г. критик. Прочел любезного вашему сердцу “Любовника леди Чаттерлей“ и оного весьма не одобрил. Уж лучше бы подобные, с позволения сказать, сочинения выходили в советской России, где им и место. Не сомневаюсь, что это произведение будет с полным восторгом там переведено и издано в назидание скучающим ком сомольцам и комсомолкам. Оно там весьма понравится и если только заменить благородную леди обыкновенной совдамой, то в чистом виде получит ся образчик того "пафоса Москвы", о котором любят болтать поклонники советской культуры, познаю щие ее мерзости. Привет. К.»
Здесь в основе этого странного письма – глубочайшее недоразумение. Недоразумение это сильно распространено и о нем поэтому есть смысл поговорить. Вопрос, по-моему, очень интересный и для понимания того, что делается в России, важный.
Дело касается «пафоса Москвы».
Нельзя, конечно, ручаться, что книга Лоренса не будет издана в советской России. Кто знает, – может быть, и будет. Но с уверенностью можно утверждать одно: если бы это случилось, книга была бы принята критикой крайне отрицательно и, по всей вероятности, вскоре оказалась бы запрещена. О совпадении ее духа и темы со стремлениями советской культуры не может быть и речи: достаточно в эти стремления хоть сколько-нибудь внимательно вглядеться, чтобы пропасть увидеть. Я думаю, что письмо внушено лишь желанием или привычкой всякую «мерзость» – мнимую или действительную – относить на советскую сторону. Привычка понятная сама по себе, но обезоруживающая и ослабляющая тех, кто с советской культурой хотел бы бороться, – как ослабляет всякое заблуждение.
У Лоренса – коснусь в последний раз «Любовника леди Чаттерлей» – все построено на доверии к природе, на вере в нее и понимании человека как сложнейшего и тончайшего организма, который бесчисленным количеством нитей связан со всем вечно живым – и в смерти вечно обновляющимся – миром. Лоренс страшится, что эти нити порвутся: именно по ним, как по невидимым проводникам, входит в его творчество пленительная, земная, живая свежесть – то, что нельзя никакими лабораторными химическими опытами заменить; то, что из современных писателей больше всех других доступно Гамсуну. У Лоренса человек во всех ступенях своего развития остается животным – без всякого унизительного или обидного оттенка в этом слове. Вне «животности» человек медленно умирает. Чего же хочет советская культура, на что обращен «пафос Москвы»? Легкомыслием и «упрощенством» была бы попытка разрешить этот вопрос одной короткой, тут же импровизированной формулой. Эффектную, лапидарную формулу по любому из готовых теперешних рецептов придумать нетрудно – только не к чему это делать. Отвечу иначе. У всякого, кто много уже лет подряд читает советские книги и журналы, кто просматривает даже московские речи и резолюции, – с виду пустые, но все-таки показательные, – кто следит, одним словом, за тамошними идеями и настроениями, у всякого мало-помалу возникает уверенность: в Москве ненавидят природу… Ненавидят ее, не доверяют ей и, как врага, боятся ее. Это сказывается решительно во всем. Марксизм ведь в природе не дан. Возводя его в предельную и последнюю человеческую мудрость, советская культура с тревогой оглядывается: что за ним? Прочен ли фундамент? Она глубоко презирает биологию и отрицает за ней право считаться наукой о жизни, ибо в биологии ничего не говорится о классовой борьбе.
Эта основная, отправная точка «московского пафоса» приводит иногда к интересным и неожиданным явлениям. У нас, например, в так называемой «большой публике» распространено мнение, будто советская литература – как и советская среда – побила все рекорды распутства. О среде говорить сейчас не будем: среда не подчиняется партийным директивам и не отражает их. Но литература им в России покорна. И вот что характерно: советская словесность не только не распутна (в обычном смысле слова), она больна какой-то прямо-таки институтской щепетильностью в этом отношении, какой-то странной жертвенной нетерпимостью. Исключения бывают, но они лишь подтверждают правила. Бывает, что по грубости быта добросовестный и кропотливый бытописатель воспроизводит какую-либо «грубую» сцену. Но я сейчас говорю совсем не об этом, а об общем направлении литературы. Не надо делать себе иллюзий: советские идеологи вовсе не институтки и приличиями, как таковыми, нисколько не озабочены. Если бы кому-нибудь скопческое целомудрие советской словесности пришлось по душе, тот должен бы понять, что это лишь частный, случайный вывод из основного положения: недоверие к природе. В Москве боятся инстинктов и чувств, в Москве обращаются только к разуму, притом разуму одинокому, уединенному, забывшему о своем назначении освещать темные начала организма, бросившему их на произвол судьбы. Любовные отношения – частный случай. Не всякое внимание к человеку, воспринятому как разум и воля плюс нечто другое, в Москве осуждается как контрреволюционное. Была, например, у Всеволода Иванова замечательная книга: «Тайное тайных», сборник подлинно поэтических, прелестных и глубоких рассказов. Придраться в ней с узко-политической точки зрения было не к чему. Но зоркие блюстители порядка в советской литературе сразу отметили ее как опасную и преступную: они почувствовали у автора тяготение к стихии, т. е. к тому, в чем может раствориться и потонуть искусственно созданное, искусственно поддерживаемое представление о жизни. По-своему они были правы. Да и двухлетний спор вокруг пресловутой теории «живого человека», по существу, основан на том же, и показательно, что противники этой теории, в конце концов, одержали верх, несмотря на нелепость их доводов, поскольку спор ограничен был только литературой. Нельзя пускать «живого человека» в словесное творчество, надо создать образ человека условного, только строителя, только «партийца» – иначе клубок личных, психофизиологических переживаний окажется слишком запутанным и увлечет туда, где внезапно обнаружится шаткость всего дела революции и коммунизма. Литература без «живого человека» чахнет и зачахнет, но велика ли беда? Обойдемся! Вероятно, в Кремле рассуждают именно так, а если какие-нибудь особо ретивые дурачки в порыве восторга уверяют, что при новых влияниях литература как раз и расцветет, то ведь с дурачков нечего взять. Литература становится скудной, сухой, бесплодной. Решительнее всего она разрывает Толстым и лишь по недомыслию все еще нет-нет да и ссылается на Толстого. Было бы с ее стороны честнее и проницательнее, если бы она толстовские романы отвергла за их «бессмыслицу», или по тем же мотивам вообще, которые побудили еще Салтыкова-Щедрина презрительно отвергнуть «Анну Каренину».
Тема вражды к природе, конечно, шире вопросов литературы. В последнее время она начала открыто проникать в сознание некоторых московских писателей и рядом с темой личности и общества становится второй «осью вращения» советских споров, стоящих на более или менее значительной идейной высоте. Пожалуй, вернее будет охарактеризовать ее как тему «противоречия марксизма природе», несоответствия одного другому: вражда вытекает только как следствие. Если Горький сейчас так популярен, то отчасти потому, что необходимость борьбы со злой и косной стихией была всегда одним из лейтмотивов его творчества, уже подсушенного, обеспложенного и рационалистического. Укажу на два произведения, где тема затронута отчетливо: повесть Митрофанова «Июнь-июль» и драму Афиногенова «Страх». У Митрофанова разработка двусмысленна: он или боится говорить, или нетвердо знает, что сказать. Одна только фраза у него действительно достойна внимания, и неслучайно она обошла всю советскую печать, вызывая возмущение и удивление. Митрофанов говорит о своем герое:
«Он не Герта, ему надоело переводить великолепное косноязычие жизни на плохое марксистское наречие…»
Надо знать, что Герта – тип идеальной, стойкой коммунистки, забронированной от всех уклонов
Драма Афиногенова много зрелее. Это вещь умная и замечательная. Но автор решительно осуждает героя, профессора Бородина, который трагически противопоставляет естествознание марксизму и даже шире – революции. Кстати, любопытно, что речи профессора Бородина вызвали нападки на Павлова, который будто бы их невольно инспирировал. Павлов якобы утверждает первенство биологии перед идеологией, Павлов говорит о «позоре межлюдских отношений», имея в виду не только войны, но и борьбу классов. Это резко противоречит всему тому, на что обращен «пафос Москвы».
Пора подвести итоги сказанному. Это нелегко, потому что одна мысль вызывает другую: вопрос так сложен и еще так неясен, что никогда и не кончить бы, если попробовать разобрать его целиком. Похоже на то, что в Москве совершается самое «умышленное» дело, которое когда-либо было совершено, – в том смысле, как Достоевский говорил о Петербурге, что это «самый умышленный город». О содружестве и сотрудничестве с жизнью, хотя бы и подчиненном рассудку, там не хотят и слышать, там ведут войну якобы «до победного конца». Воюют хитро, осторожно. Недавно чествовали Гете, например… Между тем, тот, кому была «звездная книга ясна и с кем говорила морская волна», непримиримо враждебен всему советскому мироощущению. Гете входит в мир не как его завоеватель, а как устроитель, друг и брат. Но нельзя же все точки ставить над i; чествуют. Знаменитый писатель все-таки, гордость Европы, – неудобно же прослыть варварами. И так чуть ли во всем. Осторожность пока необходима… Но борьба идет жесточайшая, и в Москве хорошо знают, что природа и вообще естественные органические начала бытия могут, как океан, поглотить в один прекрасный день все построения рассудка, с которыми они окажутся «не согласны». Вот почему в Москве хотят природу остановить, парализовать. И вот почему там, пожалуй, никогда не будет издана книга бедного мечтателя, одинокого и больного защитника природы – Лоренса.








