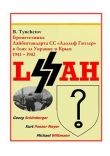Текст книги "Партизанская быль"
Автор книги: Георгий Артозеев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Однажды после боя у нас в лагере появилось новое, необычное лицо. Интересно, наверно, было поглядеть со стороны на этого человека, когда он сидел среди нашего брата у костра. Смуглый, черноволосый, с тонким носом с горбинкой – сразу видно, что не русский и не украинец.
Попал он к нам в отряд не совсем обычным путем.
При разгроме полицейского гарнизона в Гуте Студенецкой в числе прочих документов нами было захвачено распоряжение немецкого майора. В нем говорилось, что полицейские части должны перейти в подчинение командира мадьярского батальона Кемери, штаб которого прибудет в село Ивановку.
Проверили. Действительно – там только что расположились сотни две мадьяр, да и полицаев не меньше, будя по всему, все это на наши головы. Командование решило карателей не дожидаться.
На рассвете три наши роты окружили Ивановку и застали противника врасплох. Мы так стремительно опрокинули посты и влетели на деревенскую улицу, что мадьяры не успели даже одеться.
Какой-то усатый офицер выскочил из хаты босой, в одних кальсонах и побежал по селу Слобода. Многие, в чем были, попрятались по сараям, чердакам и погребам. – Другие пытались скрыться под женской одеждой – напяливали на себя платки и шубейки колхозниц.
Несмотря на растерянность, охватившую карателей в первые минуты, они все же опомнились и кинулись обороняться. Бой получился серьезный: у противника немало станковых и ручных пулеметов, автоматы почти у каждого солдата. Мы начали нести потери.
Но произошла неожиданность: мадьярский пулеметчик, поставленный на оборону штаба, встретил бежавших к нему по тревоге на помощь солдат огнем. Сцену эту наблюдали только те наши бойцы, которые вели бой в непосредственной близости к штабной хате. Поэтому, когда все уже было кончено и победа осталась за нами, с мадьярским пулеметчиком, повернувшим оружие против фашистов, наши партизаны обошлись довольно сурово. Его сочли уцелевшим по недоразумению и как бы это сказать? Ну, словом, сунули ему сгоряча пару тумаков.
Пулеметчик сразу завоевал симпатии тем, что нисколько не обиделся на это. Он так и сказал, что считает подобный прием неизбежным делом. Свидетели происшествия у штабной хаты доложили командиру о поступке мадьяра; была дана команда «знакомство» отставить, и мадьяр покинул Ивановку в наших рядах.
Первый день после боя было не до него. Мы потеряли в этой операции одиннадцать человек и среди них всеми любимого и уважаемого командира первой роты – Сидора Романовича Громенко.
Многочасовой бой, похороны товарищей – все это заставило нас разойтись по землянкам без всякого интереса к судьбе мадьяра. У нас было кому им заняться в штабе.
По вот прошло несколько дней, и мы стали знакомиться с перебежчиком по-настоящему.
Это был очень общительный, даже восторженный человек лет сорока пяти. Он охотно поверял каждому партизану историю того, как решил перейти на нашу сторону, как трудно было заставить себя стрелять по своим, но, что делать, это необходимо, – он давно понял, на чьей стороне правда. При этом мадьярский пулеметчик с такой страстью доказывал нашу правоту, а тем самым и свою, что невольно становилось смешно: получалось, что он агитирует нас за партизан!
Миша, как его вскоре стали все называть, знал немного русский язык. Нещадно коверкая слова, дополняя их жестами, он рассказывал, как его народ ненавидит Хорти, как мадьяр силой заставляют воевать за Гитлера и как плохо живется трудовому народу на его родине. Сам Миша был, уж не помню точно кто по профессии, кажется, булочник.
Выяснилась интересная подробность Мишиной жизни: оказалось, что он уже бывал в нашей стране. В прошлую войну Миша вместе с чехословаками перешел к русским; потом с чехословацкими частями принимал участие в гражданской войне, но перешел на сторону красных. Он служил в одной части со знаменитым чешским писателем Ярославом Гашеком, автором книги о похождениях бравого солдата Швейка. То и дело Миша говорил, что он сам – наполовину чех, славянин, наш брат по крови. Вообще он любил пышно выражаться, что было для наших ушей непривычно. Он много рассуждал о славянской доблести, верности, о том, что будет драться вместе с нами плечом к плечу, до последнего дыхания.
Среди партизан не было принято употреблять такие сильные выражения, щеголеватые фразы, и мы не умели их принимать всерьез.
Тем не менее слушали с большим интересом Мишины рассказы о жизни в европейских странах: он бывал в Чехословакии, Болгарии, Румынии, Франции. Он в свою очередь жадно расспрашивал бойцов о нашем довоенном житье.
За разговорами у костра настоящим партизаном не станешь. Слушать-то мы Мишу слушали, но признали только тогда, когда проверили в деле. Оказался молодцом. Стойко держался в бою. Только не очень соблюдал законы воинской дисциплины. Но это рядовые партизаны ему прощали. И еще всем пришлось по вкусу, что он прекрасно владел оружием иностранных марок, которого наши бойцы терпеть не могли.
В том же бою, в котором Миша перешел к нам, было захвачено четыре станковых и восемь ручных мадьярских пулеметов. Все радовались трофеям, но никто не проявлял желания получить их. Взять хотя бы меня: еще в Добрянском отряде после неудачных выходов с польским пулеметом я так привязался к своему «дегтярю», что ни на какое другое оружие и смотреть не хотел. Так же и остальные товарищи.
Тут-то Миша и оказался весьма полезным. Он охотно учил пулеметчиков работать с иностранными образцами оружия.
С успехом Миша занимался еще одним важным делом: писал листовки к своим соотечественникам. Он призывал их следовать его примеру, переходить на сторону партизан. Десятки его обращений распространяли наши связные.
Вскоре стал известен приказ Коха, обязывающий немцев вести строжайшее наблюдение за чехами и мадьярами: не ходить в строю впереди них во избежание удара в спину; запрещать отлучаться из части; заподозренных в неблагонадежности – расстреливать без суда.
Наш Миша гордился тем, что внес свою долю в создание духа неблагонадежности у бывших товарищей по оружию. Он был так увлечен своей новой работой, что для большей силы воздействия написал несколько вариантов в стихах. Командование не разделило его поэтических восторгов, и он возвратился к прозе. Правда, после этого Миша со стихами уже не расставался и, чтобы командиру и комиссару было все понятно, сам переводил свои стихи на русский язык. Только он начал сочинять их, так сказать, «для внутреннего употребления». Поклонников его таланта было мало; партизанам больше нравились вирши деда Степана Шуплика – ездового нашего штаба. У деда получалось понятнее, проще, ближе к сердцу. Миша же изъяснял свои чувства в высокопарном стиле, и я даже не запомнил ни одного его произведения, кроме последнего, которое записал и храню до сих пор. Но об этом после.
Итак, мадьяр Миша совершенно освоился с нами, а мы с ним. Он как равный друг и товарищ провоевал вместе с нами всю зиму.
Однако мне все время казалось, что Мишу больше всего увлекает отсутствие строгого регламента – беспорядочная сторона партизанской жизни. Он вырвался из-под палочной дисциплины своей армии и радовался всякой возможности отступления от дисциплины вообще. К тому же некоторая исключительность его положения тоже содействовала всяким поблажкам: им восторгались, но совсем не воспитывали его. А он до последнего дня так и не выходил из состояния восторженности.
И вот случилось.
Когда настала летняя пора, в хорошую, теплую ночь Миша отправился с хлопцами из хозяйственной части на заготовки продуктов.
Едва мадьяр увидел, с какой лаской и радостью население встречает партизан, с ним сделалось что-то невообразимое. Особенно его тронуло, что люди, против которых воевала армия его страны, поняли его и даже радуются вместе с ним тому, что он сумел уйти из-под фашистского влияния и подчинения.
Колхозники выносили свои запасы, доставали припрятанные на особый случай бутылки с самогоном и от души угощали партизан, а вместе с партизанами, конечно, и Мишу. Миша чуть не плакал, кланялся хозяевам в ноги и, проходя по селу, безотказно принимал угощения у каждой хаты. На его беду самогона в селе наварили немало. Везде ему подносили стаканчик, и везде он пил, плакал и смеялся от умиления и восторга.
Дело было, как я уже сказал, ночью. Обоз собрали; пора было уходить. Часть подвод ушла раньше. Когда сделали перекличку – Миши среди партизан не оказалось.
– Вот тебе и раз! – рассуждали наши хлопцы. – Неужели надумал опять на другую сторону перебегать? По своим соскучился?
– Нет! – возражали другие. – Что он мог соображать о какой-то перебежке? Он так выпил, что ни «папа», ни «мама» сказать не мог.
И тут же нашлись свидетели того, что один из ездовых, уехавших вперед, подсадил Мишу на свою подводу.
Тогда наши спокойно попрощались с селянами и отправились домой в лес.
Но в лагере Миши не оказалось.
Все партизаны были очень обеспокоены. Разведчики кинулись на поиски. И вот что они узнали.
Рано утром в село, где мы накануне проводили хозяйственную операцию, приехали гитлеровцы. Поставив машину во двор одной из хат, обратили внимание на гром» кий храп, слышный из сарая. Там спал Миша.
Свалился ли он с телеги, на которую его подсадили? Соскочил ли с нее по доброй воле, желая еще раз поблагодарить жителей села? Это осталось неизвестным.
Жаль было Мишу. Его полюбили за веселый и незлобивый нрав, за простоту, за храбрость в бою. И себя мы ругали. И опасались: как-то он себя поведет, оказавшись в лапах у гестаповцев? Миша долго пробыл с нами, многое знал, – а ведь не всякий, кто мужественен в бою, проявляет такое же мужество в застенке. Очень мы горевали, что Миша пришел к такому печальному концу. Впрочем, конца мы еще не знали.
Прошло время. Немало провели боев, немало погибло боевых друзей. О мадьяре вспоминали реже. Среди партизан появились люди и вовсе его не знавшие.
И вдруг то в одном, то в другом месте селяне заводят разговор о храбром мадьяре-партизане, о его героической гибели. В каждом селе рассказывали по-своему, но так или иначе – имя Миши стало почти легендарным. Ему приписывали подвиги, которых он никогда не совершал. Но в описании его последних дней чувствовалась правда. Все рассказчики единодушно утверждали, что мадьяр погиб смертью героя.
Одни говорили, что он перед казнью плюнул коменданту тюрьмы в лицо, другие – что бросился на него с кулаками, третьи – что опрокинул стражу и пытался бежать.
Рассказывали, что немцы сочли его просто за дезертира и собирались отправить в штрафную роту.
Но он не захотел воспользоваться этой ошибкой. Заявил, что он партизан, и принял смерть, как герой.
Это была правда: позже к нам в отряд попал человек, сидевший в той же тюрьме, где замучили Мишу. Мы узнали подробности его казни.
Этим же человеком (его зовут Павел Черкасов) мне были переданы последние слова Миши. По просьбе мадьяра Черкасов записал их. Вот они:
«Нас Хорти отправил сюда воевать. Заставил за немцев стрелять. Но правду я понял, повернул пулемет и сам стал фашизм истреблять.
Партизаны! Вам мной клятва дана. Держу ее до последнего дня.
Не выпадет счастья на долю мою. Нет сил крылья раскрыть, и тут я умру.»
Они не вернулись
Еще ранней весной сорок второго года, когда только начало припекать солнце и не сошел снег, я пережил очень тяжелый, нелепый случай, отнявший у меня хорошего друга, лишивший весь отряд одного из лучших подрывников. Если бы это произошло в стычке с врагом, у нас оставалось бы по крайней мере то утешение, что погибший выполнил свой долг; что мы были рядом и, так же как и он, подвергались опасности; что, наконец, его жизнь не дешево стоила врагу. Но тут.
Лейтенант Березин получил задание заминировать просеку, ведущую к нашему лагерю. Он был минер армейской выучки, артист своего дела, учитель многих наших партизан. Я вызвался пойти вместе с ним. Не для того, чтобы помочь, а просто – подучиться, еще раз присмотреться к его работе.
Мы весело дошли до места. День был добрый, ясный, работа предстояла нетрудная. Всю дорогу мы вспоминали, как проводили в детстве такие погожие деньки. Березин очень любил ходить на лыжах и сказал, что после войны обязательно займется лыжным спортом.
Пришли на место. Выкопали в снегу ямку. Установили в ней ящик с толом – самодельную мину. Присыпали снегом. Потом Саша привязал белую шелковую нитку от парашютного стропа к взрывателю и веточке. Сделал так, что и опытный сапер ничего не приметит.
Мы отошли в сторону полюбоваться, и я еле нашел место, где лежит мина.
Двинулись в обратный путь. Березин то и дело оборачивался – проверял впечатление. Вдруг говорит:
– Ах, черт! Надо возвращаться. Забыл, понимаешь, одну штуку сделать. Ты погоди, а я пойду исправлю.
Я хотел пойти тоже, но Березин запретил.
– Не мешай. Еще наступишь куда не надо.
Он пошел. Подобрал полы своей шинели, работает. Потом говорит:
– Теперь – класс! – и стал подниматься. Пола шинели свалилась с его колен, упала на ниточку.
В ту же секунду меня сильно подбросило, перед глазами метнулся столб черного дыма с огнем, я потерял сознание.
Когда пришел в себя, Березина нигде не было. Дым заслонил буроватым облачком солнце. Вверху, на ветке, я увидел кусок мокрой шинели.
Бессмысленность случившегося ужаснула меня. В глазах было темно, в голове шумело, сердце стучало часто, грудь стеснило так, что я никак не мог набрать полного вздоха.
Я продолжал оглядываться по сторонам, все чего-то искал. Па дороге еще виднелись следы, только что оставленные нами обоими. Но я был один.
Зачем я отпустил его? Как мог сделаться безучастным свидетелей этого нелепого случая? Было такое чувство, что во всем виноват я. Как теперь возвращаться в лагерь? Как рассказать?
Тогда мне казалось, что если б Березин погиб в бою – мне было б легче смириться с его смертью. Но прошло немного времени, и случились две новые беды разом: мы потеряли храбрых разведчиков – Аркадия Савчука и Петра Романова. Они не вернулись из разведки.
Савчук упал мертвым после того, как уложил одиннадцать фашистов. Романов, отбиваясь от врагов, убил себя последней пулей.
Оба погибли, как герои. Они исполнили свой долг. Но остаться без наших славных друзей было так тяжело, что никакое число убитых ими гитлеровцев не казалось достаточной ценой за их жизни.
Мы часто говорили на эту тему с Иваном Деньгубом, пытались разобраться – какая смерть неизбежна, почетна, какая бессмысленна, нелепа. Память о Березине, Романове и Савчуке была нам одинаково дорога. Правильно ли это? Мы долго искали ответа на свой вопрос, но так и не решили ничего толком. Правда, однажды, кажется, были близки к истине, но Ивана послали па задание. Когда он уходил – попрощался и в раздумье сказал:
– Знаешь, вот я вернусь – поговорим с комиссаром. У нас, может быть, просто не хватает теоретической подготовки, чтобы самим разобраться.
С этого задания Ивана принесли тяжело раненого.
Его окружили врачи, медсестры с бинтами, по никто ничем не мог помочь.
Я рад был бы принять на себя часть его боли. Он словно понимал это. Он смотрел блестящими, расширившимися глазами на друзей, будто искал, за что бы уцепиться, продлить свою жизнь пусть на часок, хоть на минутку. Качал головой, тянул вперед руку. Но страдания обессилили его. Рука упала. Иван почуял неминуемую смерть. Просит: «Пристрелите меня, товарищи! Помогите, – не могу страдать больше. Пристрелите! Все равно не жить мне на свете. Без меня довоюете, дорогие товарищи.»
Но разве мог кто сделать это? Я стоял, глядя на любимого друга. Взял его руку в свою, будто мог передать ему живое тепло, которым мы с ним всегда делились. Сколько раз нас заливало дождем, засыпало снегом, а мы прижимались друг к другу так, что воды между нами не прольешь. Лежали, как родные, от одной матери братья, воевали дружно, как одного отца сыны. На двоих у нас была одна ложка и фляжка. Он – второй номер моего пулемета, и оба мы – разведчики. Поклялись не расставаться после победы – вместе так же дружно работать, как били врага.
И вот я вижу, как лицо Вани начинает бледнеть, в серых глазах его исчезает прежний блеск, они движутся медленно, лениво.
Он скончался, окруженный товарищами. Тело обернули той солдатской палаткой, под которой мы вместе спали. Похоронили под величавым дубом. Насыпали невысокий холм.
Когда я бросил последнюю горсть – не знал, куда мне от могилы повернуться, куда пойти, что сделать. Мне казалось, что держу его руку, и делалось холодно, будто он унес частицу моего тепла. Я был сам не свой. Все потери последнего времени стояли перед моими глазами. Сердце болело за погибших, разум отказывался справиться с этой болью. В таком состоянии я не сумел придумать ничего лучше, как обратиться к спирту.
Мне удалось раздобыть довольно изрядную порцию. Я позвал Ваню Кудинова, еще двух товарищей и устроил поминки. Крепче всех приложился сам, – думал отогнать одолевшую меня тоску. Но ничего не помогало, и все мои путаные мысли и обиды оставались со мной.
Надо было случиться, чтобы во время этих горестных поминок меня вызвали в штаб. Состояние у меня было, конечно, не строевое, и я понимал это. Однако пошел. Предстал перед глазами командира.
До сих пор не знаю, думал ли товарищ Федоров послать меня на задание или ему кто-нибудь доложил, что мол Артозеев устроил во взводе пьянку.
Встал я перед товарищем Федоровым и ожидаю изъявления его командирской строгости, как в данном случае подобает.
– Что празднуют разведчики? – спросил у меня Федоров.
– Нету, – ответил я. – Праздника нету. Такие наши товарищи погибли, что и живой себе места не найдешь. У нас – поминки, товарищ командир. И тут из глаз моих полились слезы.
Алексей Федорович, как отец родной, усадил меня за стол. Приказал принести обед и чарку. Тут же были товарищи Новиков, Дружинин и другие его помощники.
Меня растрогало, что Федоров разгадал мое состояние.
Командир постучал своим стаканом по краю моего и сказал:
– Давай выпьем за погибших героев-партизан и нашу победу! Я пьяниц не люблю, да среди нас пьяниц и нету. Иногда и беремся за чарку, а дело делаем!
Я чувствовал себя стесненно в такой семейной обстановке за одним столом с командиром, которому партия доверила руководство партизанами во вражеском тылу. Но Алексей Федорович разделил мою скорбь как друг, выслушал мой рассказ о страданиях из-за гибели Вани, Аркадия и Пети.
А про гибель Саши Березина сказал так:
– Нет на войне бессмысленной смерти, кроме той, какая настигает трусливого беглеца. Такая гибель не только бессмысленна, но позорна. Лейтенант Березин отдал свою жизнь, исполняя долг. Он стремился как можно лучше справиться с боевым заданием и погиб за нашу общую победу. Надо учиться работать, как он только будьте осторожны до той последней капли, которой ему не хватило.
Товарищ Федоров призвал меня быть во имя павших товарищей еще беспощадней к фашистам. У меня ненависти было достаточно, но слова командира разволновали меня, подняли во мне новые силы и решимость.
Я ушел из штаба совершенно протрезвевший, словно с умытой душой.
Мед бывает разный
Уже несколько дней мы стояли на новом месте и питались только грибами. Поэтому, когда я получил приказ идти с группой на разведку в ближайшее село, товарищи нам завидовали: будут у нас неприятные столкновения или нет – неизвестно, но уж если попадем в какую-нибудь хату – покормят наверняка.
Село неподалеку от леса. Скоро мы подошли к нему. Жители спали. Только в одной хате блестел огонь. Поглядели в окошко: молодая женщина качает ребенка. Больше никого. Решили постучать.
Женщина накинула на маленького платок, вышла с ним на улицу. Увидев нас, заплакала. Ее муж недавно был расстрелян за связь с партизанами.
Мы узнали, что на селе гитлеровцев нет, а начальствуют староста да четверо полицаев. Такие силы нам не страшны. Поблагодарив хозяйку, мы свободно пошли по улице. Вызывали хозяев других дворов, проверяли и получали нужные сведения. Население встречало нас радостно, по улице пошел шум: «Партизаны пришли». Услышав это, полицаи со старостой убежали в лес. Мы же спокойно расположились в доме, где нам накрыли на стол. Люди расспрашивали нас и рассказывали сами.
Когда беседа шла к концу и мы начали собираться, молодая девушка комсомолка Вера сказала:
– Во дворе уполномоченного по заготовкам продуктов для немцев накоплено пудов шестьдесят меда. Заберите его, товарищи партизаны, или уничтожьте! А то не сегодня-завтра отправят в район и достанется этим гадам.
Остальные подтвердили это и поддержали просьбу комсомолки. Вера указала на дом.
Услышав, что пришли партизаны, хозяин удрал куда-то на огороды через окно, да мы и не особенно им интересовались. Нас встретила хозяйка. В избе было темно. Женщина суетилась, бегала из угла в угол, будто искала спички. Она так и не нашла огня и, видимо, рассчитывала, что мы с тем и уйдем. Но Саленко посветил ей сам, чтобы она увидела, что в хату к ней пришли не детки в прятки играть, а семь хорошо вооруженных партизан.
Едва блеснул огонек, взбудоражилась туча спавших где-то мух. Они летали, с жужжанием ударяясь о наши головы: жж-ж-жж-бу-бу!
Где у вас заготовленный для немцев мед? – прямо спросил я, отгоняя от лица сытых, жирных мух.
В ответ хозяйка ударилась в слезы, перекрестилась на угол, где висели иконы, и быстро-быстро заговорила:
– Прости и помилуй нас господи!.. Снова сволочной народ посылает нам погибель! Поверьте, господа, или вы кто, товарищи? – нам жизни не дают, ну и народ! У нас в селе готовы человека в ложке воды утопить! Никогда меда у нас не было и нет. Это все деревенские сплетни. Люди завидуют, что муж мой дома, поэтому с нами и враждуют. Ах, сколько я уже через него, идиота, перетерпела горя! – трещала она, продолжая всхлипывать. – Пусть только завтра утром приведет коня, я ему скажу – иди от меня куда хочешь, чем мне через тебя мучиться!
Она утирала подолом нос и глаза и пересыпала свои слова бранью по адресу односельчан, твердила, что меду нету.
Партизан Юрченко, скромный, еще не искушенный молодой товарищ, не отличал настоящие слезы от поддельных. Он сказал мне на ухо:
– Товарищ командир, тут ничего, видимо, нет! Видите, как она горько плачет?
А боевая хозяйка, несмотря на то, что нас в хате было полно, не терялась – всех хотела обмануть. Слова сыпала как автомат.
На мое последнее требование она ответила ловко: подошла к кухонной полке, отдернув занавеску, достала кувшин меду. В нем было килограмма два. Поставила на стол и сказала:
– Если вам уж так хочется медку, то я вот вчера на базаре выменяла на платок. Для больного ребенка. Скушайте последнее – и идите себе с богом!
Никто к кувшину, стоявшему на столе, не подошел. Даже любитель сладкого Саленко, который мог миску моду съесть, воздержался.
Юрченко первый вышел в сени: считал, что вопрос ясен. Саленко вышел вторым и посветил, чтобы открыть дверь. В сенях стоял большой незамкнутый сундук.
– А что здесь хозяйка? – спросил Саленко.
– Старое тряпье.
По сундуку ползали пчелы. Саленко приподнял крышку: полно неоткачанных рамок! Здесь же, в темных сенях, обнаружили четыре бочонка с медом. Неподалеку стояла медогонка и куча пустых рамок.
– А это что, немецкие служаки? – громче всех закричал Юрченко. Он, кажется, готов был теперь разорвать хозяйку в клочья.
– Открывай амбар! – приказал я хозяйке.
– Хозяин с собой ключи унес. – вяло ответила она. Но мы догадались поискать ключи на обычном месте: при входе в хату с левой стороны двери. Они были там.
В амбаре оказалось столько бочонков, что не пройдешь. Все полны, закрыты, приготовлены к отправке. Ребята выкатывали их на улицу, двое побежали спросить по соседям подводы.
Хозяйка вертелась в амбаре, старалась закрыть собой бочонки:
– Тут уж больше нет!
А мы еще обнаруживаем. Потом она расщедрилась и произнесла:
– Раз уж так – берите весь мед. Вон еще три последних бочонка стоят возле закрома! Да езжайте поскорей со двора, неровен час, немцы приедут, так всем плохо будет!
Говоря это, она пятилась, загораживая собой угол амбара.
– А что позади тебя?
– Ей-богу, ничего нет. Вещи и посуда.
Она стояла упрямо, и Юрченко хотел оттолкнуть ее в сторону.
Сопротивляясь, эта женщина упала на то, что загораживала. Она села в широкий, низкий деревянный чан, полный свежего, еще не засахарившегося меда. На наших глазах она утонула в нем по шею.
Партизаны разрубили топором обручи чана. Мед расплылся, хозяйка кое-как поднялась. На сарафане ее нависло немало душистой клейкой массы.
Когда весь мед был погружен, я сказал на прощанье:
Вот видишь – мед бывает разный: вашего мы бы не взяли. А ты старалась нас обмануть кринкой для ребенка! Теперь гляди – на одном сарафане больше пуда повисло, и нам кое-что досталось. Медок поделили хорошо, и все довольны. Скажи лучше своему мужу, чтобы бросал работу на немцев, а брал в руки оружие и бил их! Тогда народ на селе против вас не пойдет. И ни в ложке воды, ни в бочке с медом не утонешь!
Переданный нам народом мед мы доставили в лагерь благополучно.