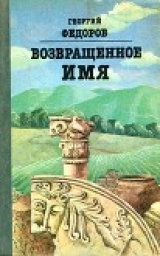
Текст книги "Возвращенное имя"
Автор книги: Георгий Фёдоров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
И я остался, о чем ничуть не пожалел. После изумительных женских статуэток витрины с мужскими статуэтками произвели на меня меньшее впечатление. Хотя они и не уступали женским ни в реализме, ни в совершенстве выделки. Подошли мы к витрине и со статуэтками детей. Озорные, смышленые, полные жизни личики.
А вот, в полный голос, зарыдали, захохотали, запели перед нами терракотовые маски актеров. Все чувства на этих масках преувеличивались, гипертрофировались. Однако великим скульпторам маленьких статуэток удалось и в масках передать сложнейшие сочетания эмоций: сарказм и добродушие, гнев и печаль, веселье и задумчивость. Чувствуя, что я уже не способен ничего больше воспринимать, я хотел было пройти мимо последней витрины, но, остановившись, как думал, на минуту, провел около нее чуть ли не час. В этой витрине были выставлены статуэтки животных и птиц: утка, голубь, петух, теленок, щенок, пантера, лев, баран, бычок, лошадка и другие.
– В этих статуэтках есть какая-то особенность. Они не похожи на все остальные. Какие-то части тела подчеркнуты или слегка изменены, и от этого фигурки становятся очень милыми и смешными, как зверьки Уолта Диснея. Будто они сделаны не всерьез, для забавы.
– Вы заметили это? – обрадовался Помонис – Ведь это игрушки! Их тоже делали настоящие художники. Они хорошо понимали детей и не навязчиво, но увлекательно и нежно говорили им о любви к животным, воспитывали в них эту любовь. К сожалению, на этих, как и на всех остальных статуэтках сохранились только следы красок, которыми они были расписаны в древности. Игрушки были особенно яркими и живописными.
Из зала с античными терракотами я вышел пошатываясь и, не глядя ни на один экспонат, прошел, не останавливаясь, все остальные залы и очутился на улице. С наслаждением вдыхая морской воздух, подставив лицо ветру, я несколько минут молча стоял на ступеньках музея.
После этого, попрощавшись с молодыми людьми, мы с Помонисом спустились вниз к морю. Там уселись мы на затененную скамейку, стоявшую между несколькими деревьями в полукруге из густого кустарника. Постепенно стало темнеть. Засветился стеклянный купол невысокого, но обширного здания, стоявшего у самого моря. Здание это я заметил еще утром и спросил Помониса, что это такое. Помонис в ответ довольно небрежно ответил:
– Это наш аквариум.
– Да, да, – вспомнил я, – ведь мне еще в столице говорили, что у вас в городе замечательный аквариум, чуть ли не лучший на всем побережье. Я обязательно хочу его осмотреть. Вы не знаете, когда он открыт?
Помонис, как-то странно посмотрев на меня, медленно процедил в ответ:
– Для вас – всегда.
Я понял, что тут что-то скрывается, но решил подождать, пока он сам мне все объяснит. После ужина мы с Помонисом бродили по пустынной набережной рано засыпавшего города.
– Я знал, что в музее есть коллекции античных терракот, – неожиданно для себя самого сказал я, – но не представлял себе, что она такая богатая. Как она образовалась?
– Вижу, что вы уже отдохнули, раз снова стали интересоваться музеем, – пробормотал Помонис.
Потом, положив обе руки на каменный парапет и глядя прямо перед собой на фосфоресцирующие волны, сказал:
– Эту коллекцию я собирал всю жизнь. Всю жизнь, кроме нескольких лет последней войны. Еще в юности я увлекся статуэтками из Танагры – тогда прошло всего несколько десятилетий, как их открыли. Они покорили меня своим художественным совершенством, своей необыкновенной человечностью, своей резко выраженной индивидуальностью. Подумайте, среди множества статуэток, прошедших через мои руки, я никогда не встретил двух одинаковых, хотя их и делали в формах. Значит, были близнецы, вышедшие из одной формы! Но я их не нашел. Да, всю жизнь я собирал эти статуэтки. Каждая из них могла бы многое рассказать о своей удивительной судьбе. И у меня были связанные с ними и радость находок и горечь утрат. В этой коллекции мало статуэток собственно из Танагры, из Афин и других городов Греции. Большинство наших статуэток из греческих колоний. Качеством они уступают подлинным танагрским, но и они прекрасны. И теперь у них есть свой постоянный дом. Дом, в котором они живут. Где они сейчас спокойно спят после целого бурного дня.
Я подумал, что этот странный человек говорит о статуэтках, как о живых людях.
Последующие дни были заполнены работой в музее. Помонис и его ученики приняли меня дружески. Всего несколько дней я был знаком с ними, а они стали уже близкими людьми. Думаю, что то радостное возбуждение, которое я тогда испытывал, происходило совсем не только от замечательных материалов, над которыми довелось поработать в музее. Что было причиной нашего стремительного сближения? Общность интересов и отношения к жизни, их дружеское внимание, та их абсолютная естественность, которая встречается так редко. Первое знакомство быстро и просто развивалось в настоящую дружбу, и, видно, ничто не сможет ее прервать. Вскоре я поймал себя на том, что назвал Марианну не по имени, а «Галка», как звали ее Помонис и ребята. Я смущенно извинился, однако Галка в ответ только улыбнулась своими синими глазами и весело бросила:
– А как же иначе? Меня все наши так зовут! – И этим ответом привела меня в восторг.
Вместе с Галкой побывали мы ив аквариуме. С трудом пробились мы к центру здания аквариума через многочисленные группы туристов, среди которых было немало иностранных. Щелкали затворы фотоаппаратов. Вспыхивали блиц-лампы. В центре находился огромный бассейн. Он через зарешеченную подземную трубу мог сообщаться прямо с морем. Бассейн был подсвечен невидимыми источниками рассеянного света откуда-то снизу и с боков.
В этом неверном свете мелькали скаты. Они, развевая мантию, стремительно проносились из одного конца бассейна в другой и бешено тормозили на разворотах, так что вскипала вокруг них вода. Им составляли компанию акулы и еще какие-то большие хищные рыбины. По стенам аквариума шли огромные, ярко освещенные откуда-то сверху окна, за каждым из которых плавали самые различные породы рыб, морские коньки, ползали раки-отшельники, прыгали креветки. Множество всевозможных водорослей медленно покачивалось.
– Здесь как будто чувствуется рука профессора Помониса, – сказал я Галке. – Хоть это совсем другая область, но тот же артистизм, художественное чутье…
– А вы разве не знали? – удивилась Галка. – Профессор сам строил этот аквариум. Он и здесь директор. Это у нас одно из самых доходных предприятий в городе.
– Как это так? – в свою очередь удивился я.
– Город только еще начали восстанавливать после войны, когда профессор создал проект аквариума. Многие считали, что это утопия, но профессора поддержал секретарь обкома. А энтузиастов-строителей хватило с лихвой.
Так постепенно открывались для меня все новые грани необычной биографии Помониса…
Однажды теплым вечером, после работы, очутились мы с Адрианом на пляже. Я уже успел подружиться с этим умным и славным малым, у которого странно сочетались серьезность и обширность познаний с мальчишеством, глубокая любовь и уважение к своему учителю с желанием его разыгрывать и посмеиваться над ним.
Вдоволь накупавшись, мы лежали на мохнатых полотенцах, лениво перебрасываясь ничего не значащими фразами. Наконец я решился. Пересказал странную речь, с которой обратился ко мне швейцар музея, и спросил:
– Что все это значит? Этот старик, швейцар, он что, не совсем?..
– Нет, нет, – рассмеялся Адриан, – со швейцаром все в порядке. Это профессор не совсем, а вернее, совсем не укладывается в прежние нормы.
– Что это значит?
– Он действительно был помещиком. Какие-то далекие предки его – выходцы из Греции – издавна поселились здесь и постепенно прибрали к рукам обширные угодья. Так что он с самого рождения стал одним из крупных придунайских землевладельцев. Вдруг в начале тридцатых годов он без всяких видимых причин роздал все свои земли крестьянам.
– А каковы же были причины?
– Видите, – улыбнулся Адриан, – профессор все объясняет своим увлечением терракотовыми статуэтками. Дескать, они его научили добру, справедливости, бесстрашию и еще множеству всяких качеств. Только на самом-то деле тут, конечно, обратная связь.
Я не понял, что собственно хотел этим сказать Адриан, но промолчал, чтобы не прерывать столь интересного для меня рассказа.
– Во всяком случае, – продолжал Адриан, – дело это получило широкую огласку. О нем говорили, говорили по-разному не только в нашем крае, а даже в самой столице. Многие не одобряли действий профессора, а один из министров реакционного правительства, стоявшего тогда у власти, даже назвал его большевиком. Так что швейцар сказал правду.
– А что же было потом?
– Подождите. Профессор тогда же предпринял еще один шаг. Он прошел почти незамеченным, но имел важные последствия. Профессор в столичном университете учредил три стипендии для крестьянских детей, выходцев из этой области. Между прочим, среди людей, которые благодаря ему получили образование, и нынешний секретарь обкома партии.
– Ну и как? Помогает вам это? – полюбопытствовал я.
– Да как сказать… У нас в городе вообще очень многие любят профессора и стараются нам помочь. Вот когда строили музей, то тут сотни людей добровольно и бесплатно помогали нам.
– А вы что же, сами своими руками здание музея строили? – удивился я.
– Да, конечно, – как о чем-то само собой разумеющемся ответил Адриан, – Сами строили, сами собирали экспонаты, теперь сами ведем раскопки. Но нам очень многие люди помогают.
– Ну, а что же все-таки было с профессором после того, как он роздал земли?
– Следом за высшими властями его стали ругать и власти поменьше, даже некоторые газеты нелестно отозвались о нем. Может быть, это навело его на мысль, а может быть, и что-то другое, только профессор вскоре основал свою собственную газету. Знаете, – оживился Адриан, – мне отец рассказывал, что эта газета сразу же завоевала популярность. Профессор сам был и издателем, и редактором, и одним из авторов. Он публиковал новости, разные приключенческие и детективные истории, но и статьи, призывающие к демократии и гуманизму. Нам угрожала тогда фашизация страны, и статьи профессора предостерегали против этого. Вот за одну из таких статей газету закрыли. Только профессор не сложил оружия, а во время войны взялся и за самое настоящее оружие. Раненный, попал в плен. Чудом спасся из нацистского концлагеря…
– Да расскажите же поподробней!
Но Адриан ответил извиняющимся тоном:
– Подробно я и сам не знаю, ведь тогда я был еще мальчишкой. А профессор не особенно охотно вспоминает прошлое, – он всегда захвачен тем, что делает сейчас, и новыми проектами.
– Ну да, археолог, изучающий прошлое, не интересуется им в масштабах собственной личности. Сапожник ведь всегда без сапог.
– Вот именно, – улыбнулся Адриан. – Я хорошо знаю, что было с того времени, когда профессор приехал к нам в университет. Он тогда долго выбирал себе помощников. Выбрал Галку, Николая и меня. Перевел нас на заочное отделение, привез сюда, а потом было и строительство музея, и раскопки, и учеба…
– Ну, а все-таки, почему же и кто называл профессора помещиком?
– Знаете, – насупился Адриан, – находятся ведь разные люди. Вот и у нас в городе нашлись такие: они пытались скомпрометировать профессора – он, дескать, из помещиков, подозрительная личность. Они сумели причинить профессору и некоторые неприятности. Только весь город встал на его защиту, да и не только город. Ничего у них не получилось…
Об этом разговоре и о многом другом вспоминал я, сидя в стеклянной лоджии перед входом в кабинет Помониса, ожидая какого-нибудь знака, чтобы войти к нему. Но профессор сидел с закрытыми глазами, не подавая признаков жизни. Казалось, он спал…
Помонис не спал. Он снова погрузился в свои воспоминания. И снова личность его раздвоилась. Одной из этих личностей сейчас был он сам – больной, немощный старик, ждущий смерти. Он знал, что это он и есть, но только ему было неинтересно с таким собою, даже не так страшно, как просто скучно. Другая личность был тоже он, но он до болезни, до страха, он, существовавший, казалось, только в воображении, в воспоминании, но зато такой, каким он и был тогда в действительности. Тут все перепуталось – реальность и эфемерность, сущность и видимость. У него была память историка. Иногда он запоминал все. Каждое слово…
– Подумать только! Какие подлецы! – возмущался Арнаут, взбивая коктейль в алюминиевом миксере. – Закрыть газету, такую газету! Выгнать из университета! Какая гадость! Больше того, какая глупость! Ведь ты один из тех, кто составляет золотой фонд нации, ее гордость. Они же сами себя обокрали, заткнув тебе рот.
Помонис не сомневался в искренности возмущения приятеля, но не мог побороть в себе по отношению к нему какой-то смеси жалости и сочувствия. Не желая обидеть Арнаута ни с того, ни с сего проявлением этого чувства, Помонис с нарочитым спокойствием, даже слегка небрежно, отозвался:
– Ну, уж не знаю, как там сами себя, а мне они рот тогда действительно заткнули.
Арнаут еще энергичнее стал встряхивать миксер и заметался по своему кабинету. Он то присаживался в кресло к круглому столику, возле которого сидел Помонис, то вскакивал и одной рукой зачем-то перебирал бумаги на своем массивном письменном столе. Как многие невысокого роста люди, он выработал у себя некую степенность в походке и в жестах, долженствующую компенсировать недостающие сантиметры. А теперь, когда вдруг эта степенность уступила место суетливой быстроте движений, он казался, несмотря на полноту, особенно маленьким, каким-то потерянным, беспомощным.
«Интересно, собьет он рюмки с круглого столика или нет? – подумал Помонис. – Еще с гимназических лет он, когда волновался, обязательно что-нибудь ломал».
Однако Арнаут ловко разлил коктейль в высокие на желтых ножках рюмки и настороженно спросил:
– Ну, и что же ты думаешь делать дальше?
«Не разбил, смотри какой молодец!» – мысленно удивился Помонис и, не отвечая, потянулся к рюмке. Приятели чокнулись и выпили.
– Я обошел все редакции в городе, – спокойно ответил Помонис, – никто не решается взять меня на работу. А у меня почти ничего уже не осталось. Вот я и пришел к тебе. Ты ведь знаешь, я умею работать. Возьми меня на любую должность, на любых условиях.
Арнаут побледнел, и Помонис понял, что именно этого он и боялся больше всего, боялся с того самого момента, как Помонис переступил порог его редакторского кабинета. Но вот Арнаут, видимо снова обретя власть над собой и снова ставший степенным и солидным, негромко, но внушительно ответил:
– Пойми меня, Помонис. Я тебя очень люблю. Я считаю тебя своим другом и горжусь этой дружбой. Я полностью разделяю твои взгляды! – наклонился он к Помонису, сбив при этом одну из рюмок полой пиджака на пол и даже не заметив этого.
– Раскокал все-таки! – не без злорадства усмехнулся Помонис.
Арнаут с недоумением вытаращил глаза на улыбающегося приятеля, но потом продолжал, правда, уже без прежней степенности:
– Что я могу сейчас поделать? Если я тебя возьму, это не пройдет незамеченным. А потом у тебя такой яркий талант, такой неугомонный темперамент. Кончится тем, что газету закроют. А ведь я газетчик. Ничего другого я не умею, и у меня семья!
– Да, да, – сочувственно и брезгливо отозвался Помонис, – мы учились вместе и думаем примерно одинаково. Только ты печатаешь совсем не то, что думаешь, и получаешь за это свои сребреники.
– Да, – горестно покачал седеющей головой Арнаут. – Зато ты остаешься самим собой, и, честное слово, я завидую тебе!
Помонис, под влиянием охватившей его вдруг усталости и тоски, не отвечая, встал, надвинул на лоб берет и молча вышел из кабинета. Только очутившись на улице, он позволил себе снять маску бесстрастия. Мрачно понурившись, не замечая прохожих, бесцельно брел он по необычно оживленным зимним улицам столицы. Он потерял ощущение реальности, которая врывалась в сознание лишь мутным, расплывчатым светом городских фонарей, толчками спешивших людей, неясным гомоном, из которого выскакивали отдельные, ничего не значащие слова… Помонис брел наугад, не зная, ни по каким улицам он идет, ни сколько времени продолжается эта бесцельная прогулка. Внезапно над самым ухом его раздался оглушительный треск. Помонис вскинул голову, впервые после выхода от Арнаута пристально оглянулся вокруг. Рядом с ним беспечный парнишка в свитере и вязаной шапке, похожей на фригийский колпак, подбрасывал высоко в воздух какой-то твердый коричневый шарик и ловко ловил его левой рукой, в которой был зажат второй такой же шарик. Когда шарики соприкасались, тогда и раздавался тот самый оглушительный треск и даже видны были искры. Не успел Помонис прийти в себя, как другой парнишка зажег шутиху, и она, взрываясь, запрыгала между прохожими, как какая-то огненная лягушка. Помонис, решивший уже было рассердиться на ребят и как следует их обругать, вдруг вспомнил, что сегодня канун Рождества. Потому так много всюду людей, потому развлекаются парни прямо на улицах. Он уже совсем по-другому оглянулся вокруг, как бы желая впитать в себя эту знакомую, привычную ему атмосферу непринужденного веселья. Город шумел. Люди, нагруженные пакетами с яствами и подарками, ехали на празднично разукрашенных извозчичьих экипажах, в редких черных такси с красными плюшевыми сиденьями, сновали по улицам. Там и здесь проходили в обнимку парочки, без стеснения целуясь прямо на глазах у всех. Легкие, стыдливые снежинки кружились и сверкали в лучах света уличных фонарей и таяли, не долетая до земли. Из открытых, несмотря на зиму, окон вырывались звуки музыки, смех, виднелись разукрашенные елки.
– Господин ищет счастья, – раздался над самым ухом Помониса чей-то грубоватый, характерный певучий голос – А оно вот здесь рядом, сто́ит только как следует пожелать его…
Помонис перестал оглядываться и воззрился на подошедшую к нему почти вплотную фигуру, которую в другие дни в столице можно было увидеть разве что на маскараде. Это был высокий, чуть пониже самого Помониса типичный крестьянин-пастух с гор, облаченный в белые домотканые штаны, перепоясанные широким цветным матерчатым поясом, в белую же домотканую рубаху, поверх которой был небрежно надет кожаный, великолепно расшитый жилет. На голове у крестьянина красовалась остроконечная черная барашковая шапка, на левой руке его лежал маленький снежно-белый ягненок и, моргая, смотрел на Помониса желтыми, слегка подсиненными глазами с короткими белыми ресницами.
– Только погладьте его, господин, – вежливо сказал крестьянин, – и ждите, счастье само придет к вам.
Помонис послушно погладил шелковистую теплую шерсть ягненка и спросил:
– А ты сам часто его гладишь?
Крестьянин кивнул головой.
– Ну и счастлив ли ты? – с интересом спросил Помонис.
– Нет, господин, – спокойно ответил крестьянин, – разве вы не знаете: тот, кто приносит счастье другим, не может принести его себе, а то бы все распалось на куски.
– Вот как, – усмехнулся Помонис, – ну, ладно. На́ возьми. Позолоти копытца твоей малышке и промочи себе горло.
Он оставил крестьянина, ошеломленно глядевшего на золотую монету в заскорузлой ладони, и, сливаясь с толпой, пошел вперед, с интересом оглядываясь по сторонам, всматриваясь во встречные лица, будто он и вправду ждал чего-то, что должно было принести счастье.
«Ну вот, – подумал Помонис, – лишившись последней золотой монеты, я теперь полностью порвал с прошлым. Если меня и вправду ждет счастье, то не мешает ему поторопиться». Он дошел до широкого бульвара. Над темными силуэтами вечнозеленых деревьев сверкала разноцветными огнями реклама цирка.
Помонис решил отправиться туда, но оказалось, что представление давно уже началось: фонари у главного входа потушены и двери закрыты. Рассердившись, что после встречи с пастухом первое же его желание не осуществляется, Помонис стал обходить здание цирка, надеясь, что какой-нибудь случай поможет ему попасть туда, и не ошибся.
Внезапно узкая дверь служебного входа распахнулась, и из нее выскочил невысокий, страшно взволнованный человек. Он оторопело посмотрел на Помониса, потом взглянул на него как-то совсем по-другому, оценивающим взглядом, и вдруг, схватив его за плечи, закричал:
– Кажется, подходит. Сам бог послал вас!
– Я тоже так думаю, – проворчал Помонис, – только еще не знаю, зачем бог это сделал.
– Хотите заработать кое-что? – быстро сказал человек, увлекая за собой Помониса по узкому коридору.
– Еще как! – ухмыляясь ответил он. – А много?
Однако взволнованный человек ничего не ответил и, введя Помониса в разукрашенную афишами комнату, стремительно вытащил из ящика стола метр и ловко принялся обмерять рост и ширину плеч Помониса.
– Вот это удача! Точка в точку. Даже пристрелки не понадобится! Вам выступать через 15 минут! – закричал он, ликуя.
– А что я должен делать? – с недоумением спросил Помонис – Глотать шпаги, класть голову в пасть льва, жонглировать факелами? Я ничего этого не умею.
– Вы, – постепенно остывая ответил антрепренер, – должны быть только настоящим мужчиной.
– Это что же, теперь такая редкость, что их в цирке показывают? – усмехнулся Помонис – Ну а все же, нельзя поконкретнее?
– Самое главное, – назидательно произнес человек, – с того момента, как ствол винтовки поднимется, и до того, как он опустится, вы должны сохранять полную неподвижность. Помните, даже пальцем нельзя шевельнуть. А то испортите отличный номер да еще и сами можете получить пулю.
– Вот как, – повторил Помонис, – испортить отличный номер, а заодно и получить пулю?
В это время, приглушенные бархатным занавесом, раздались один за другим несколько выстрелов и следом за ними аплодисменты.
– Ваш выход, – моментально рассвирепев, зарычал маленький человек. – Идемте! Вы же теперь артист! Там сами поймете.
Помонис, так ничего и не разобрав, покорно последовал за кипящим маленьким человеком. Идти пришлось недалеко.
Раздвинув тяжелый занавес и пройдя несколько шагов, они оказались на арене возле большого щита из толстых досок, к которому маленький человек прислонил Помониса и, прошептав: «Помните – не шевелиться», исчез. Щурясь от яркого света прожекторов, болезненно ощущая направленные на него сотни пар глаз, слыша невнятный гул, показавшийся ему грозным и тревожным, Помонис стал, не поворачивая головы, внимательно оглядываться. Первое, кого он увидел, была невысокая стройная девушка с сияющим нимбом над головой. Только присмотревшись, он понял, что этот эффект создают ее рыжие волосы, освещенные сзади. Девушка была одета в светло-коричневый кожаный колет и такие же брюки, заправленные в высокие сафьяновые сапоги. Колет, брюки и сапоги имели оторочку из кремовой кожи. Сзади на шнурке, слегка примяв ее пышные волосы, висела мягкая шляпа. В руках девушка нервно сжимала ружье. Внезапно рядом с ней оказался неизвестно откуда вынырнувший антрепренер, который что-то прошептал и исчез. Девушка кивнула головой, однако, как показалось Помонису, она нисколько не успокоилась, а даже еще с большей растерянностью стала на него смотреть.
Помонису стало жалко девушку, и, желая ее ободрить, он ей улыбнулся и даже дружелюбно подмигнул. Это, однако, оказало совершенно неожиданное действие. Она явно рассердилась, сверкнула на Помониса темно-зелеными глазами, сжала губы и медленно стала поднимать ствол ружья, прицеливаясь, как казалось Помонису, прямо ему в голову. Внезапно выступивший пот, пройдя под беретом, стал стекать вниз по лицу и попадать в глаза. Помонис хотел было отереть пот рукой, но вспомнил совет антрепренера и остался неподвижен. В ту же секунду он понял, насколько хорош был совет. Деревянный щит задрожал от сильного удара, пуля вошла в него прямо над головой Помониса. А затем девушка с непостижимой быстротой выпустила целую серию пуль, каждая из которых, как твердо был убежден Помонис, не убила его наповал только совершенно случайно. Девушка стреляла стоя и с колена, лежа и два раза даже стоя к нему спиной и целясь в маленькое зеркальце, укрепленное на ложе.
Цирк взорвался аплодисментами. Помонис как сквозь туман увидел, что ствол ружья опустился вниз, и понял, что испытание, выпавшее на его долю, окончено. С чувством невероятного облегчения, очень возбужденный, он отошел на несколько шагов от щита и высоко подбросил в воздух берет. В тот же момент ствол ружья снова взметнулся кверху, раздался выстрел, и Помонис подхватил свой берет уже пробитый точно посередине. Раздались новые аплодисменты, и Помонис, все более и более возбуждаясь, теряя голову, подбежал к девушке, наклонился и, схватив ее за щиколотки, высоко поднял над головой на вытянутых руках. Продефилировав так по арене, он вынес девушку за занавес и бережно опустил на пол.
– Рассчитайтесь с этим человеком, – сказала девушка подбежавшему антрепренеру с таким видом, что Помонис решил: сейчас она опять будет стрелять и на этот раз именно в него и без промаха. Однако ничего подобного не произошло. Маленький антрепренер протянул Помонису довольно толстую пачку кредиток, которые тот не считая сунул в карман, и сразу обратился к девушке:
– Значит, я вас больше не увижу? Я хотел бы поговорить с вами.
– Сейчас это невозможно, – печально ответила девушка, – всего два часа назад погиб в автомобильной катастрофе мой друг и ассистент. Если хотите и дальше со мной работать, приходите послезавтра в три часа дня в кафе «Тележка с вином». Знаете такое?
Помонис утвердительно кивнул головой и, круто повернувшись, тут же ушел из цирка, словно боясь потерять, расплескать новые впечатления и переживания.
С нетерпением дождавшись условного дня и часа, он без труда нашел девушку в полупустом в это время кафе.
– Здравствуйте, Гела, – сказал он и поцеловал девушке руку.
– Откуда вы знаете мое имя? – удивилась она.
– Его можно прочесть на любой цирковой афише, а они расклеены по всему городу.
Девушка вспыхнула и сердито спросила:
– Ну, а вы кто?
– Несостоявшийся помещик, разорившийся издатель, изгнанный из университета профессор, – с некоторой бравадой весело ответил он.
– Как ваше имя? – насторожившись, спросила Гела.
Помонис назвал себя, и Гела воскликнула:
– Как, вы тот самый профессор Помонис – редактор знаменитой газеты «Время»?
– Я, – осторожно ответил он, – действительно профессор Помонис, и я редактировал «Время».
– Господи, как хорошо, что я узнала об этом только сейчас, – призналась девушка, – если бы вы сказали тогда в цирке… я бы так волновалась, что могла случайно промахнуться и попасть в вас, – говорила она, с откровенным любопытством разглядывая Помониса. – А что же вы теперь намереваетесь делать?
– Служить вашим ассистентом, – беззаботно отозвался Помонис.
– Нет, нет, – решительно сказала Гела, – я никогда больше не смогу стрелять в щит, если вы будете около него стоять. Давайте подумаем, надо найти какой-то выход.
– Идет, – также беззаботно отозвался Помонис, – только давайте подумаем втроем. – И привычным движением он вытащил из жилетного кармана и поставил на стол между бокалами маленькую терракотовую обезьянку с протянутыми вверх передними лапками.
Гела внимательно посмотрела на обезьянку и серьезно сказала:
– Если этот ваш друг всегда дает такие хорошие советы, то вы не зря носите его с собой.
– Что вы имеете в виду? – недоумевающе спросил Помонис.
– Мой погибший товарищ, – медленно проговорила Гела, – был очень способный человек. Он не только работал моим ассистентом, но и готовил замечательный номер – дрессированные обезьяны. Катастрофа произошла, когда дрессура была доведена только до середины. Осталась труппа обезьян. У нас во всей стране нет второго дрессировщика. Очень обидно отдавать этих обезьян – уже наполовину артистов – в зоопарк. Вы доведете дрессировку до конца и создадите такую программу, которую еще никто не видел.
– Почему вы думаете, что я смогу это сделать? – пробормотал крайне озадаченный Помонис.
– Профессор Помонис может все! – твердо парировала Гела.
– Хотел бы я хотя бы наполовину так в это верить, как вы, – пробормотал Помонис и громко спросил: – Ну, хорошо, допустим, что так будет. А деньги на покупку обезьян?
Но Гелу уже ничем нельзя было смутить.
– Вдова моего друга не возьмет с нас слишком дорого, особенно когда узнает, что обезьянки не попадут в зверинцы. У меня есть деньги для первого взноса. Номер безусловно будет пользоваться успехом, и мы быстро сможем расплатиться.
– Мы? – тоже став очень серьезным, спросил Помонис.
– Да. Мы, – секунду помедлив, твердо ответила Гела и сразу же, словно торопясь, спросила: – Как же все-таки получилось, что вы остались без работы?
– Я очень старался, – возвращаясь к прежнему тону, сказал Помонис – А как бы я иначе, встретился с вами?..
Тогда он отделался шуткой, но сейчас память упрямо возвращала ему давнопрошедшее…
– Я безмерно огорчен, что повод, доставивший мне удовольствие познакомиться с вами, профессор, столь неприятен для нас обоих, – мягко говорил высоколобый человек в блестящем жандармском мундире. – Увы, у правительства не было другого выхода. Вы уже не раз получали предупреждения. Министр внутренних дел проявил поистине ангельское терпение. С сегодняшнего дня ваша газета, которую я так высоко ценю, закрывается, – закончил он, беспомощно разведя холеными руками.
– Могу я узнать, за что? – холодно осведомился Помонис. – Ведь в газете ничего не писалось о политике. Может быть, вы находите ее безнравственной?
– Что вы, что вы! – с непритворным возмущением воскликнул генерал, совершенно выпрямляя и без того стройный стан. – Напротив. Ваша газета высоконравственная. Не скрою, я с удовольствием читаю ее по вечерам в семейном кругу. Моя жена и дети в восторге от вашей газеты. Вчера, когда за ужином я сообщил супруге о решении правительства закрыть газету, мой младший сын даже расплакался. Ему было очень обидно, что он так и не узнает, чем кончатся удивительные приключения капитана Фагерата.
– Тогда что же послужило причиной? – тем же тоном спросил Помонис.
– Видите ли, – доверительно наклонился к нему генерал, – как это ни странно – именно нравственный облик вашей газеты. Она слишком высоконравственная для массового читателя.
Помонис с недоумением откинулся в кресле и положил руку на край резного письменного стола.
– Да, да, – также доверительно продолжал генерал, – ужас настоящего времени – terror præsentis, как говорили римляне, – заключается и в том, что широкие массы народа еще не подготовлены для такого всеобъемлющего, безбрежного гуманизма, который проповедуете вы в вашей газете. Высокие идеи такого гуманизма понятны лишь таким, как мы с вами, и другим представителям мыслящей интеллигенции. А потом эти ассоциации…








