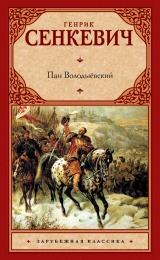
Текст книги "Пан Володыёвский"
Автор книги: Генрик Сенкевич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА XIII
Разумеется, пан Заглоба отлично видел, что маленький рыцарь влюбился в Кшисю, и потому-то пустился на хитрость. Зная натуру Володыёвского, он нисколько не сомневался, что коль скоро не останется выбора, пан Михал непременно вспомнит про Басю, которую старик любил, будто родную дочь, и только диву давался, как можно выбрать другую. Он искренне считал, что, способствуя женитьбе Михала на своей любимице, оказывает ему великую услугу; при одной только мысли об этой паре у него лицо расплывалось в улыбке. Он сердился на Володыёвского, зол был и на Кшисю, полагая, впрочем, что уж лучше пану Михалу на ней жениться, чем остаться бобылем, но пока только и думал о том, как бы сосватать за него гайдучка.
Вот потому-то, зная, что маленький рыцарь питает слабость к Дрогоёвской, он решил поскорее сделать из нее госпожу Кетлинг. Однако письмо, что получил он недели через две от Скшетуского, было для него как ушат холодной воды.
Скшетуский советовал ему держаться в стороне, чтобы друзей не поссорить. Разумеется, ссоры этой Заглоба не желал и, пытаясь заглушить укоры совести, утешал себя такими словами:
– Ежели бы у Кшиси с Михалом уговор был, а я бы Кетлинга меж ними как клин вбивал, тогда бы дело иное. Помнится, еще царь Соломон сказывал, не твоя печаль, кому детей качать, и он прав. Но в своих желаниях каждый волен. А впрочем, по совести говоря, что я такого сделал? Пусть мне скажут – что?
Задав такой вопрос, Заглоба подбоченился и, оттопырив нижнюю губу, окинул стены вызывающим взглядом, словно от них дожидаясь упрека, но стены молчали, и он продолжал дальше:
– Кетлингу я сказал, что гайдучка мы для Михала приберегаем. Отчего же мне было это не сказать? Или это неправда? Пусть паралик меня хватит, коли я Михалу другой невесты желаю.
Стены молчанием подтвердили справедливость его слов.
И он продолжал:
– Гайдучку я сказал, что Кшися Кетлинга в полон захватила, разве это неправда? Разве он сам не признался в этом, здесь у печки сидя и вздыхая часами, да так, что пепел во все стороны разлетелся? А я видел это и другим передал. У Скшетуского ум трезвый, да ведь и я в темя не бит. Знаю, где сказать, а где и промолчать следует. Гм… Пишет, твое дело сторона. Может, оно и так. Вот останемся мы в гостиной сам-третей: я да Кетлинг с Кшисей, а я возьму и выйду. Заметят ли они, вспомнят ли, что меня нет? А впрочем, он с нею и себя не помнит, и меня не вспомянет. Они и не видят-то никого, так их тянет друг к другу. А тут и весна на носу, когда не только солнце, но и все желания припекают… Ладно, мое дело сторона, поглядим, каковы-то будут последствия.
И последствия не заставили себя долго ждать. Перед страстной неделей все общество перебралось из дома Кетлинга в Варшаву, в гостиницу на улице Длугой, чтобы побывать на службе во всех костелах, а заодно и на праздничную сутолоку поглазеть.
Кетлинг и тут держался гостеприимным хозяином, хоть и чужеземец, он лучше других знал Варшаву, всюду у него были люди, готовые оказать услугу. Он был необычайно предупредителен и, казалось, угадывал чужие желания, в особенности Кшисины. Трудно его было не любить. Пани Маковецкая, помня наказы Заглобы, поглядывала на них с Кшисей все благосклоннее, а если до сей поры не сказала о нем ни слова, то лишь потому, что и Кетлинг молчал. Впрочем, почтенная «тетенька» не видела ничего предосудительного в том, что рыцарь так верно служит ее племяннице, тем паче рыцарь столь знаменитый, получавший знаки внимания не только от слуг, но и от знати, так умел он привлечь всех своей и впрямь необычной красотой, щедростью, обходительностью, кротостью с друзьями, мужеством на поле брани.
«Положусь на волю божью, а там уж как муж скажет, но я им мешать не стану», – думала про себя пани Маковецкая.
Так она порешила, и теперь Кетлинг чаще виделся с Кшисей, проводя в ее обществе почти весь день. Впрочем, из дому выходили все вместе. Заглоба брал под руку пани Маковецкую, Кетлинг – Кшисю, а Бася, самая юная, шла сама по себе, то забегая вперед, то останавливаясь в торговых рядах – поглядеть на товары и диковинки заморские, каких она до сей поры и не видывала. Кшися понемногу привыкла к Кетлингу, и теперь, когда она шла, опираясь на его руку, ловя каждое его слово и вглядываясь в черты его, сердце ее билось ровно, не робость испытывала она, не стеснение, а ни с чем не сравнимую радость и блаженство. Они почти не расставались: вместе преклоняли колени в костелах, их голоса звучали слитно в молитвах и божественных песнопениях.
Для Кетлинга чувства его не были загадкой; Кшися то ли из робости, то ли пытаясь сама себя обмануть, еще не сказала себе: «Люблю его», но меж тем они любили друг друга все сильнее.
Их сближало еще и дружество, и некое родственное чувство, но о любви не было сказано ни слова, и поэтому день за днем проходили как в сладком сне, и ничто не нарушало их согласия. Впрочем, черные тучи раскаянья уже сгущались над Кшисей, но пока затишье не кончилось. Теперь, когда, ближе узнав Кетлинга, она перестала дичиться, дружество, расцветшее под сенью любви, принесло успокоение и мир в ее душу, голова не шла кругом, волненье в крови улеглось. Они были вместе, им было легко и отрадно, но Кшися, всей душой отдавшись этой радости, не думала над тем, что вот-вот счастье ее кончится и для этого довольно, чтобы Кетлинг сказал одно только слово – «люблю».
Вскоре слово это было сказано. Однажды, когда пани Маковецкая вместе с Басей были в гостях у больной кумы, Кетлинг уговорил Кшисю и пана Заглобу пойти в королевский замок, которого Кшися никогда еще не видела и о котором люди повсюду рассказывали всякие чудеса. Отправились втроем. Щедрость Кетлинга открыла перед ними все двери, и слуги встречали Кшисю такими низкими поклонами, словно бы она была королевой, посетившей свои владения. Кетлинг, который отлично знал замок, водил ее по пышным залам и покоям. Они поглядели на театр, на королевские бани, постояли перед картинами, на которых изображались битвы и победы королей Сигизмунда и Владислава над восточными ордами; вышли на террасы полюбоваться видом. Кшися не могла опомниться от удивления. Кетлинг показывал ей всякие разности, а иногда умолкал и, глядя в ее темно-голубые глаза, казалось, говорил: «Что за дело мне до этих чудес, когда ты со мной, мое чудо! И до сокровищ этих, когда ты рядом со мной, мое сокровище».
Девушка внимала этим безмолвным речам. А он, войдя с ней в один из королевских покоев, остановился у закрытых дверей и сказал:
– Отсюда и до алтаря недалеко. Переход почти к самому клиросу ведет. Там король с королевой обычно слушают мессу.
– Я дорогу туда хорошо знаю, – вставил словечко Заглоба, – с Яном Казимиром я накоротке был, случалось, и Мария Людвика ко мне благоволила, тогда они и меня приглашали послушать мессу, дабы в обществе моем побыть и набожностью моей укрепить дух свой.
– Не желаете ли пойти взглянуть, сударыня? – спросил Кетлинг, делая слуге знак, чтобы отворил двери.
– Пойдемте, – отвечала Кшися.
– Ступайте без меня, – сказал пан Заглоба, – ноги у вас молодые, не болят, а я на своем веку, слава богу, натоптался довольно. Ступайте, ступайте, а уж я здесь с человеком останусь. Если вы и по две молитвы прочтете, все равно не буду в обиде, отдохну малость.
И они пошли.
Кетлинг взял Кшисю за руку и повел по длинному переходу. Руки ее он не прижимал к сердцу, шел сосредоточенный и спокойный. Иногда вдруг силуэты их освещались боковыми окошками, а потом снова погружались в темноту. Сердце у Кшиси билось чуть чаще обычного, потому что они впервые оказались наедине, но спокойствие и кротость Кетлинга понемногу передались ей. Наконец они поднялись на клирос, что был справа, тут же за скамьями, неподалеку от большого алтаря.
Они опустились на колени и начали молиться. В костеле было тихо и пусто. Перед большим алтарем горели две свечи, но в глубине костела царил торжественный полумрак. Только сквозь разноцветные стекла проникал свет, радужные его блики освещали их спокойные, сосредоточенные на молитве, ангельски прекрасные лица.
Кетлинг первым поднялся с колен и, не смея нарушать тишины в костеле, заговорил шепотом:
– Посмотрите на эту бархатную спинку, на ней вмятины от голов – здесь сиживали король с королевой. Королева всегда сидела с той стороны, поближе к алтарю. Отдохните немного на ее месте…
– Правда ли, что она всю жизнь была несчастлива? – усаживаясь, шепнула Кшися.
– Я слышал эту историю еще ребенком, ее сказывали во всех рыцарских замках. Может быть, она и в самом деле была несчастлива, не могла выйти замуж за того, кому отдала свое сердце.[22]22
Н е м о г л а в ы й т и з а м у ж з а т о г о, к о м у о т д а л а с в о е с е р д ц е. – В 18-летнюю Марию-Луизу влюбился овдовевший брат короля Людовика XIII Гастон. Против брака была королева-мать Мария Медичи: по ее приказу принцесса несколько недель пробыла под арестом в Венсеннском замке. Гастон послушался матери.
[Закрыть]
Кшися откинулась, касаясь головой углубления, оставшегося на память о сидевшей здесь когда-то Марии Людвике.[23]23
М а р и я Л ю д в и к а (Луиза) Гонзага (1611–1667), дочь герцога мантуанского, вышла в 1646 г. замуж за Владислава IV, а в 1649-м – за его единокровного брата Яна Казимира. При последнем имела значительное политическое влияние, была душой профранцузской партии
[Закрыть] Она закрыла глаза; какое-то мучительное чувство сжимало грудь, холодом повеяло от пустой ниши, покой, еще минуту назад переполнявший ее, сменился леденящим душу оцепенением. Кетлинг молча смотрел на нее, тишина казалась замогильной.
Мгновенье спустя Кетлинг стал перед Кшисей на колени и заговорил с жаром, уже не робея:
– В том нет греха, что здесь, в святом этом месте, я стою перед тобой на коленях, ведь разве не сюда, в костел, приходит за благословением чистая любовь. Ты мне дороже здоровья, дороже всех земных благ, я люблю тебя всей душою, всем сердцем и здесь перед этим алтарем в своей любви перед тобой открываюсь!..
Лицо Кшиси стало вдруг смертельно-бледным. Несчастная девушка по-прежнему сидела, откинувшись на бархатную спинку, никак не отзываясь на слова Кетлинга, а он продолжал дальше:
– Обнимаю ноги твои и на коленях жду твоего приговора, с чем я отсюда уйду – в радости ли великой или великой печали, какую сердцу моему вынести не под силу?
Минуту он ждал ответа Кшиси и, не дождавшись, склонился так низко, что едва не коснулся головой ее ног, должно быть, он уже не мог скрыть своего волнения, голос у него дрожал, казалось, еще немного, и он задохнется.
– В твои руки отдаю я свое счастье и свою жизнь. О снисхождении молю, потому что тяжело мне безмерно…
– Будем просить милосердия божьего! – падая на колени, неожиданно воскликнула Кшися.
Кетлинг не ждал этого, но не смел ее желанию противоречить. С надеждой и тревогой в сердце он стал на колени рядом с девушкой, и они снова принялись молиться.
Под сводами пустого костела голоса их, подхваченные эхом, звучали скорбно и жутковато.
– Боже, смилуйся над нами! – воскликнула Кшися.
– Боже, смилуйся над нами! – вторил ей Кетлинг.
– Смилуйся над нами!
– Смилуйся!
Теперь Кшися молилась чуть слышно, но Кетлинг видел, что девушка содрогается от рыданий. Она все никак не могла успокоиться, потом, опомнившись, долго еще неподвижно стояла на коленях, наконец поднялась и сказала:
– Пойдемте…
И они снова долго шли узким переходом. Кетлинг надеялся, что сейчас здесь услышит от нее какой-нибудь ответ, заглядывал ей в глаза, но ответа не последовало.
Кшися шла, почти бежала, словно желая как можно скорее оказаться в зале, где их дожидался пан Заглоба.
Но когда они были в десяти шагах от двери, рыцарь схватил ее за край платья.
– Панна Кристина! – воскликнул он. – Ради всего святого, умоляю…
Тут Кшися обернулась и, схватив его руку, прижала ее к губам с такой лихорадочной поспешностью, что он не успел этому воспротивиться.
– Люблю тебя всей душой, но никогда не буду твоею! – сказала она.
И не успел изумленный Кетлинг и слова вымолвить, как она добавила:
– Забудь обо всем, что было!
Через мгновенье они оказались в зале. Слуга мирно дремал в одном кресле, Заглоба – в другом. Однако приход молодых людей разбудил их. Заглоба, приоткрыв один глаз, посматривал полусонно. Понемногу, однако, он вспомнил, с кем и где находится.
– А, это вы! – сказал он, одергивая пояс на животе. – Мне снилось, что короля мы избрали, но это был Пяст.[24]24
«П я с т» – здесь означает: поляк по происхождению. Династия Пястов правила в Польше с X по XIV в.
[Закрыть] На клиросе побывали?
– Побывали.
– А может, душа покойной Марии Людвики вам явилась?
– О да, – глухо ответила Кшися.
ГЛАВА XIV
Выйдя из замка, Кетлинг, еще не опомнившись от Кшисиных слов и желая побыть в одиночестве, распрощался у ворот с нею и с Заглобой, и они отправились в гостиницу. Бася с пани Маковецкой уже успели вернуться от тетушки, и почтенная женщина приветствовала пана Заглобу такими словами:
– От мужа письмецо пришло, они с Михалом время вместе коротают. Слава богу, оба живы, здоровы, вот-вот домой нагрянут. Тут и тебе, сударь, есть весточка, от Михала, а мне от него только в мужнином письме приписка. Муж пишет, что тяжбу с Жубрами касательно Басиной деревеньки закончил в ее пользу. Теперь и у них сеймики на носу… Пишет он, имя пана Собеского там большую силу имеет, на выборы всякий народ приедет, но в наших краях все за пана коронного маршала горой. Тепло у них и дожди пошли. В Верхутке пристройки наши сгорели… Дворовый не погасил огня, а тут – ветер…
– Где письмо от Михала? – спросил пан Заглоба, прерывая поток новостей, которые почтенная пани Маковецкая выпалила одним духом.
– Да вот же оно! – отвечала пани Маковецкая, подавая письмо. – Ветер поднялся, а народ весь на ярмарке гулял.
– Как же письма сюда попали? – снова спросил пан Заглоба.
– К пану Кетлингу в усадьбу доставлены были, а оттуда их человек принес… Ну вот я и говорю, тут как на грех ветер поднялся…
– Не угодно ли послушать, пани благодетельница, что брат пишет?
– Как же, как же, отчего не послушать…
Пан Заглоба сломал сургуч и начал читать, сначала вполголоса самому себе, а потом громко для всех:
– «Посылаю вам первое письмо, а второе, должно быть, и не последует, потому как и оказии здесь редкие, да скоро я и сам personaliter «Лично (лат.).» перед вами предстану. Хорошо здесь, в поле, только сердце мое с вами, нет конца мыслям и воспоминаниям, для которых solitudo «Уединение (лат.).» любой компании милее! У нас здесь теперь поспокойнее стало, татары притихли, только кое-где отряды небольшие в травах попрятались, мы две вылазки сделали, да так успешно, что у них и свидетеля поражения не осталось».
– Молодцы наши, не дали им спуску! – воскликнула радостно Бася. – Ох, хорошо быть солдатом!
– «Дорошенковские ребята, – читал далее Заглоба, – озоровать горазды, да только без орды сложили крылья. Намедни языка поймали, говорит, ни один чамбул с места не тронется, а я полагаю, что коли до сей поры не было ничего, то уже и не будет, скоро неделя, как травы зазеленели, и коней пасти можно. В ярах и в оврагах снег еще подзадержался, но степь зеленая, ветер теплый, от коего уже и кони линяют, а это весны первый signum. Я послал за заменой, вот-вот она подоспеет, дождусь и сразу в дорогу… Пан Нововейский вместо меня будет нести службу, но только ее и нет почти. Мы с паном Маковецким день-деньской лис травим единой потехи ради, потому как весной мех непригодный. Дроф тут тьма-тьмущая, а челядинец мой подстрелил из самопала пеликана. Обнимаю вас от всего сердца, целую ручки сестре своей, благодетельнице, а также панне Кшисе, на ее благосклонность fortissime «Особенно (лат.).» уповая, и молю бога лишь об одном, чтобы доброта ее оставалась неизменной. Кланяйся от меня панне Басе. Нововейский всю свою злость за отказ на местных головорезах выместил и шеи им накостылял, да все равно не унялся. Видно, не больно ему полегчало, бедняге. Поручаю вас богу и его милосердию.
P. S. У проезжих армян купил я в подарок панне Кшисе горностаевых палантин, глаз не оторвешь; а для гайдучка припас сладостей турецких».
– Пусть пан Михал сам их ест, а я не маленькая, – отвечала Бася, и щеки у нее запылали, будто ее обидел кто.
– Иль ты не рада, что он скоро вернется? Сердишься на него? – спросил пан Заглоба.
Но в ответ она что-то буркнула, видно слегка досадуя, что пан Михал не принимает ее всерьез, да еще долго размышляла о дрофах и пеликане, о котором прежде не слыхивала.
Покуда читали письмо, Кшися сидела с закрытыми глазами, спиной к свету, и это было для нее спасением, потому что домочадцы не видели ее лица, а то они сразу догадались бы, что с ней творится неладное. Разговор в костеле, а теперь письмо от пана Володыёвского были для нее подобны ударам грома. Чудный сон рассеялся. С этой минуты девушка оказалась лицом к лицу с действительностью, тяжкой, как несчастье. У нее не было сил, чтобы тут же мгновенно собраться с мыслями, и только смутные, неясные ей самой чувства теснили грудь. Володыёвский со своим письмом, с обещанием скорого приезда и с горностаевым палантином показался ей пошлым до отвращения. И напротив, никогда еще Кетлинг не был ей так дорог. Сами мысли о нем были ей дороги, его слова, его лицо, и даже печаль его казалась бесценной. И вот нужно отойти в сторону от своей любви, от этого обожания, от того, к чему рвется сердце и тянутся руки; оставить любимого человека в отчаянье, в вечной грусти, убитого горем и отдать душу и тело другому, который из-за этого чуть ли не ненавистным становится.
«Нет, нет, не совладать мне с собою!» – повторяла в душе Кшися. И чувствовала себя пленницей, которой вяжут руки, а ведь она сама их себе связала, могла же она сказать Володыёвскому, что будет ему сестрой, не боле.
Вспомнился ей и недавний поцелуй, на который она ответила. Стыд и раскаянье овладели ею. Любила ли она уже тогда Володыёвского? Нет! В сердце ее не было любви, было сострадание, любопытство, озорство какое-то, и все это под покровом сестринского чувства.
Только теперь она поняла, что поцелуй этот был от лукавого и разница между ним и поцелуем по любви такая же, как между ангелом и дьяволом. Кроме презрения к себе, Кшисю разбирал еще и гнев, но душа ее возроптала и против Володыёвского. Он тоже был виноват, почему же и раскаянье, и разочарование, и угрызения совести выпали только на ее долю? Почему бы и ему не испить эту чашу? И неужто она не вправе сказать ему, когда он вернется: «Я ошиблась… Сострадание к вам приняла за чувство. Ошиблись и вы; отрекитесь же от меня, как я от вас отрекаюсь!..»
При мысли о его грозном гневе волосы у нее стали дыбом от страха, но боялась она не за себя, а за любимого, которого ждала месть. Воображение рисовало ей такие картины: Кетлинг вступает в поединок с Володыёвским, сабля которого не знает пощады, и падает замертво, словно цветок под взмахом косы; она видела его кровь, его бледное лицо, закрывшиеся навеки глаза, и страдания ее превзошли всякую меру.
Кшися быстро встала и ушла к себе, чтобы скрыться от людей, не слышать больше разговоров о Володыёвском и о его скором возвращении. Злость и досада против маленького рыцаря разбирали ее все больше.
Но раскаянье и печаль шли за ней по пятам, не покинув в часы молитвы, а когда она, измученная, легла в постель, сели на краешек ее кровати и завели с ней разговор.
– Где он? – спросила печаль. – Вот видишь, он и до сей поры не вернулся; бродит где-то в ночную пору, руки в отчаянье ломая. Ты бы рада любую бурю от него отвести, жизни ради него бы не пожалела, а вместо этого напоила ядом, нож вонзила в сердце…
– Если бы не легкомыслие, не ветреность, с какой ты желаешь заманить в свои сети любого, кого встретишь, – говорило раскаянье, – все могло бы быть иначе, а теперь тебе достаются лишь слезы. Ты виновата! Ты во всем виновата! Нет выхода, нет спасенья, стыд, боль и слезы – твой удел.
– Помнишь, как он в костеле стоял перед тобою на коленях, – снова заговорила печаль. – Чудо еще, что сердце твое не разбилось от жалости, когда он в глаза тебе смотрел, к доброте твоей взывая. Тут и над чужим-то трудно было бы не сжалиться, а как не пожалеть его – любимого, единственного. Боже, смилуйся над ним, боже, пошли ему утешение!
– Если бы не твое легкомыслие, – снова повторяло раскаяние, – он мог бы заключить тебя в объятья, назвать своей избранницей, женой…
– И вечно быть с тобою! – прибавляла печаль.
– Твоя вина! – восклицало раскаянье.
– Плачь, Кшися, плачь! – вторила ему печаль.
– Слезами вины не смоешь! – возражало раскаянье.
– Делай, что хочешь, но помоги ему, – откликалась печаль.
– Володыёвский убьет его! – тотчас же отозвалось раскаянье.
Кшися в холодном поту приподнялась и села. Ясный свет месяца освещал спальню, которая в белом этом блеске казалась необычной и даже страшной.
«Что же это? – думала Кшися. – Там спит Бася, я вижу ее, месяц осветил ее лицо, но не знаю, когда она пришла, когда разделась, когда легла. Я ведь не спала ни минуты, но, видно, бедная голова моя мне больше не служит…»
Так размышляя, она легла снова, но тотчас же печаль и раскаянье сели на краешек ее кровати, словно две богини, и, следуя своей прихоти, то вдруг тонули в лунной купели, то выплывали из серебряной глуби.
– Нет, не уснуть мне сегодня! – решила про себя Кшися.
И снова принялась размышлять о Кетлинге, с каждой минутой страдая все сильнее.
И вдруг неожиданно в тишине раздался жалобный Басин голос:
– Кшися!
– Не спишь?
– Мне приснилось, что турка пронзил пана Михала стрелою. Господи Иисусе! Сон – вздор! Но у меня зуб на зуб не попадает. Давай помолимся, чтобы бог отвел от него несчастье!
«Пусть бы его кто подстрелил!» – подумала Кшися. Но тут же ужаснулась собственной злобе, и, хотя нечеловеческое усилие ей было надобно, чтобы именно сейчас молиться за счастливое возвращение пана Михала, сказала:
– Хорошо, Бася!
И они обе поднялись с постелей и, встав голыми коленками на залитый лунным светом пол, начали читать молитвы. Голоса их звучали то тише, то громче, вторя друг другу: казалось, что опочивальня превратилась в монастырскую келью, в которой две маленькие белые монашки свершали ночное бдение.








