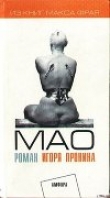Текст книги "Мост в бесконечность. Повесть о Федоре Афанасьеве"
Автор книги: Геннадий Комраков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
Рябинин вытянул за цепку позолоченные часы, приложил к уху. Убедившись, что тикают, отколупнул крышку. Определив, который час, прибавил шагу.
– А чего ж непонятного? – Федор не отставал.
– Много чего… Кончилось молебствие, священник почему-то к образу из алтаря не вышел. Дьякон был и один невчий… Ну, я, конечным делом, пошел поклониться… А эти повалили на улицу. Пока молился, поклоны бил, в соборе опустело. Чего там снерва делалось, врать не стану, не видал. А когда помолился, вышел, оторопь взяла! Студентики толпою сбились, плотно эдак… А в середке какой-то истошно орет: «Да здравствует!» Опять же врать не буду, чего «да здравствует», не расслышал. Только тут уж все православные на паперти ахнули, страсти начались…
– Знамение увидали, – иронически подсказал Федор.
– Не знамение, а красную тряпку! – Рябинин фыркнул, надув щеки. – Господи, господи… И как таких земля носит? – Степан Ефимович нерекрестился. – Руками махают, бесноватые прям-таки… У памятника Кутузову кинулись на них городовые да околоточные, и меня будто подстегнуло. Городовые кулаками молотят, волосатики отбиваются, а я, скажи на милость, во все горло кричу: «Держите, ловите!» Сам собе дивлюсь, что кричу, а удержу нет… А здесь какой-то стрекулист подбежал: «Зачем орешь, дядя?» И по шее… Не больно, правда, однако же обидно! От почтенного человека, ежели за дело, могу стернеть. А этот поганец за что меня? За то, что бунта не приемлю? Не-ет, шалишь… Развернулся да ка-ак хлобыстнул по худосочной роже! А посля – за шиворот и поволок. Дворнику сдал, чтобы в участок доставил…
– Тебя послушать, Степан Ефимович, от городовых произошли беспорядки, – насмешливо сказал Федор.
Рябинин остановился как вкопанный, от гнева раздувая ноздри:
– Чего мелешь? Какие от властей могут произойти беспорядки? Власти на то и поставлены, чтобы пресекать!
– Дак сам сказывал – околоточные учинили драку. – Федор ехидно улыбнулся: – Эти-то, которые со знаменем, не били ведь никого… Руками махали, не кулаками.
– Ты чего? Чего такое позволяешь себе? – щеки Рябинина покрылись красными пятнами. – Городовые не дрались, усмиряли! Разницу понимать надо… Набрался бунтовщицкого духа на фабрике-то своей! Ты мне на глаза более не попадайся, не желаю тебя видеть! И Анютку не смущай! Не для тебя, варнака, девка выросла! От городовых у него, вишь, беспорядки… В тюрьму пойдешь с такими рассужденьями! Не сегодня, так завтра посадят – видать сову по полету… А ей жить надо, девка старательная, найдем пару!
Федор потупился, мысленно ругая себя: зачем рассердил Степана? Вот теперь дотронулся он до самого сокровенного – Анюту вспомнил. Его не нерекроишь, дорожку свою твердо обозначил – служить верой и правдой государеву делу. Разгневается всерьез, жизнь поломает. Ефим-то Рябинин давно на погосте, в семье Степан – голова. Упротивится – не видать Анюты как своих ушей.
– В деревню можешь больше не ездить! – Рябинин погрозил пальцем. – Знаю, зачем таскаешься… A теперь выкуси, забираю Аньку в Питер. Под строгим присмотром надежнее. Подыщу местечко почище, к хорошим людям…
– В услужение отдашь? – У Федора похолодело в груди. – Господам на усладу?!
Степан ощерился:
– Да уж лучше господам, чем таким, как ты! Каторга по тебе плачет… Помни мое слово – понюхаешь тюрьму! – Рябинин плюнул на дорогу и быстро пошел прочь. На некотором расстоянии остановился, выкрикнул: – И не вздумай к моему дому подходить! Увижу – ноги пообламываю!
С чахлых берез падали сережки, сквозь жухлую прошлогоднюю траву пробивалась свежая зелень. Федор миновал выгон, по-за огородами обогнул деревню и снова вышел к речке. Здесь, на возвышенном берегу, на зазеленевшей солнцепечной лужайке деревенская ребятня играла в пятнашки. То-то визгу и смеху! С улыбкой, понаблюдав за малышней, Федор подозвал племянника. Разгоряченный парнишка, шмыгая носом и поддергивая штаны, подбежал и, переминаясь с ноги на ногу, нетернеливо спросил:
– Чего, дядь Федь?
– Удружить можешь? – Федор погладил племяша по раскрасневшейся щеке. – Очень нужно.
– Чего удружить-то? – забавно скривился мальчишка.
– Слетай к Рябининым, скажи Анюте – в березках, жду.
– У-у! – Племянник состроил плаксивую рожицу. – Пока бегаю да пока говорю, всех по домам разгонят, не поиграюсь!
– Рано еще, не загонят, – успокоил Федор. – Успеешь, нагоняешься… Ландрину дам.
– Не врешь, дядь Федь? – На лице заиграла улыбка.
– Когда обманывал? – Федор мазнул по рожице растопыренной пятерней. – За мной не водится.
– Ну ладно, сбегаю, – великодушно согласился племяш. – А леденцы нынче?
– В укладке горстка осталась, приберег для тебя. Вечером получишь… Да не лезь на глаза Степану! Крадучись скажи, чтобы никто не услыхал. Уразумел? Как лазутчик.
– Как лазутчик? – обрадовался малец. – Уразумел! Заползу с огорода.
– Хочешь ползти – подползай. – Федор легонько дернул его за взмокший от пота вихор. – А лучше погоди у колодца. По воду выйдет, тут и передашь…
Племянник умчался, а Федор, сутулясь по фабричной привычке, потихоньку побрел к березовой рощице в излучине реки, подальше от деревни. Анюта, Анюта… Давно ли вместе бегали по этой же лужайке, с визгом и смехом догоняя друг друга? И за косички, бывало, дергал ее – до боли, до слез. Жаловалась… А нынче вот – второй такой девицы в округе не сыщешь. Поглядеть на нее хочется нестерпимо. Поглядеть еще разок, а там и в Нарву можно возвращаться. Чтобы душу себе не травить…
Один раз-то уже повстречались. Мельком. Только слез с телеги возле церкви, а тут и она – Анюта. Ненароком очутилась… Увидела, вспыхнула вся, так и потянулась к нему. Однако, убоявшись чужих глаз, даже не остановилась. И когда шепнул, чтобы вечером вышла на эады к огороду, потупилась, помотала головой: «Грех на страстной…»
Надо и вправду подаваться в Питер. Если Степан увезет ее, можно будет встречаться хоть каждое воскресенье. В большом городе кто узнает? Там, сказывают, гулянье на островах. Станут вместе гулять. Умных людей разыщут. Глаза раскроются на жизнь, не вечно же ей в серости пребывать. На ощупь жить негоже… Люди вон красный флаг не побоялись поднять. Теперь его не затопчет, лиха беда начало.
Федор завидовал тем, кто участвовал в демонстрации. О ней и на фабрике говорят. Не во весь, конечно, голос, между своими – шепотком, но вспоминают. И прокламация по рукам ходит. Большой, видать, грамотей писал, не все понятно. Но главное – живет написанное, будоражит душу.
Анюта прибежала, когда уже отчаялся дождаться, почти потемну. Федор видел, как вошла она в рощицу и нерешительно остановилась у нервых березок, беспомощно озираясь. Приложив ладонь к губам, Федор три раза крикнул кукушкой. Анюта улыбнулась и смело пошла на звук.
– А ежели тут волк? – засмеявшись, спросил Федор и попытался обнять ее.
– Волки не кукуют… А кукушечья пора еще не настала. – Анюта ловко увернулась от протянутых рук. – Не распускай грабли-то, рассержусь…
– Надолго пожаловала? – Федор все-таки ухватил ее за плечи и притянул к себе.
– А что, торопишься куда? – тихо спросила Анюта, не вырываясь больше из его объятий.
– Боюсь, убежишь сразу…
– Нет, – еще тише сказала Анюта, уткнувшись лицом в его грудь. – Господа звали девок хороводиться, наши в Редкино подались… А я, непутевая, к тебе!
– Отчего же непутевая? – Федор крепче обнял ее. – Соскучился, поди… Обойдутся Сахаровы без тебя.
– Коли скучал бы, приезжал почаще. – Анюта взглянула ему в глаза. – Разве так скучают? Раньше-то на все праздники бывал. А нонче и на рождество не показался.
– Какой с меня раньше спрос? Мальчишка на побегушках! А нынче машина не пускает.
– Ну бросай машину, бросай! – требовательно сказала Анюта. – Потолкуй с братом, глядишь, пособит землю арендовать. Другие-то кормятся землей, в своей деревне живут…
– То не жизнь. – Федор прикоснулся к ее волосам, пахнувшим скоромным маслом. Подумал: «Язвищенские девки лампадным мажутся, а у Рябининых не переводится коровье». – То не жизнь, – повторил вслух, – нищета собачья.
– Избаловался на фабрике! – Анюта капризно надула губы. – А братец сказывал, кто не глупой, от земли отбиваться не станет. Потолкуй с ним, потолкуй – хорошему научит.
– Уже толковали, – усмехнулся Федор.
– И что? – Анюта встрененулась.
– Не столковались. – Федор легонько тряхнул ее. – Меня в деревню манишь, а сама в Питер наладилась!
– Откуда взял? В голове не держала.
– Степан и говорил… Забираю, мол, к себе…
– Ой, неужто правда? – Анюта отстранилась, сложила руки на груди. – Зачем пугаешь? В дому об этом разговору не было… Неужто тихомолом от меня?
– А чего пугаться-то, дурочка? Станешь питерской барышней, плохо ли! Белый свет поглядишь.
– Не поеду от маменьки! – Анюта топнула ногой, прибранной в шнурованный сапожок городской выделки. – Напрасное братец затеял, никуда не поеду! Мне и здесь хорошо.
– М-мда, – Федор удрученно покачал головой. – А я размечтался. Думал, в городе нам способнее будет. Хотел ведь следом за тобой подаваться, А ты вон как – не поеду…
Анюта притихла – растерянная, не зная, как теперь отнестись к нежданному известию о предстоящем отъезде. Федор гладил ее по волосам и тоже молчад.
Из деревни, ослабленные расстоянием, доносились пьяные выкрики, обрывки протяжных песен. Язвищенцы «отгащивали», норовя побывать за столом в каждой избе; где сохранилась хоть капля браги. Нерепьются вконец, нагалдятся, наспорятся вдоволь, вспоминая старые обиды, потом и до драк дело дойдет – по обычаю. А завтра с утра станут мириться за опохмелкой, и снова нерепьются, и опять начнут волтузиться, в клочья раздирая праздничные рубахи. Только дня через три утихомирятся. Уныло подсчитают пропитое, порванное да изгаженное, отопьются квасом и – от темна до темна на пашне. Никакого просвета. И протеста никакого. От бога, мол, жизнь так поставлена, не нам и роптать. В домовых верят… Урядников и становых, правда, ненавидят. Эти царевы слуги к мужику близко, одного притесняют – всем видно. Но если о ком повыше начнешь речь, шарахаются словно от лешего: не замай власть! Одна у них забота – хлеб. Деревенский ли староста созовет сход, ненароком ли сойдутся на меже два-три мужика, разговор один и тот же: высокие подати, плохой урожай. Для разнообразия лишь кто-нибудь вспомнит, что корм скотине добывать негде, опять сенокосы у помещика покупать. И это жизнь? Да пропади она пропадом!
– Верно, что ли, поедешь? – недоверчиво спросила Анюта. – Не обманываешь?
– Вы что сегодня, сговорились? – осердился Федор. – Давеча племяша за тобой посылал, ландрину посулил, так он, шельмец, усумнился! Теперь ты… Когда ж такое бывало, чтоб неправду молол? Вспомни-ка!
– Ладно, ладно. – Анюта выставила щепоткой пальцы и шутливо ударила его по губам. – Правдивец… Много вас таких. Божатся, клянутся, а посля глаз не кажут, над девичьими слезами насмешки строят. В Петербурге, поди, и думать забудешь, что где-то я жива, сохну по тебе. Так, что ли?
– Не так, – тернеливо ответил Федор, почувствовав вдруг смертную скуку. – Вовсе не так…
Господи, да что же это? Рвался в Язвище. Маялся в надежде на встречу. Думал, будет хорошо, как раньше, уже оттого, что увидит ее, что встанут где-нибудь за деревней, тесно прижавшись, жарко дыша Друг другу в лицо. Ну пришла… А дальше? Разве откроешь ей, какими мыслями полна голова? Разве поймет?
Нет-нет, не надо…
Федор испугался неожиданно возникшему холодку в его чувствах к Анюте. И сказал с отчаянной решимосныо, будто заодно уговаривая себя:
– Будешь крепко в сердце держать, стало быть, ты – моя доля. Без тебя – не жизнь.
– И мне без тебя… И маменьке скажу, и братцу…
Анюта обхватила лицо Федора горячими маленькими ладонями и поцеловала.
Они встретились через десять лет… Степан Рябинин задуманное свершил: увез младшую сестру из деревни, пристроил горничной в богатый дом. А Федору вырваться в Санкт-Петербург, как о том мечтал, когда в последний раз приезжал в Язвище, оказалось не просто. Держал фабричный долг. Коли не двужильный, быстро не расплатишься…
И только через десять лет теплым июльским днем повстречал Анюту на Литейном. Шла под руку с каким-то франтом, по обличью приказчиком из модного магазина. На мгновение зацепившись взглядом за неказистую фигуру земляка, Анюта, красивая, одетая чисто, по-господски, с красным зонтиком в руке, прошла мимо, сделавши вид, что не узнала. А может, впрямь не узнала? У Федора к тому времени выросла борода, и очки стал носить, потративши зрение в темном ткацком цеху Кренгольмской мануфактуры.
Постоял, посмотрел ей во след. Яркий зонтик, как флаг, долго маячил над головами. Как флаг, но не флаг…
ГЛАВА 2
Северная столица переживала смутные времена. Выстрел Каракозова, покушение Соловьева, попытка поднять в воздух царский поезд, взрыв в Зимнем, устроенный Халтуриным; пятнадцать лет продолжалась охота на монарха – убили. Шесть лет потом сохранялась относительная тишина. Одних повесили, других загнали в каторгу; жизнь вроде бы поуспокоилась. Так нет же, 1 марта 1887 года свершилось новое покушение на августейшую особу. Революционисты дали понять, что у Александра III может быть такой же конец, какой обрел его родитель. И опять аресты, тюрьмы, виселицы. Умы верноподданных слуг государя опять цененеют от страха, стоит им услышать зловещие слова «нигилист», «динамит»…
Между тем Петербург превращался в огромный промышленный город – жителей приближалось к миллиону. За Невской, Нарвской, Московской заставами поднялся угрюмый частокол заводских и фабричных труб: дымили в отдалении, словно эскадры вражеских кораблей. Разноголосые гудки ревели на рабочих окраинах, каждое утро напоминая о возникновении новой силы, способной завладеть родовыми имениями и дворцами, уничтожить царские темницы, сломать установленный дедами-прадедами жизненный уклад. Однако даже самые проницательные из состоятельных петербуржцев пока не отдавали себе отчета в опасности, угнездившейся там, за далекими заставами.
Другая стать – крестьянские бунты, от них страдают поместья, доходам ущерб. Или опять же – бомбисты… Вот уж поистине бельмо в государственном глазу! А на фабриках что ж… Шевелятся, добывая хлеб насущный. Какая там может быть опасность, что за грозная сила? Вещественных проявлений таковой не наблюдается. И потому жизнь бежит накатанной колеей. По Невскому проспекту, на Выборгскую сторону, на Васильевский остров тянутся неторопливые конки; обгоняя простецкие повозки, в разные концы столицы мчатся щеголеватые экипажи; тяжелые кареты сановных лиц плывут сквозь уличную толчею, будто фрегаты между турецкими фелюгами; на Большой Морской, освященные светской традицией, под видом моциона устраиваются смотрины невест; гремят балы, театры переполнены, в Дворянском собрании симфонические концерты, цирк Чинизелли зазывает веселой программой. Богатство и бедность – на виду. Роскошь и нищета соседствуют. Роскошь чванится, бедность жмется. Богатство не таит своего блеска, нищета не прячет горя. Каждому в жизни отпущено столько, сколько имеет…
А в небольшом здании во дворе Технологического института, напротив ворот с Забалканского проспекта, процветает своеобразная республика. Здесь столовая, управление которой в руках студентов. Сами себе хозяева: обедая, проводят сборы денег на нелегальные нужды, из рук в руки нередают крамольщину, обсуждают дела, весьма далекие от тех, что поощряются начальством. Например, библиотека… Богатейшее институтское книгохранилище после недавних студенческих волнений по распоряжению жандармов наполовину опечатано: беспрепятственно выдаются только технические книги, а труды по экономике и социальным наукам хранятся под замком. Как и во все времена, запретительное действие власти вызвало немедленное противодействие: студенты образовали свою библиотеку. Облеченные доверием люди хранили запрещенную литературу у себя дома, по две-три книги, не более. Между гороховым супом с копченой свининой и жареными сигами в столовой можно было поизучать рукописный каталог, записаться в очередь и в конце концов получить любой интересующий том.
В столовой царил веселый гам; в уголке, устроившись подальше от обычной сутолоки, сидели двое. Уплетая гречневую кашу с бараниной, Вацлав Цивинский – из поляков, допущенных к обучению в Технологическом, – вполголоса говорил:
– Думаю, Красина стоит включить в работу. Сибиряк, крепкий малый; Лаврова не празднует, узнал точно. К Михайловскому отношение прохладное… Экономике отдает нервостененное значение.
Бруснев катал по столешнице хлебный шарик. Повернувшись боком, сидел с отсутствующим видом, будто не ему говорилось. Цивинский с трудом привыкал к манере Михаила конспирировать даже там, где, казалось бы, нет опасности. Его раздражало, что слова падают как бы в пустоту, хотя и знал: ни одно слово не пролетит мимо ушей Бруснева, напротив, за каждым, даже случайно оброненным, замечанием Михаил умеет видеть больше, чем сказано. И все-таки нелегко говорить, когда собеседник делает вид, что ему неинтересно.
Отодвинув тарелку, Цивинский повысил голос:
– Леонид подходит по всем статьям.
– Потише, потише, – сказал Бруснев. – Сколько их?
– В основном шестеро… Брат его, Герман, тоже в кружке. Занимаются солидно, рефераты пишут. «Капитал» одолели самостоятельно…
– Не испугается? Спрашивал?
– Не-е! – Вацлав взмахнул руками. – Рисковый!
– Рисковый? – неодобрительно нахмурился Бpуснев.
– В смысле не трус. Библиотекарем второй год… Вполне подходящий. Работает хорошо, осторожно… Я давно посматриваю.
– То-то же. – Бруснев нахмурил бугристый лоб. – Рисковые нынче быстро на Шпалерную попадают. Нам таких не надобно. Пускай лучше на каждом шагу оглядывается, дольше свежим воздухом подышит…
– Само собой, – согласился Цивинский.
Придавив хлебный шарик большим пальцем, Бруснев кинул мякишную ленешечку в тарелку и поднялся из-за стола. Надел фуражку, заправив под околыш упрямую русую прядь, на мгновение задумался и сказал:
– Выведем на Афанасьева… Скажи ему. Ежели переодеться не во что, приводи…
Федор Афанасьев покинул Кренгольм поздней осенью 1887 года. Уговорившись с Егором, подкопили деньжонок и двинулись к берегам Невы. Средний брат, Прокофий, ехать на новое место наотрез отказался.
– Дураки вы, – говорил хмуро, провожая их до почтовой станции. – Куда несет, чего ищете? Неужто не боязно?
– Боязно, – беспомощно признался Егор. – Кад-то еще обернется…
– Во-о! – подхватил Прокофий. – Здесь какая-никакая, а крыша над головой. Артель свойская, люди нас знают, мы всех знаем… Поговаривают, после рождества расценок повысят. Пожалеете! Сгинете на стороне…
Они уже перешли протоку, оставив позади смрадный и скудный мирок опостылевшей мануфактуры.
– Не каркай! – одернул Федор. – Чего жалеть-то? Остров, он и есть остров – тюрьма. Люди к месту прикованы, как клейменые к тачкам… Податься некуда, по всей округе единая фабрика. – Пригорншей зачерпнул студеной нарвской водицы, плеснул себе в лицо, утерся подолом рубахи. – Вот артель, говоришь, свойская… А толку? Живут, как сорная трава на обочине, каждый топчет, кому захочется… Я поболее вас хлебнул тут лиха – хватит. Теперь знаю, что можно и получше жить.
– Ты, Федька, бедова голова, на книжках помутился, – неодобрительно сказал Прокофий, – а Егорку зачем тащишь? Поезжай один, не смущай парня. Загубишь ведь…
– Оно хоть и боязно, а через мосток обратно не пойду, – осмелел Егор. – Спытаем счастья… С Федькой-то авось не сгину.
– Хуже не будет, – Федор подбодрил младшего. – Питер в тыщу разов больше Нарвы, отыщем пристанище. У меня и адресок имеется, добрые люди не оставят сирыми…
Обнялись, понимая, что не увидятся долго, а может, никогда.
– Не поминай лихом! Прощай, Прокоша, прощай…
Работу в Петербурге подыскали быстро, адресок пригодился. В той части Васильевского острова, которая была еще не полностью застроена, на пустыре за оврагом в штукатуренном двухэтажном доме квартировал немолодой уже студент медицинской академии – народоволец из числа немногих остававшихся на свободе. Едва допустили к нему. Сухая бледная девица в очках долго строжилась: кто, откуда, по какой надобности?
Это Федор уже знал – конспирация. Кренгольмский учитель просветил, спасибо ему… Подал Федор записку, мол, не бродяжка какой, послан товарищем. Девица прочла послание учителя, отношение к неожиданному гостю изменила: провела Федора в комнаты, накормила, угостила хорошим чаем. Студент – он был постарше Федора, клочковатые волосы не скрывали тусклую плешь – пришел часа через полтора, обнял, как родного:
– Эт-то хорошо! В-вы не представляете, как хорошо! Плоды труда невидимых героев… М-мы – в народ, народ – к нам! Правда, партия переживает страшный времена… Но это пройдет. Об Ульянове, надеюсь, слыхали? Горжусь! Александр был моим товарищем… Да-с! Но мы отомстим… У нас еще достаточно людей, пламень души не потух… Мой друг пишет, вы умеете находить подход к рабочим…
Федор слушал несколько недоверчиво: не привык к столь открытому проявлению чувств, к недержанию речи.
– Какой там подход… Со своими – свой, вот и весь подход, – сказал смущенно.
– Превосходно звучит! Свой со своими… Это как раз то, что нам теперь нужно. Я всегда твердил: надобно вырываться из узких рамок, террор должен стать народным! Только тогда – успех…
Много кое-чего говорил лысый студент. Не все Федору запомнилось – с дороги притомился, голова кругом. Но главное – студент не наврал, люди у них были в разных местах: работу и комнатушку на Обводном канале спроворила моментально. На другой же день повезли Федора на Резвый остров, свели с молодым конторщиком, тот, ни о чем не спрашивая, представил мастеру. И вечером стал Афанасьев к машине на фабрике Воронина. А Егора таким же манером пристроили к Палю; не успел парень опомниться – получил ткацкое место… Студент вообще-то хотел, чтоб в одну упряжку, на Резвоостровскую, говорил – удобнее вдвоем заводить знакомства с рабочими. Но Федор воспротивился: зелен братишка, пускай чуток пообтешется. Не хотел cpaзy, как головой в омут, толкать Егора на опасную стезю. Поселиться можно и вместе, жить вдвоем легче, но в остальном спешить не стоит: жизнь сама покажет, что к чему, а кому какая дорожка. Жизнь умнее самых умных людей, в этом, перечитав уже достаточно мудрых книг, Федор убедился.
Резвоостровская фабрика была, конечно, получше Кренгольма: поновее, порядку поболее. Но копнуть глубже – такая же каторга. И там остров, и здесь остров, хоть и на виду у Петербурга. И там люди голодные, и здесь живут впроголодь. Господин Воронин – промышленник оборотистый, копейку из народа выжимает – соленая водица капает. Сколько ни подступались с просьбами улучшить условия работы, ответ один: «Кому не нравится, ступайте за ворота!»
Федор всю зиму прожил без друзей. Лысый студент с Васильевского острова исчез неизвестно куда. Неделю спустя после первой встречи Федор постучался в тот самый дом. Открыл высокий старик, бледный и сухой, похожий на девицу в очках. Выслушал, поджав тонкие, вытянутые в ниточку губы, буркнул:
– Такого не проживает.
Федор, предполагая, что все окружение студента вовлечено в конспирацию, свойски подмигнул:
– Вы доложите – из Кренгольма человек. Они знают…
И тут спина старика выгнулась, как у мартовского кота на крыше, он дернул прокуренными усами и зашинел:
– Пш-шел вон, мерзавец. В полицию сдам. За своим знакомцем пойдеш-шь…
Так оборвалась единстведная дорожка, которая могла бы привести Афанасьева в подполье Народной Воли. Он ждал долго и терпеливо, что кто-нибудь найдет его и скажет, что делать дальше, как жить, к чему приложить силы. Ведь знали же друзья студента, где он обитает и работает, – сами ведь помогали устраиваться. Должны бы вспомнить о нем! Однако не вспомнили, никто не пришел. И молодой конторщик, когда встречались на фабрике, проходил мимо, будто видел первый раз, – чужой. Все чужие: народ в Петербурге куда как сдержан, пришлым со стороны открываются туго. Оставалось надеяться на счастливый случай. И не только надеяться – искать его, потому что Федор не хотел жить, уподобляясь траве.
Соседом по квартире оказался новгородский мужик – прядильщик с той же Резвоостровской фабрики. Злющий на вид, разговаривал, будто лаял. Ходили и одну смену, поздоровается и топает молча. А дорога хоть и не длинная, но поговорить можно бы о многом. Федор на мрачный вид новгородца – ноль внимания, откровенно о себе: в родительском доме места нет – надел скудный, ткачом сызмальства, повидал, дескать, виды. Рассказал, как кренгольмские, взбунтовавшись, вырвали у хозяев прибавку к жалованью.
– У нас не побунтуешь, царевы слуги под боком, враз сомнут, – услыхал в ответ.
Новгородец добрее не стал, но отмалчиваться бросил. Однажды вдруг пролаял:
– В Питер-то зачем прикатил? Коврижки на деревьях не растут.
– Так-то оно так, – согласился Федор, – а житье все же вольготнее. Идем вот, калякаем… Воробьи шебуршатся… А в Кренгольме от машины в казарму и обратно. Круговращение…
– Видал, слова какие знает! – фыркнул новгородец. – Грамотный, поди?
– Учился.
– Книжки читаешь?
– Ежели хорошие, читаю… Может, знаешь, где взять?
– Не знаю, – гавкнул прядильщик, но неред фабричными воротами, с трудом понижая свой лающий голос, утробно выдавил: – На рынке Александровском ищи… На книжном развале хорошие попадаются.
А к весне новгородец совсем оттаял. В начале апреля поманил Федора в уборную, шепнул:
– После смены загляни ко мне в угловую. Дело имеется…
Угловая комната, где обитал прядильщик с женою и тремя ребятишками, в квартире была самая большая. Федор вечером постучался, вошел – удивился. Вокруг дощатого стола на нерекрещенных ножках сидело несколько фабричных; помимо хозяина Федор знал еще троих – ткачи и таскальщик основ, разбитной парень, который частенько веселил мужиков в уборной похабными байками. Но сейчас веселья не замечалось, сидели трезвые, какие-то нахохлившиеся. Новгородец показал на скамейку – садись. Федор достал кисет, подсел к столу.
– Вот, значица, как… Ты парень сурьезный, мы тебя поглядели, – гулко сказал хозяин. – И грамотный тож…
– К чему клонишь, покамест не смекаю. – Федор запалил огниво, прикурил. – Но так скажу: ежели что тайное удумали, меня опасаться нечего. Не фискалил отродясь…
– Ничего такого тайного… Житья нету, терненье лопнуло. Задумали фабричному инспектору господину Давыдову челом бить…
– Другие-то пишут, быват, послабляют, – вставил ухмыляясь, разбитной таскальщик. – Глядишь, вырешат чего-нито в нашу пользу.
– На то они фабричная инспекция, – поддержал один из ткачей. – Может, не оставят милостью…
– Словом, помогай! – бухнул новгородец. – Мы и так и эдак крутили, ни шиша не выходит…
– Не могем бумагу составить.
– Не даются буковки…
Федор был разочарован. Он думал – кружок, а тут сочинители смиренной челобитной. По все равно дело. Позвали мужики, стало быть, вошел к ним в доверие, уже хорошо. Сходил в свою комнатушку за бумагой, отточил карандаш и помог написать толковое письмо, подсказывая, какие требования выдвигать наперед:
– Паровая машина имеется, от нее можно во всех фабричных помещениях устроить механические вентиляторы. Так и запишем… Воду пьем плохую, грязную. А надо бы пропускать через очистительный аппарат… Верно?
– Правда твоя, – согласился новгородец. – От этой воды брюхо болит… Колики бывают.
– Вот-вот. – Федор неторопливо писал. – А чтоб не болело, да и от разных несчастных случаев попросим при фабрике учредить аптеку…
– Аптеку? – безмерно удивился новгородец. – Ну, братец, лишку хватил!
– В самый раз, – заверил Афанасьев. – Аптеку и врачебную помощь… Глаза людям поберечь надобно. Ткань белая, солнце с южной стороны шибко падает, глаза слезятся. Раздражаются… Я ведь теперь – без очков ни туды ни сюды… Значит, запишем: повесить на окнах шторы…
– Эх, ма-а! – захохотал разбитной таскальщик от избытка радостных чувств. – А он говорит про тебя – умен, мол, пришлый, а я не верю – тихий шибко. А ты, брат, ушлый! Ишь удумал – шторы… Поди, только в господских домах бывают эти самые шторы!
– Пускай проще – занавески, – улыбнулся Федор, похищенный похвалой.
Письмо, подписанное многими резвоостровцами, было настолько ловко и убедительно составлено, что фабричный инспектор вынужден был вступить в нелегкие переговоры с хозяином. И что особенно удивило рабочих и служило впоследствии предметом бесконечных разговоров по дороге на фабрику и домой, в уборных и во время обеда, письмо принесло пользу: вентиляторы установили, открыли врачебный кабинет, воду стали очищать, занавески с южной стороны повесили…
Новгородец вскоре после того сказал Федору:
– Вижу, надобно тебе с тайными сходиться… Сам я в смуту не лезу, детишки у меня малые, сиротить не гоже. Но тебя, ежели хочешь, отведу… На Балтийском заводе есть знакомец, этот знает, где какие книжки… Хочешь?
– Спасибо, сосед, – только и ответил Афанасьев.
Так он попал в рабочий кружок «Социал-демократического общества», созданного студентами Технологического института. Делами в кружке заправлял Иван Иванович Тимофеев – слесарь с Балтийского, книгочей, золотая голова и серебряные руки. Именно он приохотил друзей ходить по воскресеньям на книжный развал Александровского базара, чтоб покопаться в старых журналах. Отбирали подходящее, переплетали в одинаковые синие обложки, составили библиотеку в тысячу томов. Тысяча! Это же такое богатство… И конспиративную квартиру для кружка на общественные средства нервым предложил снять Тимофеев. Тогда это было необычно, долго сомневались: стоит ли? А когда обрели комнату в неприметном домишке на Васильевском острове, между Большим и Средним проспектами, поняли, как это удобно.
Иван Иванович встретив Федора ласково:
– Слыхал о тебе хорошее. Земляк сказывал, у Воронова после вашей челобитной тебя зовут учителем жизни. Правда?
– Пустое, – отмахнулся Федор. – Любой грамотный так же составил бы… Возносить не за что, блажат.
– Любой, да не любой. – Тимофеев с интересом, поглядывал на щуплого, молодого еще мужичка с окладистой бородой. – Оброс-то зачем? Слыхал, холостякуешь, девки не полюбят…
– А не будет их, девок-то, – вздохнул Федор. – Отболело.
– Что так?
– Нищету плодить неохота… Да и это… На шею сядет, к своему корыту потянет. Земляк вон твой, новгородец, видал, поет: хотел бы в рай, ан детишки не пускают. А я свободный, захотел вот – к тебе пришел. Коли приветите, насовсем останусь.
Тимофеев засмеялся:
– Положим, не рай у нас. Скорее – напротив… Но ежели ты не шибко возносишься, оставайся. Приходи в воскресенье на Васильевский, умных людей послушаешь…
Целый год ходил Федор на собрания кружка. Читал книги, о которых кренгольмский учитель и не заикался. «Манифест Коммунистической партии» – нервым делом. «Происхождение семьи, частной собственности и государства» немецкого мудреца Энгельса. «Наши разногласия» Георгия Плеханова. После этой книжки и понял, почему кренгольмский народник морщился, когда вспоминал марксидов. Вон оно как – вовсе не крестьяне главная сила, которая может неревернуть жизнь, а фабричные да заводские! Бруснев-то Михаил Иванович много об этом толковал: террор – пустячная затея, одного царя ухлопали, другой на его месте пуще свирепствует; шайку-лейку – царя, помещиков, заводчиков, чиновников – должны похоронить рабочие; для этого надобно объединяться, готовиться к борьбе, учиться. Ну, а учиться Федор с детства любит, только подавай, над чем голову ломать, «Происхождение видов» английского натуралиста Дарвина читал взахлеб, иные так не читают переводные французские романы, «Рабочее движение и социальная демократия» Аксельрода – много кое-чего одолел, удивляя студентов тем, как быстро схватывал суть прочитанного и как прочно все запоминал.