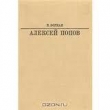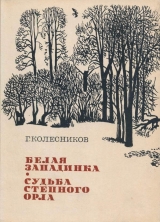
Текст книги "Белая западинка. Судьба степного орла"
Автор книги: Гавриил Колесников
Жанры:
Рассказ
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
1
Нет ничего удивительного в том, что необычайное привлекает к себе внимание и запоминается на всю жизнь. Да и в самом деле, разве может, например, когда‑нибудь изгладиться впечатление, произведённое на вас северным сиянием?!
Ну, а если необычайное скрыто в рядовом, встречающемся на каждом шагу? Вот, скажем, колымская лиственница, неказистое дерево, образующее в наших местах крупные таёжные массивы. Ничем особенным оно как будто не примечательно. А все‑таки это необыкновенное дерево! Сумело же оно захватить и освоить гигантские пространства, менее всего предназначенные для того, чтобы на них укоренялось и росло что‑нибудь живое.
Подумать только, чем эта бедная лиственница держится за нашу суровую землю! Ведь поверх вечной мерзлоты или трещиноватого камня здесь едва возникает тонкая плёнка почвы. Да и что это за почва?! Коричневатая землица, перемешанная с диким щебнем, или слой: неперегнивших мхов, легко затянувших студёное болото. Широко распластав (чуть ли не по самой поверхности) сильные корни, неприхотливое дерево тянет из этой почвы живительные соки, формирует могучий ствол, покрывается весной нежными зелёными иглами, растит семена в маленькой невзрачной шишке…
И все‑таки, как ни цепко хватается это дерево за землю, нестойко оно живёт на ней. Мне самому приходилось наблюдать на мшистой заболоченной почве целые рощи пляшущих лиственниц: ступаешь по сырому мху, а в такт твоим шагам покорно качаются деревья.
Был на нашей разведке большой клин лиственничной тайги, сплошь заваленный буреломом. Видно, такой сильный ветер налетел на этих таёжных великанов, что не смогли они противостоять его напору и падали, вырывая вместе с корнями тяжёлые глыбы земли.
Мне всегда было как‑то жалко и страшно смотреть на эти обнажённые корни с присохшими к ним бурыми комьями. Поверженные бурей, деревья словно грозили кому‑то могучими искорёженными членами, словно оберегали растопыренными узловатыми рогатками те ямы, около которых полегли навечно…
Бурелом захватил обширную террасу, намытую древним, давным-давно исчезнувшим потоком.
Я решил на всякий случай обследовать естественные шурфы, образованные поваленными деревьями. Ведь разведчику всюду золото мерещится…
Золота я не нашёл, но в одной из ям откопал бивень мамонта. Это был очень хорошо сохранившийся экземпляр. Он мог бы стать украшением любого музея. Бивень весил не менее четырёх пудов. Я в полной мере ощутил это, когда мы вдвоём с Поповым несли бивень на плечах, прикрепив к здоровенной жерди.
Несколько дней клык забавлял нас, а потом мы охладели к этой полуокаменевшей кости и оставили её в покое. Клык долго простоял праздно у толстой стены нашей таёжной избы, пока не нашлось ему неожиданное и очень интересное применение.
2
В тайге каждый гость дорог, и мы от души обрадовались появлению в нашем доме старого якута. Попов засуетился с чаем, но гость даже не присел к столу. Видно было, что старик чем‑то глубоко и серьёзно взволнован. По–русски он говорил плохо, но все‑таки говорил, и мы поняли, что у них в селении кто‑то «совсем шибко больной, вот-вот помирать будет».
Мы немедленно радировали о случившемся в управление, а я, прихватив с собой йод, стрептоцид и касторку, решил отправиться с гостем в его посёлок.
Путь был дальний, и, хотя олени мчали нас быстро, а старик вёл упряжку уверенно и умело, мы прибыли в селение под вечер и… с опозданием. Часа за два до нашего приезда здесь побывал самолёт, взял на борт больную внучку якута и улетел.
Новое якутское селение напоминало мне чем‑то родную среднерусскую деревню. Хорошие дома, срубленные в замок. Высокие заснеженные кровли, покрытые дранью. Большие застеклённые окна почему‑то насквозь промороженные. Кирпичные трубы на крышах. Добрые дома…
Старик равнодушно ехал мимо этих отличных строений. Вот он свернул в какой‑то переулок, и мы оказались позади рубленых домов, за которыми беспорядочно высились странные снежные конусы, курившиеся приятным смолистым дымком…
Да ведь это бревенчатые якутские юрты! Мне довелось видеть их осенью в одном из якутских селений. Строили их из брёвен, поставлен–ыых вертикально с небольшим уклоном к центру. Помнится, что на зиму эти юрты обмазывались глиной… Тёмные это были, чадные и неудобные для жилья строения. По именно в них‑то и жили люди, а в новых домах они хранили сухую рыбу, мороженую оленину, охотничье снаряжение и припасы.
Как далеко ушло от нас это время! Вспомнишь – и самому не верится, что все это было ещё на твоей памяти.
Якуты – исконные скотоводы. Но водили они полудиких мохнатых лошадок да очень малопродуктивных коров. Олень, наиболее приспособленное к Северу домашнее животное, появился в хозяйственном обиходе якутов уже в наши дни.
Я провёл в селении целую неделю. Учил людей топить печи, жить в домах, спать на кроватях, есть за столом…
Не скажу, насколько прочно и стойко убедил я своих соседей в преимуществах жизни по–новому, но, когда уезжал к себе на разведку, смолистый дымок курился теперь над каждым новым домом и стекла в них заметно оттаяли. Провожали меня всем селением, как хорошего давнего друга.
Дома меня ждала радиограмма, из которой я узнал, что якутская девушка «Ольга Матушкина благополучно оперирована по поводу заворота кишок». Дальше мне поручалось сообщить об этом её родителям и деду – Василию Ивановичу Матушкину.
Я невольно улыбнулся. Видно, крёстной матерью Ольгиного прадеда оказалась какая‑нибудь сердобольная попадья, и от неё пошла у этого якутского рода такая ласковая фамилия…
3
Месяца через три после первого посещения, уже на исходе зимы, к нам на разведку снова приехал Василий Иванович Матушкин.
Старик молча вошёл в избу, разделся, сел к столу.
Мы спросили гостя о здоровье Ольги. Он собрался сказать нам о чем‑то большом и важном, но захлебнулся в потоке своих мыслей и только улыбнулся в ответ доброй стариковской улыбкой.
Попов согрел чай. Гость долго и с удовольствием пил крепкий горячий напиток, молча выкурил трубку, посидел ещё и наконец сказал:
– Однако, поеду.
– Ночь на дворе, ночуй, – пригласил Попов.
– Однако, поеду, – повторил Василий Иванович и ушёл, ни с кем не простившись.
Вскоре он вернулся, принёс изрядный кусок оленины и молча положил мясо на стол.
Я было достал деньги, но Попов удержал меня. Он поднял найденный нами бивень мамонта и взгромоздил его на стол рядом с олениной.
Стол у нас был могучий, как раз под мамонтовые клыки срубил его топором Попов. У Василия Ивановича загорелись глаза. Он торопливо ощупал желтоватую кость бивня, словно проверяя его твёрдость, и, восхищённый великолепием нашей находки, радостно чмокал губами.
– Хорош? – весело спросил Попов.
– Ой, хорош, ой, хорош! – поспешно заговорил старик.
– Ну так бери, если нужно. Нам он все равно без пользы, —сказал Попов. – Бери, если надо, бери!
Наш подарок очень обрадовал старика. Он попытался было взвалить его на плечо, но безуспешно. На нарты бивень помогал относить Попов. Василий Иванович ещё раз вернулся в избу, степенно пожал всем руки и уехал.
4
Так мы подружились с Василием Ивановичем Матушкиным. Он стал частым гостем на нашей разведке. Частым, разумеется, по нашим таёжным понятиям, применительно к северным расстояниям, отделявшим нас друг от–друга.
Василий Иванович оставался все таким же молчаливым и приветливым. Он любил подолгу и внимательно рассматривать «Огонёк» и газеты. Их нам довольно аккуратно сбрасывал почтовый самолёт.
Однажды прилёт аэроплана совпал с приездом к нам Василия Ивановича. Самолёт сбросил почту и, прощаясь, кружил над нашей разведкой.
Я никогда не забуду того восхищённого удивления, с которым смотрел на парящую в небе машину Василий Иванович.
Вид самолёта чем‑то очень растрогал старика. Он попросил у нас газету со снимком Внуковского аэродрома, на котором стояла целая семья самолётов, так полюбившихся нашему гостю.
Я не придавал особого значения этому интересу Василия Ивановича к современным летательным машинам. Ну, не знал старый якут самолётов, и удивление его при виде этих аппаратов вполне естественно. На деле все оказалось гораздо сложнее и значительнее.
Работы наши подходили к концу, и мы готовились к переезду на другую базу. Василий Иванович приехал попрощаться с нами. Как и обычно, он молчаливо пил чай, перебрасываясь с Поповым односложными фразами. Вдоволь намолчавшись, Василий Иванович собрался уезжать. И вот тут произошло это знаменательное событие.
Старый якут торжественно развязал мешочек из телячьей кожи, осторожно достал из него что‑то бережно завёрнутое в чистый белый платок. Движения Василия Ивановича были медлительны и важны, любопытство наше росло с каждым мгновением. Вот он осторожно протянул мне свёрток и сказал:
– Сам резал! Возьми.
Василий Иванович снял со стола руки, как бы говоря: «Теперь это уже не моё, ты хозяин!»
Я развернул платок и застыл от изумления, не в силах оторвать глаз от подарка старого якута.
Это была изумительная композиция, вдохновенно вырезанная старым мастером из той самой кости мамонта, что мы когда‑то подарили ему.
…На ровной желтоватой, словно чуточку придымленной площадке приземляется самолёт. Он ещё весь в движении. Лыжи самолёта только–только коснулись чистого плотного снега. Замечательно удалось мастеру передать этот трепетный момент ещё летящей, но уже коснувшейся земли машины. А рядом незыблемо стоит белая рубленая избушка. Чёткими штрихами в ней оттенено каждое брёвнышко, каждое оконце, каждый кирпичик на махонькой трубе, Навстречу самолёту бежит группа якутов в меховых шапках, и на их маленьких круглых и плоских лицах выражены очень точно и очень верно тревога и надежда.
Сделал эту вещь Василий Иванович мастерски, одним дыханием, хотя и работал над ней несколько месяцев…
Нет, нелегка жизнь геолога–разведчика в тайге. Одних комаров вспомнишь – на душе тяжко становится. От них не спасали никакие накомарники. От холодов не спрячешься ни в какие меха. И все‑таки стоило стать геологом, чтобы у тебя на письменном столе появилась эта чудесная костяная сказка, как добрая память о старом – друге Василии Ивановиче Матушкине!
«СЕВЕРЯНИН»Меня всегда удивляло обилие всяческой растительной снеди на Колыме.
В урожайный год кедровый стланик чёрен от тугих маленьких шишек, густо набитых орешками. А они жирные, и кедровое масло отменно вкусное.
Московских бы грибников в колымскую тайгу: вот бы утешились! После дождя под каждым берёзовым кустом целые выводки крепких толстопузых коротышей. Все грибное царство прижилось и щедро распространилось по Колыме: и скользкие жирные маслята, и хмуровато–солидные подберёзовики, и все многочисленное и многоцветное семейство сыроежек; как одуванчики, желтеют моховики на красноватых тундровых просторах, ну и, конечно, царь грибов—толстенький, с массивной шляпкой, плотный белый гриб. Смешно вспомнить, но мне попадались под карликовой берёзой экземпляры грибов больше самих берёзовых кустов. И не поймёшь, что под чем растёт—гриб под берёзкой или берёзка под грибом.
Невообразимо обильны и очень красивы россыпи брусники по ягелю. Её яркие вечнозелёные листочки и пунцово–красные гроздья сплошь прошивают рыхлое беловато–серое поле нарядным узором – со вкусом одевается северная природа! Покрытая туманной сизой дымкой, голубица слишком нежна для грубого прикосновения пальцев. Попов соорудил нечто вроде лотка, расчленённого на конце наподобие растопыренных пальцев, и этим снарядом смаху «черпал» голубицу, набирая её вёдрами. А какая крупная и сочная морошка растёт на Колыме – объедение!
Попов приносил с колымских лугов пучки зеленой петрушки и тонкие перья ароматного чеснока…
Все эти «дикорастущие», как их несколько пренебрежительно называют, должны быть причислены к лику растений–героев. В самом деле, большую часть года свирепствуют лютые холода, а они живут и даже красуются вечной зеленью. Лето, правда, влажное, жаркое, светлое, но ведь оно короче воробьиного носа, земля оттаивает только с самой поверхности, и чуть копни её—вечная мерзлота. А колымская зелень успевает стряхнуть зимнее оцепенение, пойти в рост, деловито быстро отцвести, завязать плоды, и они каким‑то чудом к осени вызревают, зимой коченеют, а к весне все равно остаются живыми. На все эти превращения зелёным северянам в лучшем случае отпущен июнь, июль и август. Поразительно!
Но…
Слов нет, хороша брусника, прихваченная морозцем, и грибов вволю, а все‑таки хочется свежей рассыпчатой картошки! Посыпать бы её солью да с коркой ржаного хлеба!..
Против своего обычая, Попов не поднял на смех мои гастрономические мечтания, а спокойно предложил:
– Чего ж, давай сходим. Тут не так далеко совхоз должен быть. Много‑то они без наряда не дадут, а сколько унесём на себе – чего им, жалко, что ли.
Я прикинул по карте. «Не так далеко» выходило километров за сорок от нашей стоянки. Но разведчики на подъем лёгкие, да и любопытно было посмотреть, как на вечной мерзлоте овощи растут.
Отправились мы в совхоз. В тайге заночевали, а когда поздним утром следующего дня попали на совхозные земли – глазам своим не поверили: что грибы, что брусника?! Женщины на просторном поле срезали и складывали у межи тугие вилки крупной белокочанной капусты.
Мы поздоровались, спросили, где нам найти главного.
– Алевтину Ивановну ищите—она у нас главная.
– Пошли в контору, – заторопился Попов.
Алевтина Ивановна оказалась уже немолодой женщиной с обветренным лицом и сухими потрескавшимися тубами. Несколько церемонно она спросила:
– Чем могу служить?
– Да мы, собственно, так, – замялся я, – пришли по–соседски, познакомиться с вашим хозяйством.
Попов оказался менее дипломатичным:
– И картошкой маленько разжиться, сколько унесём.
Сдержанная Алевтина Ивановна посветлела:
– Ну, унесёте‑то вы немного... – И такая беда – людей не хватает, хоть разорвись. Сентябрь на исходе. Вот–вот морозы. А сколько ещё капусты не срезано, картофель только копать начали…
– А вы картошку‑то как, из‑под лопаты берете? – спросил деловито Попов.
Алевтина Ивановна вздохнула:
– Все руками пока. Инженеры для северных огородников машин придумать не удосужились.
– Ну, так мы согласны, – по–крестьянски верно и просто понял Попов прозрачные намёки Алевтины Ивановны. – Давайте лопаты, поможем. Землю копать мы привычные.
Женщины приняли нас в свою артель с весёлой издёвкой:
– Ну вот, не все нам мужиков кормить: пускай сами попробуют, почём фунт лиха!
Попов добродушно, по–стариковски отбивался:
– Застрекотали, сороки! Теперь не ленитесь подбирать за нами!..
Хорошо уродило колымское картофельное поле! Клубни крупные, тугие.. Копать их было истинным удовольствием.
Мне рассказывали, что в Якутии много засушливых мест. На Колыме – наоборот, одолевали дожди. Воздух здесь чистый, прозрачный, световой день длинный–предлинный. Солнечная энергия непрерывно и беспрепятственно взаимодействует с зелёным листом колымских растений. То, что климатологи называют инсоляцией, здесь достигает рекордной величины. Все это, видимо, и объясняет и пышность колымской зелени, и мощность клубней…
Поздно вечером мы ели в совхозной столовой борщ из свежей капусты. Правда, заправлен он был консервированной тушёнкой, но все равно очень вкусен. Ели мы и варёную картошку с солью… Все вышло, как и мечталось. Алевтина Ивановна, ставшая волей судьбы главным агрономом северного совхоза, рассказывала, что с картофельного гектара они намерены снять тонн пятнадцать.
– Успеть бы только убрать и укрыть надёжно. Всего в наших местах много: и тепла, и света, и влаги. Одного только не хватает: времени на уборку. Так досадно бывает – растишь, растишь, и вдруг все труды твои вмёрзли в землю и пропали. А ведь мы этот картофель рассадой сажаем, а рассаду в горшочках с перегноем неделями холим.
– Это же египетская работа! —невольно воскликнул я.
– Конечно, трудное дело. По–другому мы не умеем пока. Холодостойкие и скороспелые сорта, но все равно далеко им до коренных северян. А картошку свою вы честно заработали, спасибо за помощь. Набирайте сколько унесёте. Только не жадничайте—дорога у вас дальняя.
Мы набили рюкзаки отборными клубнями, взвалили мешки за спину и по утренней сентябрьской прохладе отправились «домой». Прощаясь с Алевтиной Ивановной, я спросил: как же называется сорт картофеля, что несём мы в подарок своим разведчикам? Она улыбнулась:
– Хорошо называется– «северянин»!
И ЕЩЕ РАЗ ПУТЬ–ДОРОГАВ конце 1953 года собрался я уезжать с Колымы «на материк», чтобы никогда уже не вернуться больше на Север. Мне предложили академическую аспирантуру, и было очень заманчиво обдумать все накопленное на Колыме, написать диссертацию и для начала стать кандидатом геолого–минералогических наук. Все вроде бы правильно, можно и нужно ехать, а не хотелось, щемило сердце! Так же вот тоскливо было, когда ехал на Север, а теперь то же чувство мешало его оставить.
Попов сильно постарел, правда, здоровье сохранил несокрушимое. Звал я его с собой, заманивал всяческими прелестями материковой жизни.
– Дача у нас будет в Подмосковье. Час на электричке – и Москва! Рыбалка на Оке. знатная. Моторку купим. Бор сосновый. Места грибные, не хуже колымских. Заведём пчельник…
– Нет, парень, поезжай без меня. Никуда я с Севера не стронусь. Привык! Умру – тебя известят. Помянешь Попова на своей подмосковной даче.
– Не угомонился все, покоя не хочешь?
– Где‑нибудь в мёрзлой тундре и меня успокоят.
– Почему в тундре? На посёлке живи, в моей квартире. Ключ я тебе оставлю.
– Нет… Я к другому делу определился. В развозторг агентом меня берут. В тайгу, в тундру поеду.
Час от часу не легче… Хотя неугомонному старику развозная торговля – в самую пору. В пушном деле он не то что профессор, а полный академик. Человек редкостного и какого‑то удалого бескорыстия. Холода ему нипочём. Не пропадёт он ни в тайге, ни в тундре.
– Вот провожу я тебя на самолёт – и подамся в тайгу, к оленным пастухам, к дружкам своим – таёжным охотникам. Повезу им чай-сахар, а у них белок да куниц собирать буду. Две упряжки у меня собачьих. Только вот напарника себе пока не подобрал. Тут ведь человек требуется рисковый.
И здесь я сорвался:
– А ты и не подбирай. Я с тобой поеду!
– Смеёшься?
– Поеду, Попов! Попрощаюсь и с тобой, и с тайгой, и с тундрой.
Старик не стал меня разубеждать, и, видно, был рад, тронуло его моё сумасбродное решение.
Так я оттянул своё возвращение «на материк» на целую колымскую зиму.
Развозную торговлю начинали тогда на Чукотке и ставили её сразу широко и умно. Агенты двигались на собаках и оленях по точным маршрутам, правда, совершенно фантастической протяжённости. Чтобы обслужить все таёжные избы охотников и яранги оленьих пастухов, нам с Поповым предстояло сделать не одну тысячу километров. Да и то наш маршрут был не из самых длинных. На промежуточных базах мы должны были сдавать купленную у охотников пушнину, пополнять запасы товаров. Все очень толково продумано, обыденно. Но это же Север, а здесь и проза развозной торговли превращалась в волшебную сказку…
Упряжка из десяти собак по хорошему снежному насту способна везти до двухсот пятидесяти килограммов груза. Кормить собак мы могли на строго и надёжно обозначенных ночёвках, но страховой запас продовольствия нужен и для них. Все же при этом условии мы брали до четырехсот килограммов полезного груза.
Собачья упряжка похожа на ёлочку: длинный ствол – поводок, прикреплённый к нартам, а в стороны от него, на ветвях–постромках, симметричными парами, – сильные остроухие и остромордые ездовые собаки.
Зимний день на Севере короток. Час–другой посветит негреющее солнце, и уже, глядишь, машет оно земле прощальным розовым флагом с вершины заснеженной сопки, надвигаются все густеющие сиреневые сумерки, а вскоре наступает ночь. Пожалуй, она даже светлее, ярче недлинного хмурого дня. Большим позолоченным фонарём висит щедрая луна, и спокойный свет её мягко рассеивается в окружающее пространство безбрежными снежными зеркалами.
Места Попов знает и уверенно ведёт свою упряжку. Я не отстаю.
Мы едем лиственничным редколесьем. В зависимости от высоты сопок эти лиственничники бывают сплошь покрыты либо зелёными мхами, либо белым лишайником–ягелем. Сейчас все – и зелёный мох, и белый ягель – завалено снегом. И зовут эти леса либо зеленомошниками, либо белолишайниками. Редколесья, покрытые ягелем, – излюбленные места зимних пастбищ северных оленей…
Впереди показался дымок пастушьей яранги. Распахнув её полог, навстречу нам выбегает смуглая черноволосая женщина —жена пастуха. Мы желанные гости. Вместе распрягаем и привязываем собак.
Входим в ярангу. Здороваемся с пастухом. Он лежит на низких нарах, застеленных оленьими шкурами, под тёплым одеялом из заячьего меха. Хозяин чем‑то болен, у него тугой, вздутый живот, рези. Я начинаю врачевать пастуха подручными средствами. Женщина варит собакам похлёбку из оленьего мяса, костей и крови. Делает она все молча, умело, но чувствуется её тревога за больного мужа.
– А как же олени? Кто пасёт? – спрашивает Попов.
– Собачка пасёт. Сейчас пригонит, – говорит хозяйка и молча продолжает своё дело.
В яранге чисто прибрано и даже уютно. Она освещена «летучей мышью», обогревается железной печкой с трубой, выведенной наружу.
За стенами яранги слышится яростный собачий лай.
– Наш Баттыкей олешек пригнал!
Женщина надевает шапку, оленью дошку. Вместе с ней встречать оленей выходим и мы. Попов успокаивает наших собак. К ногам хозяйки, яростно рыча на чужих, жмётся крепкая, небольшая, остроухая и остромордая (как и наши) собака с глазами злыми, умными и преданными. Это и есть оленегонная лайка Баттыкей, пригнавшая к яранге стадо оленей. Они сбились покучнее в затишке, у опушки лиственничного леска.
Хозяйка привязывает собаку у яранги к крепкому колу. Выносит большой котёл с похлёбкой. Вместе с Поповым она кормит собак. Едят собаки жадно и много – верный признак того, что они здоровы и завтра будут хорошо работать.
Между тем моё врачевание (оно очень несложно – большая доза касторки и мешочек горячей соли вместо грелки) оказывает своё действие. Почувствовав себя лучше, хозяин повеселел. Заулыбалась и его жена. Попов принёс пастухам большой пакет с мукой, чаем, сахаром. Хозяйка готовит ужин. Хозяин хорошо говорит по–русски и с увлечением рассказывает об оленегонных лайках. Кстати, их завезли на Колыму из ненецкой тундры, и они быстро и с пользой прижились на новом месте.
– Собака, она ведь тоже разная бывает, – не спеша, подбирая слова, рассказывает хозяин. – Трусливая бывает, и щенка своего может сожрать…
– В башку‑то ей втемяшется, – вставляет явно для меня Попов.
– Всякую на племя не пустишь! И ведь зверь, а своё и у зверя берет. Подойдёт ей время щениться – шерсть она вокруг сосков выщипывать начинает.
– Мать! —улыбается хозяйка.
– Да ведь и то сказать: щенок у собаки родится совсем никудышный – слепой, глухой, без зубов. А шерсть у этих лаек знаменитая – длинная,1 густая, с тёплым подшёрстком.
Попов знает о собаках не меньше пастуха и профессионально поддерживает разговор.
– Шерстью только и спасается, —говорит он. – А то в тундре летом гнус заест, а зимой – стынь.
У жены пастуха свои мысли, женские:
– Ласку собачка любит…
– Пастух пока лайку свою обучит, – неторопливо ведёт рассказ хозяин, – набегается, что твой олень. Ну зато уж, если руку на собаку не поднимал, она ему хорошо послужит: и беглого оленя возвратит – в тундре полный обыск произведёт, а не упустит глупого, и стадо собьёт, и повернёт если надо, и на волка кинется…
Глухо и как‑то неуверенно, словно проверяя самого себя, зарычал Баттыкей. Потом собака залаяла, заметалась на привязи. Хозяин насторожился:
– Собаке верить надо. Она зря лаять не станет.
Мы быстро оделись, схватили ружья, выбежали из яранги. Баттыкей рвался с привязи, яростно лая в сторону тундры. Олени мирно дремали поодаль от яранги, не чуя опасности, а она была совсем рядом. Против ветра, чтобы дух звериный уносило от стада, к табуну подбиралась пара волков. Две тёмные зловещие тени сторожко и осмысленно двигались к табуну, хоронясь от лунного света за кустами берёзы, за редкими стволами невысоких лиственниц. Хитрые звери, умные…
Попов и хозяин яранги выстрелили почти разом. Один волк метнулся в лес и пропал, другой остался на месте. И когда тушу серого недруга волокли к яранге, олени пугливо шарахнулись в сторону и сбились ещё кучнее. А Баттыкей при виде мёртвого врага успокоился и улёгся отдыхать на своё место у входа в ярангу.