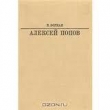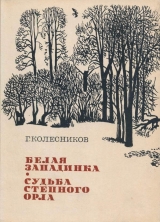
Текст книги "Белая западинка. Судьба степного орла"
Автор книги: Гавриил Колесников
Жанры:
Рассказ
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Чаще всего дела человеческие представляются героизмом, когда смотришь на них с дистанции времени. А если невероятное – твоя повседневность и сам ты и твои товарищи живут в невероятном, оно становится нормой, «условием работы». И Попов никогда не считал себя героем. Он просто делал своё таёжное дело со всей возможной добросовестностью и сноровкой.
Разведку мы вели не так далеко от крупного колымского посёлка, но в очень капризном и странном месте: невысокий берег довольно многоводной реки вклинивался узкой долиной в провал между внушительными сопками. По этому провалу бежал говорливый ключ Надёжный.
На стрелке, у впадения Надёжного в речку, стояла наша изба, срубленная плотниками ещё зимой.
Часть продовольствия мы по давно заведённому правилу хранили на вершине сопки, для чего соорудили на четырёх опорах высокий помост: предосторожность в тайге никогда не лишняя.
Беда подобралась нежданно. Вода в речке стала заметно прибывать. Напора Надёжного уже не хватало на то, чтобы «впадать», и он, вздуваясь и пенясь, крутился волчком в своём нешироком устье.
– Не иначе, где‑то в горах ливень идёт, – сказал с тревогой По–пов. – Смоет нас к чёртовой матери. И бурундуки с низины на сопку подались. Воду чуют…
Тревога Попова была вполне обоснованной, а поведение бурундуков – не разгаданным пока, но точным признаком надвигающегося наводнения. Разведчики Колымы отлично помнят казус с рекой Армань. Он произошёл в 1938 году. В эту реку с гор хлынул поток такой мощи, что Армань повернула вспять впадавшую в неё Ойру и таким путём пробила себе новое русло к Охотскому морю.
От колымских рек всего жди!
– Думать нечего, – сказал я по праву старшего, – давайте таскать вещи на сопку, к продовольственному складу.
В партии нас было человек десять. Связали мы в узлы постели, одежду, посуду, взяли палатку, топоры, спички, папки с моими записями. Все это в два приёма удалось поднять на сопку. В третий раз мы уже не спустились к своей избе. Со страшной мощью река хлынула в русло Надёжного, затопила пологий берег, подмыла и разметала нашу избу… Все унесло: инструмент, взрывчатку, рацию, затопило шурфы и борозды. Вся работа пошла прахом.
– Несуразное место выбрали, —сказал Попов с досадой и огорчением, – без ума!
– Не мы выбирали. Мы на готовое пришли.
– Вот то‑то и оно, что на готовое.
… Попов с тремя рабочими вызвался пробиться в управление. Мы остались на месте. Поставили палатку, соорудили каменный очаг. И потянулись дни томительного ожидания. Ждать всегда тяжко. Ждать в безделье – вдвойне! Дня через три вода схлынула, река, вошла в своё русло. Мы вычерпали воду из недобитых шурфов. Готовились, как могли, к продолжению работ. А Попова все не было. Не появился он и на седьмой и на десятый день…
День ото дня мне становилось все тоскливее и тревожнее. Нет Попова! В тайге все может случиться. В эти дни томительного ожидания я по–настоящему почувствовал, насколько близок мне этот человек. Странно устроена душа человеческая! Ведь с Поповым ушли ещё трое рабочих. Но о них как‑то не так остро думалось, а вот нет Попова – и я места себе не могу найти: с ним что‑то случилось, с ним беда… По вечерам я поднимался на сопку, подолгу смотрел в ту сторону, откуда мог появиться мой друг с товарищами. Но Попов как в воду канул. А может, и в самом деле канул – мог и утонуть, и с кручи сорваться, и людей недобрых встретить, и зверя… Ждать дальше стало совершенно невыносимо. На исходе второй недели я решил отправиться на розыски…
Попов разбудил нас на рассвете того дня, когда мы снарядились его искать. Оборванный, заросший, щеки ввалились.
– Где остальные ребята? – заволновались мы.
– Живые. Не бойтесь. Версты три отсюда. Сгрузили мы все. На себе таскать придётся.
Было не до расспросов. Мы быстро оделись и пошли за Поповым. Дорогой он все и рассказал нам.
В управление они пришли благополучно, на третий день. Там без особых хлопот снарядили машины со всем необходимым. Попов рассказывать не любил, и каждое слово из него приходилось клещами вытягивать.
– Как же вы ехали? Без дороги?
– Без дороги. Берегом. По малой…
– Благополучно?
– Ничего ехали. Не шибко, но ехали. Всё бы хорошо, да прижим. Она новым руслом пошла, в сторону.
Прижим – это страшная беда колымских приречных дорог. Всем своим многоводьем река прижимается к каменному обрыву сопки, и ходу машинам нет.
– Ну и как же вы?
– На себе через сопку перетаскали. Водители помогли. Спасибо, ребята хорошие.
– Это уже здесь, около нас?
– Нет, ещё вёрст тридцать оставалось. Мы немного на машинах‑то проехали.
– Так нам тридцать вёрст идти? – испугался я.
– Нет, мы плот связали. Водой спустили. До порогов. Тут теперь буруны рядом.
Мы как раз подошли к тому месту, куда Попову удалось доставить новое снаряжение.
На берегу, у кучи клади, спали его спутники. Чуть ниже вздувались гребни белой пены. Через нагромождение каменных глыб пробивала себе новую дорогу, бурлила и ревела наша сумасбродная река.
– Вы берите, сколько по силам, – устало оказал Попов. – А я тоже вздремну маленько…
Он лёг рядом со своими товарищами и сейчас же намертво уснул.
ТАЙГА ГОРИТТайга загорелась ночью. Багровые отсветы зарева охватили небо. Пожар бушевал где‑то совсем близко. К полуночи в небо стали прокрываться оранжево–жёлтые языки пламени.
Попов сказал:
– В Студёном распадке горит… Вёрст за двадцать, не дальше. – Он вздохнул с огорчением: —Сто лет растим дерево, а сгорит в одночасье… Жалко.
Днём небо затянуло дымом. В нем висел тусклый багровый шар, совсем не похожий на солнце. В воздухе пахло гарью. В обеденный перерыв Попов снова заговорил о пожаре.
– Тушить надо идти. Зря пропадает тайга. Жалко!..
Что‑то очень хорошее было в этой жалости Попова. Казалось бы. зачем ему тайга? Вся ведь она не сгорит. И самому Попову хватит на всю жизнь и того леса, что останется. И опасности непосредствен-, ной не было: горело действительно вёрст за двадцать. Я пошутил:
– Чего тебе эта тайга далась? Сама потухнет.
Попов не принял шутки, обиделся и замолчал – огорчённый и непонятый. Я уже и сам не рад был, что так неуклюже и глупо обидел старика, и постарался поскорее устранить возникшую неловкость.
– Ты не сердись, Попов! Мне не меньше твоего тайгу жалко. Ведь она для нас с тобой выросла, я же понимаю… Пойдём народ снимать на пожар.
Всей партией мы отправились тушить горевшую тайгу. К месту пожара двигались без дороги – таёжными тропами, по мшистым к кочковатым болотам, трудными каменными осыпями, сквозь заросли почти непроходимого стланика. Взяли мы с собой топоры, пилы, запас продуктов.
К распадку ключа Студёного подходили ночью. По мере приближения к месту пожара становилось светлее и жарче.
Наконец двигаться дальше стало невозможно, невыносимо: в ста метрах от нас с шумом и треском горела тайга. Пожар начался у ключа внизу. Видимо, кто‑то разводил костёр и бросил, не потушив. И вот бездумная небрежность послужила причиной гибели бесценного лесного массива.
А лес на Колыме по–настоящему драгоценен. Вся обжитая Колыма пропитана смоляным духом лиственниц, прокурена жарким дымком кедрового стланика. Вся она – на месте вырубленной и раскорчёванной тайги. И как же надо ценить, жалеть и любить каждое дерево этой тайги!..
Подгоняемый лёгким ветерком, огонь настойчиво двигался по склону сопки. В накалённом воздухе смолистая хвоя занималась, легко и дружно.
– Что бы ему, дьяволу, не плеснуть из котелка на уголья? Так. нет! Не жалко ему такого добра. Он его не садил. Сколько тайги–тс попалил, ирод!
Попов ожесточённо ругал какого‑то неведомого виновника этого пожара и вместе с тем властно и расторопно расставлял людей пс местам. Так уж повелось у нас, что всеми таёжными делами, кроме разведки, где я сам оставался головой, командовал Попов.

Тайга подходила к ключу Студёному, и пожар, начавшись у самого берега, неширокой полосой (метров двести) косо полз вверх пс сопке.
Ветер настойчиво подталкивал огонь, который захватывал все более широкую полосу тайги, и мы стремились ограничить разгул стихии той зоной, что она уже успела захватить.
Я привёл к месту пожара всех рабочих своей разведочной партии. Мы быстро разбились на пары и тут же принялись за дело. Мы должны были прорубить просеку полукилометровой длины и шириной метров в двадцать – высота дерева. Если горящая лиственница упадёт поперёк такой полосы – она уже не будет опасной.
Мне и Попову достался участок тайги у самого ключа. Работали, что называется, не разгибая спины. Было светло, жарко и смрадно– дым ел глаза. Не один раз убеждался я в совершённой неутомимости моего кряжистого и жилистого напарника. Он умел работать неторопко, но очень напористо.
Я сказал, стирая пот со лба:
– Не справимся мы, Попов, обгонит нас огонь.
– Справимся! Глаза боятся, руки делают…
И мы действительно справились. К обеду следующего дня всем миром успели прорубить в тайге широкую полосу. Под конец сделалось невыносимо жарко. Огонь вплотную подходил к нашей просеке. Ехидными змейками он побежал по опавшей хвое, сухому мху, жёлтой траве, грозя по земле перебраться на спасённую нами тайгу, сделать напрасными все наши усилия.
– Канаву нужно копать, – сказал решительно Попов и тут же сам взялся за лопату.
Мы совсем выбились из сил, а вдоль всей просеки предстояло ещё снять весь растительный слой до земли хотя бы неширокой колеёй. Только тогда можно было считать пожар окончательно побеждённым. К счастью, ветер изменил направление. Работать стало легче. К вечеру мы прорыли и канаву. Почти без перерыва проработали сутки. Но Попов все не унимался:
– Поджигай сучья по ветру… Пускай тайга на глазах у нас догорит.
У кромки просеки, примыкающей к горящему лесу, запылали огромные костры. Подхваченный ветром, огонь наших костров побежал навстречу догоравшей тайге. Весь участок, охваченный пожаром, превратился в сплошной пылающий остров…
В стороне от огня мы отдыхали, готовя себе заработанный ужин.
Тайга горела ещё трое суток. Но огню так и не удалось перешагнуть через установленные для него границы.
Мы ушли домой, а Попов все трое суток продежурил у кромки пожара. Он вернулся худой, закопчённый, в порванной рубахе и обгоревших штанах.
ЛЕДОКОС, ИЛИ КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬЗнаток и собиратель русского слова Владимир Даль был сродни нам, геологам, разведчикам. Скиталец, всю жизнь провёл он в яростном и неутомимом поиске. Если бы Даль не стал лингвистом, то вполне мог бы посвятить себя разведке золота на Колыме. Черты характера уж очень схожи: одержимый и в полной мере наделён чувством юмора. Я убедился в этом. В тайге мне не удавалось вразумительно растолковать Попову слово «комфорт». При случае (представился он очень не скоро) обратился я за помощью к Далю, чтобы хоть задним числом определить, что бы я должен был сказать своему другу, и с тех пор постоянно перелистываю знаменитый словарь, не переставая удивляться и улыбаться.
К английскому слову «комфорт» Владимир Даль подобрал забавные русские равнозначенья «уютство, холя, домашний покой». Жаль, что не было со мной на Колыме Даля! «Уютство», «холя», точно так же, как и «домашний покой», вполне устроили бы Попова, и он не стал бы так подозрительно коситься на меня, когда я хвалил его за создаваемый нам комфорт.
В тайге мы старались «держаться на уровне» и даже жить по моде своего времени. Электрических бритв у нас не было, и все‑таки мы не запускали бород. Оказывается, при очень сильном желании можно побриться острой кромкой свежеразломанного стекла. Попов и этим искусством владел в совершенстве. В экстренных случаях мы не отказывались от его оригинального, в общем, не особенно мучительного брадобрейства. Почему‑то никогда не находилось у нас ножниц, но подстричься можно без них с помощью… коробки спичек. Если поджигать волосы на голове спичкой и быстро тушить их расчёской —можно таким «огневым» способом подстричься на любой вкус. Я никому не советую испытывать на себе наш способ стрижки, хотя по личному опыту знаю: при известной сноровке «парикмахера» он совершенно безопасен.
Я собираюсь рассказать, как мы едва не уморили своего верного коня Мухомора. Спасли его от неминуемой гибели только неусыпные заботы Попова о нашем комфорте…
Колыма – страна контрастного изобилия. Уж если морозы – так лютые, если солнце – то бесконечное, если тайга – то лесной океан, если луга – то буйные.
Не удивляйтесь: есть на Колыме луга, и местами такие богатые, что им позавидует знаменитая пойменная Мещера.
Я жалел, что среди моих книг в тайге не оказалось определителя растений. К счастью, Попов был доподлинной говорящей книгой: наверное, он знал все, что касалось живого на Севере – травы, деревья, звери, птицы, рыбы были хорошими знакомыми и друзьями моего таёжного товарища.
Особенно богато травами оказалось недавнее пожарище в окрестностях одной нашей разведки.
После обильных колымских дождей, под знойным и нескончаемо долгим северным солнцем пространная плешина посреди тайги, удобренная золой сгоревших лиственниц, заросла такой высокой, сочной и яркой травой, какой я никогда не видывал ни в средней полосе, ни на юге России.
На этой обширной луговине пасся наш Мухомор. Он раздобрел, поправился на вольной траве и на колымскую жизнь не жаловался.
Я очень досадовал, что так невнимательно и даже с некоторым презрением относился раньше к ботанике и вот теперь ничего не смыслил в том растительном богатстве, которое окружало нас. Рано или поздно, а за легкомысленное отношение к себе ботаника обязательно отомстит.
Иногда я выдирал какую‑нибудь особенно поразившую меня размерами и густой своей зеленостью травину и приносил её Попову:
– Что это такое?
– По–сибирски траву эту вейником зовут, —просвещал меня Попов, – а у нас в России – очеретом.
В другой раз я приносил Попову какой‑то знакомый злак. Знакомый, а назвать его не умел.
– Эх, парень, – стыдил меня Попов, – это же якутский пырей, знать надо.
Приглядишься – действительно пырей!
Я развешивал пучки неведомых мне трав по стенам нашего таёжного жилья. К концу лета у меня составился своеобразный пахучий гербарий. Наш таёжный луг оказался очень богатым разными злаками: у меня висели пучки лугового мятлика, костра, сибирского колосняка, красной овсяницы. Злаки эти росли вперемешку с пышным т красивым разнотравьем. Все эти дикие герани, василистники, горечавки, молоканы, синюхи, морковники сообщали нашему луту в пору цветения красоту необычайную. Глаз отдыхал от мрачноватого однообразия темноствольной, зеленокронной тайги.
К осени мы должны были закончить полевые работы и всем лагерем перебраться в посёлок управления, отстоящий от нашей разведки вёрст за двести. Далековато!
Случилось все совсем по–другому. Один из ключей оказался очень перспективным. Радиограммой (а тогда у нас уже были рации) мне предложили за зиму внимательно обследовать этот ключ линией шурфов. Запасы продовольствия обещали доставить по зимним дорогам.
Зима, собственно, уже наступила: травы на нашем лугу пожух‑ли, скучно чернели, припорошенные первым снегом. Заледенело густо заросшее резучей осокой озерцо. Заскучал и наш Мухомор: рацион его после обильного летнего разнотравья сильно оскудел.
Я показал Попову радиограмму. Он резко покраснел – верный признак, что друг мой чем‑то расстроен и начинает сердиться.
– А как же Мухомор? Нам‑то с тобой по зимнику подвезут корму. А скотина как же?
Верно! О Мухоморе мы не подумали.
– Какие сена были под носом! —бушевал Попов. —А теперь вот скотине жрать нечего.
Гневался Попов справедливо. У него в снаряжении и косы и грабли были, а вот накосить лошади хорошего лугового сена мы не удосужились.
– Чего же ты молчишь? – сердито выговаривал мне Попов. – Собирай людей, пойдём сено косить; не подыхать же скотине из‑за вашей бестолковщины.
– Да какое сейчас сено? Зима на дворе, —пытался я урезонить своего разбушевавшегося друга.
– Сено дрянь, это ты верно говоришь, но другого до тепла все равно не будет.
Попов привёл меня на замёрзшее озерцо. Без лишних слов он начал прямо по льду косить густую щётку ещё зеленой осоки. Следом мы сгребали грубое мёрзлое «сено» в копны.
В охотку, на лёгком морозце, работалось весело.
– Так это у нас не сенокос, а ледокос получается, – сказал я Попову.
– Сенокос–ледокос, – недовольно ворчал Попов. – Летом надо меньше ушами хлопать: травы‑то в пояс вымахали. И какие травы– душистые, сильные! Не было бы нашему Мухомору горя. А то вот теперь живи на мёрзлой осоке. Тебя бы этой осокой покормить…
– Кто же знал, Попов, что зимовать нам в этом распадке?
– Знать ты обязан, ты за свои знания жалованье получаешь.
Я не стал спорить. Чего же спорить, когда он кругом прав: сена Мухомору можно было накосить превосходного. Сами‑то мы примыкавшую к становищу луговину отлично использовали для создания себе комфортабельной жизни.
Когда наши пышные колымские травы зацвели, Попов отдал команду:
– Пошли мешки травой набивать, а то от голых‑то нар мозоли на боках.
Попов знал, что нужно. Несколько вечеров мы запасали траву и сушили её на рубленой кровле своей таёжной избы. Мы рвали зелень руками. Попов отбил косу и с крестьянской обстоятельностью выкашивал пахучие зеленые островки. По его совету мы набивали матрасные мешки туго, как только могли, так что внешним видом они походили на взбитые перины кустодиевских красавиц. Увы, только видом и только внешним…
– Так ведь с такого лежбища свалишься! —протестовали мы.
Но Попов был неумолим:
– Ничего, умнется.
Когда я в первый раз взгромоздился на свою «перину», то действительно едва не скатился. Круглая и толстая, как колбаса, «перина» на первых порах для лежания оказалась совсем не удобной, и я сказал под общий смех:
– Ничего, комфортабельно!
Попов покосился на меня с подозрением:
– А ты не ругайся понапрасну; говорю, умнется – спасибо скажешь.
Матрасы и в самом деле быстро умялись, и мы не уставали благодарить Попова за его предусмотрительность, оказавшуюся как нельзя более кстати.
Нам‑то жилось («комфортабельно», но больно было смотреть, как тощал и хирел наш Мухомор на мёрзлой осоке. Она стала его единственным пропитанием. К своему коню – преданной и безропотной животине – мы относились с уважением и очень тревожились за его судьбу.
Первым не выдержал Попов.
– Жалко скотину, пропадёт. Из‑за нашей же глупости пропадёт, —вздыхал он, ворочаясь на своей постели.
Стали мы замечать, что самый пышный матрас в нашей хате, обладателем которого был, конечно же, Попов, начал катастрофически худеть. И однажды утром мы обнаружили, что Попов кряхтел и ворочался уже вовсе не на матрасе, а на полушубке.
– Куда же ты сенник свой подевал? – спросил я, догадываясь о случившемся.
– Куда надо, туда и подевал. Ты лежи себе, помалкивай.
Попов не отличался многословием, изъяснялся он туманно и неопределённо. Но на этот раз понять его было совсем не трудно: он скормил сено Мухомору.
В тот же день мы всей партией вытрясли свои матрасы в конюшне. Было нас человек двадцать, и получился довольно внушительный стожок несколько помятого, правда, но всё же сена.
Мухомор до тепла продержался, а мы с «комфортом» проворочались остаток зимы на полушубках.
ИМЕНИНЫГрибов и ягод на Колыме – вообразить невозможно.
Мне довелось продираться с вьючной лошадью по некрутому склону безымянной сопки. И в одном месте мы не по траве шли, не по ягелю, а по грибам. Под копытами лошади и под моими сапогами хрустели тугие, ядрёные белые грибы. Они могли бы украсить стол самого избалованного гурмана. И жалко было давить их, и обойти невозможно.
А ягода! В иных местах красные гроздья брусники разбросаны по ягелю с такой щедростью, что не понять, кто тут хозяин: брусника теснит ягель или ягель бедным родственником напрашивается в соседи к бруснике. Скажу только, что вместе они создавали причудливо–яркое панно из серебристо–серых, глянцевито–зелёных и багряно–холодных пятен.
А к июлю начиналась голубица – у нас её так называли, не голубикой. Целые долины чёрной нежной ягоды с дымно–сизым налётом.
Попов заставлял нас собирать грибы и ягоды. Все это он солил, мариновал, замачивал в подручной посуде и хранил до времени в натуральном холодильнике. Соорудить его в подстилавшей нашу землю вечной мерзлоте проще простого: выкопай неглубокую яму, выстели её зелёным мхом, сверху прикрой лапами кедрового стланика – и готов безотказный холодильник. На зиму соленья и маринады мы переносили в избу. В ней по углам, удалённым от железной печки, всегда держался иней.
Я не замечал на Колыме ни плесени, ни гнили. Во всяком случае наши припасы сохранялись всю зиму в отличном состоянии без всякой пастеризации.
Рассказываю я все это вот к чему. В сентябре наступало шестидесятилетие Попова. По тайному от него, сговору мы решили справить ему таёжные именины. Спирт у нас был, сахар водился. И наладили м$>1 что‑то вроде винно–ягодного завода. Производство было очень некрупных масштабов: тары оказалось маловато – нашлась одна трехлитровая банка и стеклянная четверть…
В нашей многотрудной и однообразной жизни подготовка к юбилею товарища стала длинным весёлым праздником.
Строжайше секретно мы набрали в четверть отборной брусники, а трехлитровую банку по ягодке наполнили немятой голубицей, затем в обеих посудинах обильно засыпали ягоды сахаром, для страховки залили спиртом и выставили в потаённом месте на солнцепёк.
И ведь получилось! Перебродила наша ягода на горячем северном солнце в превосходное таёжное вино.
В день своего рождения Попов решил угостить нас сибирскими пельменями. Не стану рассказывать, как мы топором секли оленье мясо, как добывали дикий чеснок для приправы, раскатывали тесто, лепили пельмени под руководством именинника. Скажу только, что очень растрогался старик, когда мы к его чудо–пельменям выставили две бутылки брусничного и голубичного вина.
Именины вышли на славу!