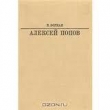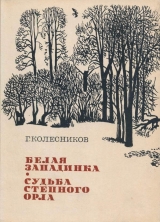
Текст книги "Белая западинка. Судьба степного орла"
Автор книги: Гавриил Колесников
Жанры:
Рассказ
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
В самом центре своего лесничества, за густой зеленой стеной подрастающих деревьев, Александр Васильевич Зеленцов развёл, всем на радость и удивление, замечательный фруктовый сад. Мужали в нем груши, яблони и невысокие раскидистые вишни, похожие в пору созревания ягод на густо–красные стожки сена. Такая сила вишен их обливала, что и зелени различить было невозможно.
Со школой нашей лесники и садоводы дружили, потому что без нас обойтись им было невозможно: когда поспевали вишни, мы всей школой во главе с Пал Палычем выходили на сбор урожая. Сначала по саду шли первоклассники и обрывали ягоды с нижних веток, пятый класс брал середину, а восьмиклассники легко доставали до верхушек: деревья невысокие, а ребята в нашем хуторе рослые.
Знали мы в этом саду каждое дерево, но на самом краю его подрастала рощица каких‑то неведомых нам деревьев с мясистыми, жирными, пахучими листьями. Запах этих листьев был очень своеобразен– какой‑то лимонно–апельсиновый букет: терпкая приятная кислинка.
Принесли мы пахучий листок Пал Палычу. Он, по обычаю, удивился ещё больше нашего, растирал листок в пальцах, нюхал и охал.
Прямо не знаю, ребята, что это за дерево такое поселилось в нашей местности. Только сдаётся мне, что вы от большого сложного листа принесли всего один листочек. Вы мне целый лист несите. Может, тогда определим.
Пал Палыч был очень хитрый. Он, конечно, сразу определил, с какого дерева этот пахучий листок, и только притворялся незнающим, удивлялся и гадал вместе с нами, разжигая наше любопытство. Ну, тогда‑то мы и в самом деле думали, что поставили Пал Палыча в тупик.
Принесли мы ему весь лист целиком: три пары жирных листков на крепком зеленом черешке и седьмой листик отдельно, в голове.
– Да! – крякнул Пал Палыч. – Невиданное, не степное дерево. Идите посмотрите – может, на нем какие плоды завязались? Даже по целому листу определить невозможно.
Нам оставалось только снова отправиться в таинственную рощу. И в самом деле – на некоторых деревцах, что постарше и ростом повыше, висели какие‑то спаренные зеленые яблочки. Сбили мы пару, принесли Пал Палычу. Он надел очки, взял острый нож и аккуратно разрезал одно яблочко. Внутри оказались дольки нежной молочной мякоти.
Пал Палыч посмотрел на нас поверх очков. Проверял, догадались мы, с какого дерева этот плод, или нет. Догадаться нам было трудно, потому что нигде мы таких деревьев в степи не видели, а Пал Палыч продолжал нас разыгрывать:
– Придётся осени подождать. Зеленые яблочки. Ничего по ним определить невозможно.
Роща эта не давала нам покоя, но делать было нечего. Пришлось ждать осени.
В один из ранних октябрьских дней отправились мы с Пал Палычем в лесничество. В это время года места наши становятся особенно красивыми. Утихает шум машин, пустеет степь, умиротворяется, готовится к зимней дрёме. Тонкие паутинки плывут под белесым осенним небом. Густо зеленеют, переливаясь волнами под прохладным ветром, раскустившиеся озими. На опушке степного леса пламенеют всеми оттенками оранжево–жёлтых красок заматеревшие жерделы… Много лет спустя, уже взрослым человеком, прочитал я у кого‑то, что осенью бедны красками степные леса. Видно, не бывал тот человек в осеннем саду нашего степного лесничества. Не видел багряно–красного трепетания виноградных кустов. Не знал он, что степная осень – настоящая волшебница. Она способна превратить зелень вишнёвых деревьев в тёмную кованую медь и щедро украсить кусты шиповника рубиновыми подвесками.
Да, акации лесных полос увядают, бледно зеленея, до самых заморозков. Но ведь не одной акацией украшены наши степи. Есть у нас теперь и дубравы, и берёзовые рощи, и клёны сверкают осенним золотом. Да и сама акация в пору весеннего цветения заливает степь волнами такого аромата, в её пахучих цветах ютится столько мохнатых пчёл, она настолько неприхотлива и с такой радостью поселяется в трудной для жизни дерева донской степи, что, право же, простим ей блеклую осеннюю скромность… А вот и наша таинственная роща с деревьями, у (которых пахучие листья. Поищем созревшие плоды.
Мы разбежались по роще. Она была совсем молоденькой, и, видно, не настало ей ещё время по–настоящему плодоносить. По все‑таки под некоторыми деревцами мы нашли несколько опавших зелёных сморщенных яблочек: полное огорчение!
– Спелых нет, Пал Палыч! Вот какие‑то зеленые шарики кое-где валяются, – говорили мы разочарованно.
Пал Палыч ножом снял с шарика зеленую рубашку, а под ней оказался… спелый грецкий орех в плотном костяном панцире.
Мы недоверчиво смотрели на своего учителя, будто он нам какой‑то сложный фокус показал.
– Вот теперь все ясно, – улыбнулся наш хитрый Пал Палыч. – Выходит, лесники задумали в нашей степи рощу грецкого ореха вырастить!
Решили мы сделать запись о грецком орехе в «Книге природы». Но что записывать? Ведь мы ничего не знали о нем, кроме того, что он растёт на дереве с пахучими листьями.
– Вот и попробуйте узнать как можно больше, – предложил Пал Палыч. —Кто что разведает – несите в класс. А записывают пусть Коля с Васей. Согласны?
Мы согласились и… «заболели» ореховой рощей. Каждое утро до звонка у Коливасиной парты выстраивалась очередь.
– В грецком орехе семьдесят пять процентов жира! – торопилась сообщить Наташа.
– А что такое процент, ты знаешь?
– Нет, не знаю. А ты?
Наташку смутить чем‑нибудь было невозможно.
– Я тоже не знаю, —серьёзно, под общий смех, говорил Коля и командовал: – Записывай, Вася, про семьдесят пять процентов.
А там уже наседали с ещё более невероятными новостями.
– Грецкий орех в восемь раз питательней рыбы!
– Не может быть! —Даже всегда спокойный Вася вскакивал от неожиданности с места.
– Пиши, – успокаивал друга Коля. – Рыбачить мы все равно : не перестанем.
Новости о грецком орехе нарастали лавиной. Мы узнали, что ореховое дерево живёт очень долго – лет двести! Вообразить такой долгий срок жизни по нашему тогдашнему разумению было просто невозможно… Двести лет! А вот что с годами увеличивается крона деревьев, а значит, и урожай орехов – это мы легко сообразили.
Что такое витамины, теперь каждый знает. Один раз к нам в детский сад привезли откуда‑то два ящика мандаринов. Воспитательница Мария Антоновна очень обрадовалась и все говорила: «Ешьте,, дети, это витамины!» Но, когда Наташка сообщила, что в грецком орехе витаминов в пятьдесят раз больше, чем в мандарине, Коля кратко сказал:
– Садись! Придумала!
Наташка пожаловалась Пал Палычу, и он подтвердил: да, в пятьдесят раз! Колька прикусил язык и больше ни в чем не сомневался.
Ореховая роща в нашем лесничестве занимала два гектара. Кто-то вычитал в книжке, что роща взрослых деревьев приносит с каждого гектара до четырёх тысяч килограммов орехов. Значит, когда-нибудь и мы соберём в нашей роще восемь тонн грецких орехов. Подумать только – восемь тонн орехов! Что делать‑то с ними станем?!
СТЕПАНОВЫ КУМОВЬЯВ тот год стояла ласковая, тёплая осень. Только в самом конце октября приближение зимы дало о себе знать холодной волной, пахнувшей с запада. На стыке тепла и холода прогремела над степью могучая поздняя гроза с обильным ливнем. А потом ещё на несколько дней вернулось тепло, и до ноябрьских праздников продержалась прозрачная и мягкая погода… В глубину пронизанного солнцем лесного озера упали и застыли белые облака, посветлевшее синее небо, зеленые кроны высоких, прямоствольных дубов. Весь мир, словно любуясь собой, опрокинулся и притих живым отражением в лесном зеркале. И это ясное и чистое отражение удивляло тем более, что озерцо‑то было совсем мелкое. Мы знали его глубину! А вот сумело оно вместить в своё лоно всю огромную высоту распростёршейся над ним осени.
Деревья желтели туго и неохотно отдавали ветру свою листву. Помню, что в лесу тогда было очень красиво и тихо. Не знаю, может быть, необычность этой осени подействовала или что другое, но мне особенно запомнился и полюбился наш степной лес именно в том, теперь уже далёком октябре.
Белоствольные берёзы, ещё только кое–где тронутые желтизной, стояли не шелохнувшись, будто дремали. Эти лесные скромницы: оказались совсем неприхотливыми и легко породнились со степью.
Александр Васильевич Зеленцов ещё давно посадил в своём лесу двумя длинными рядами присланные ему по почте друзьями–северянами рябиновые былинки с корешками. Как и берёзки, они охотно прижились в наших местах, разрослись и сейчас сверкали в лучах нежаркого осеннего солнца нарядными кистями оранжевых ягод.
А между берёзовой рощей и рядами рябин, на просторном песчаном кряже, густо зеленели длинными хвоинами сосенки, кудрявились мелкими мягкими иголками молоденькие лиственницы.
Ну, и конечно, царь нашего степного леса дуб величаво высился над всем обширным пространством заказника.
Покойно и привольно «жилось здесь под охраной людей всякому степному и лесному зверью.
В субботу после уроков мы с Пал Палычем отправились в лес. Занимались привычным осенним делом – собирали семена деревьев для питомника. Уже под вечер с довольно увесистой ношей за плечами подходили мы к лесному кордону.
То и дело на глаза нам попадались зайцы. Видимо, расплодилось их здесь богато. Рыжевато–серые пушистые зверьки зачем‑то выбегали на дорогу, на миг останавливались, но сейчас же скрывались в лесной чащобе, не рискуя приблизиться, чтобы поближе познакомиться с нами.
– В общем‑то, непуганый заяц у Александра Васильевича, – заметил Пал Палыч. – На «экспорт» его разводит.
– За границу нашего зайца вывозят? – удивился Вася.
– Ну, не то чтобы за границу, – улыбнулся Пал Палыч, – а на Алтае, на Тамбовщине степного русака охотно берут и привечают. Александр Васильевич со своими егерями их сотнями ловит и выгодно продаёт для расселения в других местах.
– Коммерсант! —ухмыльнулся Николай.
С наступлением вечерней прохлады в лесу становилось все оживлённее; звери выходили из своих дневных убежищ на кормёжку. В зарослях молодого сосняка на минуту показалась высокая комолая лосиха. Она спокойно глянула на людей и с лёгким шумом скрылась в густой зелени.
– Вот как отвечает дикое зверьё человеку на его доброе отношение – доверием, – сказал Пал Палыч, провожая взглядом лосиху… – И ведь самое пугливое льнёт к людям. Помните, в знойную бескормицу (сайгаки к нам на хутор из калмыцкой степи забрели? А уж на что пугливы.
– А вот зайцы ни в какую бескормицу не придут к человеку. Да, Пал Палыч? – Вася остановился, стараясь разглядеть хотя бы одного из поминутно мелькавших в кустах русаков.
– Веками, Вася, их запугивали охотники. Вот они и теперь не особенно доверяют человеку. Хотя, как знать! Дедушки Мазаи не перевелись ещё на свете…
Ночевали мы в сарае, на сеновале, в душистом люцерновом сене. Внизу, под нашими полатями, стояла кормушка для Орлика – породистого холёного коня Буденновского завода.
В лесу мы крепко наработались. Забравшись на сеновал, зарылись в сено и сейчас же уснули.
Перед утром стало совсем прохладно. Октябрь давал себя знать ночными заморозками. Холодок и разбудил нас. Но Пал Палыч, видно, уже давно не спал. Он приложил палец к губам и жестом пригласил нас посмотреть на что‑то интересное внизу.
Мы свесили головы и едва не ахнуЛи от удивления. Рядом с Орликом мирно кормился целый выводок зайцев. Ни они на Орлика, ни Орлик на них не обращали никакого внимания. Рассыпанного на полу сарая овса и сена с лихвой хватало и на зайцев. Привычно и без опаски они подбирали стебельки люцерны, подхватывали своей заячьей губой зёрна овса.
Уже совсем рассвело, когда в сарай зашёл наш добрый приятель конюх Степан. Старый он был уже и тогда. Старый и очень мирный. Наверное, потому и зайцы его не боялись. Скорее всего, они считали дядю Стёпу такой же частью природы, как и Орлик, и дерево в лесу, и камень на дороге—чем‑то таким, что вреда им не сделает.
А мы, свесившись с полатей и не поднимая шума, ждали, что же будет дальше.
– О, косые обжоры! Все пасётесь. Совсем вы моего коня объели. Ну, марш до лесу! – беззлобно разговаривал Степан с ушастыми гостями.
Зайцы неохотно отрывались от своего дела. Они торопливо дожёвывали аппетитные травинки, но все‑таки понимали, что час их кончился и пора отправляться восвояси. Один за другим русаки прошмыгнули в распахнутую настежь дверь и ускакали, как напутствовал их Степан, «до лесу».
– Здрасьте, дядя Стёпа, – заговорил наконец Коля. – А Вася говорит, зайцы трусливые. Чего же они вас не боятся?
– А чо им меня бояться. Мы с ними сызмальства вместе в лесу живём. Кумовья!
– Кумовья! —подмигнул нам Николай.
– А как ты думаешь! Породнились. Вот и не боятся, раз мы родичи.
Искоса поглядывая на дядю Стёпу и едва сдерживая смех, Коля громким шёпотом поделился с нами неожиданным открытием:
– Дядя‑то Стёпа сам на зайца похож. Вы смотрите, смотрите!
И в самом деле: развязанные, но вздёрнутые кверху уши его шапки–ушанки чем‑то напоминали заячьи. И от этого сам дядя Стёпа стал похож на большого зайца. Но это сходство его нимало не тревожило. Уверенно и сноровисто готовил он своего Орлика к дневной работе.
– Давай, брат, запрягайся. Сено пойдём возить. Небось, любишь сенцо‑то? Да и зайчишек угостишь, дружков‑то своих косых.
Орлик вскинул голову и энергично стряхнул ночную дрёму всей своей золотисто–рыжей шкурой.
– Балуй! – ласково прикрикнул на коня дядя Стёпа и похлопал его по сытому чистому крупу.
В лесу начиналось рабочее утро. Погожих дней оставалось немного. Отдохнуть можно будет и зимой…
В ЗИМНЕМ ЛЕСУЗимний лес только кажется безжизненным и безмолвным. На самом деле и зимой он живёт большой и трудной жизнью, полной своих маленьких трагедий и радостей…
Я часто думаю, как сложились бы наши характеры, если бы не Пал Палыч. Ведь вполне могло случиться, что нашим классным руководителем могла стать Маргарита Арнольдовна – наша историчка. Девчонкой её вывезли из блокадного Ленинграда в наши степи. Родители её умерли с голоду. После войны Маргарите Арнольдовне тяжело было возвращаться на родину, и она навсегда поселилась у нас, стала нашей учительницей. По–своему она тоже любила нас и всегда страшно боялась, что мы простудимся, сломаем ногу, заблудимся в лесу или что нас съедят волки.
– Дети! Маныч ещё холодный. Ради бога, не купайтесь.
– Не ходите по тёмным балкам… Мало ли что!
– Не дальше дубравы. Заблудитесь. Наплачутся матери.
В ответ на это Наташа нацепляла лыжи и одна – какой ужас для Маргариты Арнольдовны! – отправлялась в лютую стужу в самые тёмные уголки леса посмотреть, не бедствуют ли там птицы.
В один из таких походов Наташа подобрала в дубраве окоченевшую синичку.
На улице хутора мы обступили Наташу – в её тёплой рукавичке притихла живая ещё птаха – и горячо обсуждали, что с ней делать?
– А чего делать? – сказал Вася. – Понесём Пал Палычу.
Пал Палыч сам открыл дверь и пригласил в комнаты. Наташа осторожно вытряхнула из рукавички на письменный стол притихшую синицу. Пал Палыч сразу понял, в чем дело, горестно вздохнул и ничего не сказал. Да и что скажешь?! Наверное, и десятой доли синиц не доживает до весенних дней!
А синичка вдруг вспорхнула со стола и взлетела на край книжного шкафа.
– Ну, вот и ладно, – обрадовался Пал Палыч. – Пусть пока у меня поживёт. А потеплеет немного – выпустим её на волю. Не пропадёт.
– А как же другие? – не обрадовалась, а скорее, огорчилась Наташа. – Их там много. Замёрзнут же.
– Тоже верно, – живо согласился Пал Палыч. —Придётся помочь им перезимовать. Помните, как они хоронились от холода то в Сорокиной гнезде, то у нас в печной трубе?
Тут же решили мы устроить в лесу побольше кормушек и всяких укрытий для ночёвок мелким лесным птахам. Александр Васильевич нашу затею одобрил, и в первое же воскресенье мы отправились в лес с кормушками и птичьими спальнями самых разнообразных конструкций. Александр Васильевич сказал, что тут все годится: старые валенки, рукава от телогреек, ящики с неширокими щелями. Птицы найдут, как забиться на ночь в тёплые места, было бы только куда забиться.
Уже под вечер, замёрзшие, но возбуждённые и довольные, мы возвращались домой, и тут опять отличилась Наташа…
Над просторной открытой поляной, куда мы выбрались из леса, металась синица. В неё вот–вот должен был вцепиться острыми когтями ястреб–перепелятник. Казалось, бедная птаха обречена и нет ей никакого спасения.
Наташа рванулась вперёд. А синичка словно почувствовала, что эта девочка в красной вязаной шапочке – её спасение, и метнулась ей навстречу. Но ястреб не отставал. Все произошло в какое‑то мгновение. Мы видели только, как Наташа взмахнула над головой лыжной палкой, резко отбилась от ястреба.
Едва избежав удара, ястреб недобро взмахнул широкими крыльями с ржаво–красноватым исподом и улетел искать добычу в другом месте, а синичка успела шмыгнуть в спасительную густую путаницу мелких веток застывшего ясеня.
Наташа сорвала с головы вязаную шапочку и подбросила её, в знак победы над ястребом в небо.
– Ив воздух чепчики бросали! – не без зависти съязвил Николай.
Пал Палыч понимающе улыбнулся:
– А ты не завидуй, Коля. Все‑таки никто из нас не догадался, что синичку можно спасти. Наташа одна догадалась… За всех нас доброе дело сделала.
ВТОРОГОДНИКВ пятом классе мы завязали переписку с ребятами из заполярного посёлка на острове в Ледовитом океане. Однажды мы получили от них небольшую посылку с надписью: «Осторожно, стекло!»
Вскрывал ящик сам Пал Палыч, а мы, обступив его стол, с любопытством ждали ответа на вопрос, который всех нас мучил: «Что же там такое?»
Посылка была упакована так, как только Кащей мог упаковать свою смерть. В деревянном ящике лежал комок ваты. В вате оказалась картонная коробка, в ней снова комок ваты, а в этом комке закатана хорошо запечатанная двухсотграммовая баночка с наклейкой, на которой красивыми буквами было выведено: «Наш полярный мёд».
Мы ожидали самого невероятного, но только не мёда из‑за Полярного круга.
На остров в Ледовитый океан немедленно побежало письмо с требованием подробностей. Вместо подробностей мы получили пакетик семян и коротенькую записку, которая напустила ещё больше тумана в дело, и без того тёмное.
Ребята писали, что у них по всему острову разрослась какая‑то высокая трава с пахучими жёлтыми цветами и сильным, как прут, стеблем. Пчелы на острове водились. У агронома в парниках стояли два улья специально для опыления огурцов. Работали пчелы прилежно, но мёда давали мало. Их даже приходилось подкармливать сахарным сиропом. А когда эта трава появилась на острове, пчелы стали собирать столько мёда, что девать некуда; пришлось отправлять поморам на материк.
«Трава эта, – писали ребята, – настоящая волшебница. Она не боится ни зимней полярной стужи, ни бесконечного полярного зноя и растёт в любом месте, даже на берегу, у самой кромки солёной воды, как у вас на Дону камыш, про который вы нам писали. А какая это трава – узнаете сами, когда она вырастет у вас из этих семян».
Прочитал нам письмо Пал Палыч и только почесал затылок:
– Да, загадка!
Решили семенами северян засеять грядку в нашем саду. Но они до осени не взошли. Грядку засыпало снегом, а Пал Палыч сказал:
– Подождём до тепла.
Весной проклюнулись какие‑то жиденькие травинки. Росли они медленно, туго, и к осени на грядке торчала невзрачная щётка – так себе, бурьянистая трава.
Мы были разочарованы и о своём огорчении написали за Полярный крут. Дескать, для вашей волшебной травы наш климат оказался неподходящим, и у нас она расти не хочет. На огорчительное наше послание последовал скорый и краткий телеграфный ответ: «Не торопитесь. Имейте терпение!»
Из пятого класса мы перешли в шестой, а наша строптивая северянка – из первого года своей жизни во второй. И вот на второй‑то год действительно произошло чудо. Жиденькие травинки будто устыдились прошлогоднего отставания. Они пошли в такой бурный рост, что ко времени каникул на грядке обозначился огромный травостой. В нем легко было бы спрятаться, стоя в полный рост, если бы удалось продраться сквозь зеленую гущину.
– Волшебная трава! Правильно – волшебная! – ахал Пал Палыч. – Дивное растение! Вот тебе и второгодник!
Он только что не проговаривался, что за трава растёт у нас на грядке. Но, по своему обычаю, делал в! ид, что и сам ничего не знает. Ох, и хитрющий же, как я погляжу, был у нас учитель!
– Подождём, посмотрим на неё в цвету, – отвечал он на наши нетерпеливые расспросы.
В июне мы поселились в пионерском лагере. Колхоз устроил его в степной дубраве – совсем рядом с хутором и со школой, но будто совсем в другом царстве – так резко отличалась тенистая и прохладная дубрава от знойной степи, обступавшей хутор.
Жили мы в нарядных, расписных домиках. У каждого класса – свой.
Уже на второй день Вася с Колей наделали в лагере переполоху. Вместе с Пал Палычем мы отправились в лес поискать грибов, а дружки остались дневалить. Когда мы вернулись к обеду домой, в нашем домике густо пахло той самой волшебной травой, которая на второй год вымахала чуть ли не на два метра и сейчас буйно цвела кистями мелких ярко–жёлтых и очень пахучих цветов. Как и писали нам ребята из Заполярья, над нашей грядкой целыми днями тучей вились пчелы. И вот надо же было такой беде случиться! Васька с Колькой насамовольничали. Сбегали в школьный сад, выдрали с грядки волшебную траву и устлали её ароматными стеблями полы в нашем домике.
Возмущение было всеобщим и неподдельным, но дневальные наши вели себя так, будто ничего особенного не произошло.
– Зачем вы это сделали? Зачем загубили волшебную траву? Зачем?! —кричали мы наперебой.
– Для отдушки, – невозмутимо отвечал Николай.
– Больно хорошо пахнет, – спокойно добавлял Василий.

Пал Палыч держал нейтралитет. Но, кажется, состоял в злонамеренном сговоре с Колькой и Васькой. Во всяком случае, я заметил, как они довольно ехидно перемигнулись. Пал Палыч, конечно же, давно, ещё по семенам, определил, что за второгодник разбушевался у нас на грядке, но он умел терпеливо ждать и ждал, пока мы сами разгадаем полярную загадку.
– Ну что ж, ребята, – сказал он, будто бы озабоченно, – после обеда сходим на грядку. Посмотрим, что там от неё осталось.
Пришли мы на грядку и ахнули: наша волшебная трава как ни. в чем не бывало стояла густой стеной, а над ней гудели пчелы.
Васька с Колькой злодейски хохочут, прямо‑таки покатываются со смеху, а Пал Палыч прикрыл ладошкой рот и посмеивается.
– Обманули нас полярники, как маленьких, – слегка успокоившись, сказал Коля. – Они нам семена нашего же донского донника прислали. Это же буркун. Нашего же буркуна мы на грядке вырастили. Мы его в степи за лагерем две охапки набрали. Все руки пообрывали. У него корень – как железный прут, а стебли – как верёвки.
Пал Палыч сделал вид, что до крайности удивлён. Он срывал и рассматривал продолговатые тройчатые листочки, растирал между пальцами ароматные цветы, нюхал, удивлялся:
– Верно, донник. Странно. Как же он попал в Заполярье? Новая загадка, ребята!
Целый день мы сочиняли письмо на остров в Ледовитом океане. Писали полярникам, что они разыграли нас очень хорошо, что из присланных семян у нас на Дону вырос наш же донской донник. Но вот как он попал и прижился в Заполярье – это уж совершенно непонятно.
Вместо вразумительного ответа мы получили фотографию с надписью: «Догадайтесь, и все станет ясно!»
На снимке из трюма теплохода кран поднимал какие‑то кубы. При чем тут наш донник? Мы вертели фотографию и так и этак, но сообразить ничего не могли.
На остров в Ледовитый океан пошла телеграмма: «Сдаёмся! Сообщите, что прислали».
Полярники явно издевались над нами. Ответ пришёл также по телеграфу и состоял из двух слов:
«Прессованный мёд».
Вот тогда Николай хлопнул себя по лбу и на весь лагерь закричал:
– Эврика! Это же тюки с нашим степным прессованным сеном! Полярным оленям на зиму. А с этим сеном мы им и семена нашего донника отправили. Ясно?
– Эх, Коля, Коля! —сказал Пал Палыч. —Жалко, что мы ботанику в прошлом году проходили. А то бы я тебе пять с плюсом поставил. Заработал.
А Вася – друг‑то верный! – говорит:
– А вы ему по зоологии поставьте. Сено‑то для оленей.