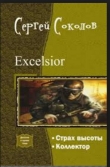Текст книги "Грустные клоуны"
Автор книги: Гари Ромен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
XIII
Когда они проснулись, день уже был в самом разгаре и, словно рог изобилия, изливал на них солнечный свет, запахи, звонкие голоса и яркие краски юга – синеву неба, аромат мимозы, смех детей, стук копыт мулов, идущих под открытым окном. В тщетной попытке выставить день за порог Рэнье поторопился закрыть ставни и задернуть шторы. Энн говорила, что нужно одеться и сходить на прогулку, нельзя же валяться в постели, когда стоит такая погода, но он вернулся к ней, и они забыли, что можно и чего нельзя. В три часа пополудни они снова проснулись, и Рэнье пошел на кухню за виноградом и апельсинами. Стены комнаты были голыми, да и мебели в ней было совсем немного: он всегда ждал женщину, которая вдохнула бы жизнь в этот дом.
«Я тебя совсем не знаю, – думала Энн, перебирая его светлые с проседью волосы, касаясь кончиками пальцев его лба, век, губ, – я тебя совсем еще не знаю, такой ты есть, таким ты и останешься, незнакомым и все же возможным».
– Кто ты? Я ничего о тебе не знаю.
– Так лучше. Пусть так остается и дальше. Во всяком случае, я – приблизительный.
– Приблизительный?
– Да. Я – воплощение приблизительности. Почти человек, почти жизнь, которая мечтает о почти мире и почти обществе. Кстати, поиск приблизительности – это и есть то, что называют цивилизацией. Как только человек переступает границы приблизительного, он вторгается в сферу нечеловеческого. За пределами приблизительного – мир Гитлера и Сталина. Стоит переступить эту незримую черту, и ты попадаешь в среду, враждебную человеку. Единственное, что не является приблизительным, – это смерть.
– И от этого одной рукой становится меньше, – скачала Энн.
– Да. Я хотел жить в почти свободном мире. Я никогда не мог жить только для себя: «я», «мне». это как наркотическая зависимость. А потому сначала была война в Испании, потом служба в авиации Свободной Франции, высадка на оккупированную территорию и теперь…
– Корея, – прошептала Энн. – Да.
Рэнье рассмеялся.
– И все из-за того, что «почти» меня никогда не удовлетворяло. Именно это и делает меня таким смешным. Я никогда не мог сказать себе: для «почти» ты сделал все, что было в твоих силах. Фашизм почти побежден, остается Сталин, но теперь пусть другие завершают начатое. Ты сделал почти все, что мог, а потому остановись, позволь другим бороться за почти свободный мир и попробуй быть почти счастливым. Но поскольку я никогда не мог почти любить женщину… Это то, что называется быть полным противоречий. И даже то, что называется быть почти человеком.
«Если бы Горький всерьез заинтересовался тем, что так удачно назвал «ареной старого буржуазного идеалистического цирка», – думал Рэнье, – то непременно заметил бы эту смешную пару: звезду Голливуда и калеку из «республики сильных духом», которые, по всей видимости, были созданы друг для друга. И если бы неизвестные нам боги, жаждущие развлечений, забросили свою сеть в омут наших мечтаний, то вытащили бы на поверхность этого источника комизма других грустных клоунов, прилагающих неимоверные усилия, чтобы овцы были целы и волки сыты, а также их стремление к абсолюту и готовность согласиться на «почти», что можно было бы назвать мирным сосуществованием между возможным и невозможным. Я никогда не был коммунистом, но вместе с тем никогда не опускался и до яростного воинствующего антикоммунизма, как это обычно бывает в драмах с большим накалом страстей, когда бурная любовь заканчивается разрывом отношений: мне никогда не приходилось порывать с самим собой. Но блокадой Берлина и виселицами Будапешта и Праги, сибирскими концлагерями и вторжением в Корею Сталин угрожает всему тому, что мы почти спасли, почти вырвали из пасти Гитлера. Всего этого я тебе не говорю, потому что теперь это не имеет никакого значения, я встретил тебя и наконец порву со всем тем, что всегда объединяло меня с другими людьми и другими местами. Я наконец порву с тем, кто всегда знал, что любое творение человеческих рук – это всего лишь «почти», но тем не менее никогда этим «почти» не довольствовался. С тем, кто боролся против всех демонов абсолюта, но так и не смог смириться с невозможным, кто всегда знал, что у человека нет большего врага, чем духовный экстремизм, однако сам был экстремистом в душе. Вот почему я прижимаюсь к тебе с такой надеждой и отчаянием, я хочу наконец остановиться, сдержаться, ограничить себя, отвернуться от горизонта, этого вечного странника, а в награду за это получить твои омытые утренним светом глаза, доверчиво трепещущие перед объятием ресницы и этот женский взгляд, в котором так хорошо укрыться и куда всегда хочется возвратиться.»
– О чем ты думаешь?
– О конце невозможного, – ответил Рэнье и, склонившись над ее растянувшимися в улыбке губами, поцеловал их тонкий контур.
XIV
Сильнейший за последние годы приступ астмы стал для Вилли подходящим поводом для объяснения причин задержки звездной пары в Европе – владельцы киностудии начали проявлять беспокойство, и ему позвонил парижский представитель компании. Вилли объяснил Россу, что ему нужно несколько дней отдыха, чтобы прийти в себя после приступа.
– Энн вполне могла бы вернуться одна, – проворчал Росс на другом конце провода. Имея дело с Вилли, он всегда ожидал с его стороны какого-либо подвоха. – Съемки должны были начаться уже сегодня.
– Одним словом, вы хотите, чтобы жена оставила меня одного подыхать здесь ради выполнения своих обязательств? – взревел Вилли. – После этого публика едва ли поверит вашим ханжеским разглагольствованиям насчет самой дружной супружеской пары в мире.
Росс не сразу нашел, что сказать, и в разговоре образовалась неловкая пауза.
– Послушайте, Вилли, я должен дать боссам конкретный ответ. Они не могут держать на съемочной площадке людей, которые ничем не заняты. Когда вы рассчитываете вернуться?
– Дайте мне еще неделю, – ответил Вилли.
Он понимал, что в любом случае ему не удастся держать в тайне уход Энн больше недели. Вилли уже видел репортеров, якобы бесцельно слонявшихся по холлу отеля, и иногда даже задавался вопросом, уж не его ли запах их привлекает. С другой стороны, этого времени с избытком должно было хватить Сопрано, чтобы объявиться и навести должный порядок. Вилли верил в него, как в самого себя. Он постоянно ощущал его незримое присутствие, и это вселяло в него чувство покоя и уверенности, давало впечатление полного контроля над теми жалкими усилиями, которые иногда прилагает жизнь, чтобы вставить вам палки в колеса.
– Через неделю мы приедем. Разумеется, если не случится очередного приступа. Кстати, хочу вам сообщить, что я предлагал Энн вернуться, но она отказалась. Интересы студии я принимаю к сердцу гораздо ближе, чем кое-кто думает и чем они того заслуживают. Можете мне поверить, я не сделал ничего, чтобы заставить Энн остаться на Лазурном берегу, но, полагаю, это сильнее ее.
Вилли испытал настоящее наслаждение от двусмысленности своих слов, истинный смысл которых Россу было не дано понять. Высочайший класс.
– Договорились, – сказал Росс. – Я вот только думаю, не сможем ли мы извлечь из этого выгоду в плане рекламы, раз уж теряем во времени и деньгах. Мы могли бы снять Энн, сидящей у вашей постели или что-нибудь в этом роде.
– Об этом не может быть и речи, – возмутился Вилли. – Здесь никто не знает, что я болен и тем более, что еще не уехал. Мне, представьте себе, нужен покой.
Он чувствовал, что подобное пренебрежение рекламой было для него абсолютно несвойственно, но у него не было выбора.
– Я хотел поговорить с Энн, но не смог найти ее, – сказал Росс.
– Отлично, – спокойно ответил Вилли. – Одну секундочку, сейчас я ее позову. Энн, – крикнул он, – Энн!..
И положил трубку. После этого он позвонил портье и отдал распоряжение не соединять ни его, ни мадемуазель Гарантье ни с одним человеком, звонящим из Парижа. Таким образом он выигрывал по меньшей мере двое суток, а за это время Энн, конечно же, вернется. Горячая ванна, и все будет забыто. Иначе и быть не может, большая любовь так не приходит, только не в карнавальный вечер, и не с такой легкостью – жизнь устроена совсем не так, черт возьми. И потом большая любовь, настоящая – это нечто такое, что не может быть разделено. Чтобы любить по-настоящему, нужно быть одному. Большая любовь – это когда ты любишь женщину, а она тебя – нет. Вот тогда это истинная любовь: всепоглощающая, разрушительная, как сама жизнь во всем своем ироническом и подавляющем великолепии, которая берет вас за горло, безжалостно душит и заставляет корчиться от невыносимого зуда.
В его распоряжении было всего сорок восемь часов, чтобы придумать какую-нибудь отговорку на случай появления в Ницце представителя киностудии, что было более чем вероятно. Пока Вилли не имел ни малейшего представления о том, что ему скажет, но он верил в свой талант импровизатора. Он всегда умел находить нужные ответы, никогда не подготавливая их заранее. Этот природный дар позволял ему с честью выходить из стычек со всякими мерзкими тварями, которые, подобно лохнесскому чудовищу, время от времени поднимаются на поверхность жизни. Наилучшим образом способности Вилли проявлялись при непредвиденных обстоятельствах.
Он не позволит этим целлулоидным сукиным детям прервать то небольшое гигиеническое приключение, которое пойдет Энн только на пользу. До сих пор малышка занималась любовью без особого энтузиазма. Состояние неудовлетворенности не позволяло ей расцвести и было причиной холодности, начавшей сказываться на ее актерском таланте. Оставалось надеяться, что парень, на которого она запала, понимает толк в любовных утехах и сможет доставить ей удовольствие.
Вилли разгрыз конфету с чувством снисходительного превосходства. Подобным историям не стоило придавать особого значения. Заткнув кляпом рот своей совести, он улыбнулся с видом выпускника Итона – этакое воплощение высокомерной элегантности, замешанной на полнейшем равнодушии. Высокий стиль, ничего не скажешь.
Помимо всех талантов, которыми его щедро наделила природа, он обладал еще одним: умением двигаться по поверхности самого себя, не проламывая покрывавшей его оболочки – очень тонкой и хрупкой. Это напоминало своеобразное фигурное катание, балет вечной commedia dell'arte,импровизацию, направленную на то, чтобы любой ценой избежать встречи с испуганным малышом, оставленным тридцать лет начал в темном чулане да еще лишенным права позвать маму.
Для розыгрыша этой commediaтребовались прежде всего партнеры, оставаться одному было нельзя ни в коем случае, поэтому неожиданное появление Бебдерна стало в этом смысле настоящим даром небес. В его отсутствие приходилось удовлетворяться обществом старины месье Верного. Одевшись, Вилли зашел в номер Гарантье. Тот сидел в полумраке, сложив на груди руки и прикрыв глаза. Собственно, было всего три часа пополудни, и говорить о сумерках еще не приходилось. Но Гарантье удавалось создавать вокруг себя персональную полутень, которая распространялась на все, что его окружало. Это был его образ жизни, его способ держаться и дышать, и он простирался до серого неба, до зимнего моря, а под кажущимся бесстрастием скрывалось, быть может, страстное желание наложить отпечаток своей тайной печали на весь мир. Во всем этом Вилли усматривал не только чисто эгоцентрическое желание втянуть мир со всеми его войнами и революциями, миллионами победителей и побежденных в личные переживания, но и гипертрофированный эгоизм, и присвоение детской болячкой всех страданий человечества.
– Бебдерн ушел? Он меня забавляет. Нет ничего смешнее людей, с которых заживо содрали кожу.
– Вы найдете его в вестибюле. Мое общество его не устраивает. Я его смущаю.
– Я хочу прогнись. Если позвонит Энн, скажите ей, чтобы она не делала глупостей. Эта дурацкая история ни в коем случае не должна всплыть наружу. Объясните ей, что ради ее же блага крайне важно, чтобы я был с ними. Это единственный способ уладить дело и придать ему совершенно благопристойный вид. Как только я буду рядом с ними, ни у кого не возникнет повода для грязных сплетен. Я готов следовать за ними повсюду, куда бы они ни отправились. Для них это – идеальное прикрытие, а для меня – вопрос самолюбия. Даже если они захотят покататься в гондоле по каналам Венеции, я готов стать гондольером. Совсем недавно Росселлини испортил карьеру самой Бергман: на нее ополчились все организации американских блюстителей морали. В Голливуде ей теперь делать нечего. А все потому, что ее муж, Линдстрём, не сумел обставить дело нужным образом. В нашей профессии мы не можем позволить себе провоцировать мораль и общественное мнение. С минуты на минуту на них набросится целая свора репортеров.
Вилли сделал паузу и насмешливо добавил:
– Только не говорите ей, что я делаю это из любви к ней. Чтобы она проглотила это, нужно было бы, чтобы я все подстроил, но все равно она не поверила бы.
– И была бы не права.
– Напомните ей, что на карту поставлено мое честолюбие. Все знают, что я законченный негодяй: пусть чтит мою репутацию.
– Успокойтесь, Вилли. Вероятно, Энн встретила большую любовь, а раз так, то она продлится недолго. Особенно, если речь идет действительно о большой любви. Люди поняли это на примере революций.
Голос Гарантье звучал почти что доброжелательно. И именно его голос Вилли ненавидел больше всего: глубокое разочарование превращало все в суету и пыль. «Это надо уметь – до такой степени мерить мир на свой аршин!» – с негодованием подумал Вилли.
– Советую вам надеяться, что так оно и будет, – сказал он.
Он вышел, но вместо того, чтобы направиться к лестнице, ведущей на первый этаж, уселся на золоченую банкетку с пурпурной обивкой, которая стояла у двери номера, и терпеливо просидел в коридоре около получаса. Эта уловка должна была убедить телефон, что он ушел. Все телефоны были хитрыми бестиями, и на них нужно было устраивать засады. Чтобы вынудить их зазвонить, зачастую достаточно было заставить их поверить, что дома никого нет.
Вилли била мелкая дрожь. Если дело примет серьезный оборот, ему придется рассчитывать только на Сопрано. Но как добраться до этого проклятого сукина сына? Он смог получить телефонный номер по адресу в Палермо, который дал ему Белч, но, позвонив, услышал в трубке музыку и веселый женский смех. Вилли слабо знал итальянский язык, но чтобы понять, что он попал в бордель, не нужно было быть лингвистом. Однако это его несколько успокоило – Сопрано обретал плоть и кровь. Вилли всегда верил в чудеса, то есть во всякую дрянь, которая управляет судьбами людей. Белч, Сопрано и вся мафия были тем, чем, старея, становятся сказки: последним воплощением, в зависимости от возраста человека, волшебной палочки, Сезама-откройся и ковра-самолета, тем, чем становится «Тысяча и одна ночь», постарев на тысячу и один день. Даже сейчас, сидя в коридоре, он, как истинный верующий, был убежден, что его хранит Ее Величество Подлость: нужно только вести себя как подлец, и тогда она проявит свою благосклонность, защитит и поддержит.
Он услышал телефонный звонок и устремился к двери. Когда он вошел, Гарантье уже собирался положись трубку. Он даже не пытался скрыть свою озабоченность.
– Это Энн. Возьмите трубку. Я терпеть не могу подобных ситуаций.
Энн была удивлена, услышав в трубке иронический и снисходительный голос Вилли: она забыла его.
– Дорогая, вы даже не представляете себе, какая это для меня радость – знать, что вы наконец-то нашли свое счастье. Это очень полезно для вашего искусства. Я отправлю вам ваши чемоданы и открою на ваше имя счет в банке «Барклайз» в Монте-Карло на тот случай, если у вашего друга вдруг проявится тяга к роскоши. Немного белья вам, разумеется, тоже не помешает. Мне кажется, это все, что вам сейчас нужно. Не могли бы вы сообщить мне, сколько еще времени продлится эта история? Неделю или немного больше? Это лишь для того, чтобы знать, как вести себя перед журналистами.
– Я ничего не могу вам сказать, Вилли.
– В конце концов, мы, актеры, всем обязаны прекрасным чувствам… Мы живем ими. Без этих маленьких проявлений искренности не было бы искусства. Нам нужно склониться перед ними в глубоком поклоне – ведь они проходят так быстро! И доставляют нам. столько страданий! Кстати. Вы не хотите поговорить с отцом?
– Нет.
– Хорошо. Он поймет. Он тоже натура крайне деликатная.
– Вилли.
– Не беспокойтесь. Я переживу. И, если позволите, процитирую одного французского поэта. Некоего Ронсара… «Живите, коль верите мне, днем сегодняшним, спешите сейчас же сорвать розы жизни.»
– Спасибо, Вилли. Я с детства знаю это стихотворение.
– Вы это от меня скрывали. Несомненно, это свидегельствует о нашей тактичности.
Ни слова, ни тон пикировки не имели никакого значения – важно было лишь то, что он никак не мог положить трубку. Это сделала Энн – так закончился последний разговор в их жизни.
XV
Она положила трубку и, отвернувшись, прижалась щекой к подушке. В белизне комнаты тени двигались по воле легкого ветерка, шаловливо игравшего со шторами. Рэнье склонился над профилем, который наконец-то придал смысл всей его бродячей жизни. Пряный воздух окутывал их той особенной средиземноморской негой, в которой находят свою первопричину все те, кто любит и хочет быть любимым. В атмосфере покоя, который медленно нес их на протяжении последних часов и был одновременно рекой и устьем, обликом и открытым морем, каждая секунда, казалось, смешивала вечность с эфемерностью, и Энн улыбнулась его печальному и такому внимательному, изучающему взгляду.
– Каждый раз, когда ты на меня смотришь, создается впечатление, что ты делаешь это про запас. Давай оденемся и выйдем. На улице так хорошо.
– Повсюду.
– Что?
– Повсюду хорошо. Снаружи. Внутри. Повсюду.
Она протянула руку за гроздью винограда, но не нашла в себе сил ни поднести ягоды ко рту, ни положить их на место. Ее рука с виноградом опустилась на простыню.
– Давай встанем и выйдем на улицу, Жак, – снова прошептала она, чтобы напустить на себя страха.
– Правильно! – энергично подтвердил он, и они еще теснее прижались друг к другу.
– Подонки, – пробормотал Рэнье, думая о ненависти и войне. – Я даже не знаю, что они собираются защищать.
– Я ничего не хочу защищать, – решительно сказала Энн. – Во всяком случае, не сейчас. Говорят, что как только идея обретает плоть, она превращается в труп.
Рэнье улыбнулся.
– Вовсе нет. Когда идея в самом деле обретает плоть, она становится женщиной…
Он слегка отстранился и, нахмурившись, с серьезным видом посмотрел на ее грудь. Энн с трудом сдерживала смех, потому что чувствовала, что в его руке ее грудь приобретала идеологическое содержание, становилась чем-то вроде двух маленьких близнецов Западов. Сразу же после встречи Рэнье сообщил ей, что через десять дней отправляется в Корею с войсками ООН, чтобы противостоять новому натиску тоталитарного режима. Он рассказал ей об этом незамедлительно, как честный человек говорит, что уже женат. Но это не имело никакого значения, как, впрочем, не имело бы значения и его признание в том, что у него есть жена. До отъезда было еще далеко, – оставалось девять дней, – и потому размышления о будущем представлялись Энн историей без продолжения, легкомыслием и расточительством. Это была лишенная всякой скромности, крикливая и вызывающая роскошь – отголосок той эпохи, когда все экономили, когда ради будущего забывали о счастье, когда богачи купались в золоте и, не имея других забот, могли позволить себе думать о завтрашнем дне. Это была забота о кубышке.
– Знаешь, Жак, с тех пор, как я впервые прочитала «Стрекозу и муравья», меня всегда поражала одна вещь.
– Что именно?
– Прошло уже столько времени, а стрекозы поют и по сей день. Мы усвоили из басни ложную мораль, а истинная звучит иначе: стрекозы поют всегда. Они отвечают муравьям гордо и смело, продолжая петь. Когда я была маленькой, мне это сразу же показалось очень важным и тем более значительным, что взрослые старательно замалчивали этот вопрос. Стрекозы продолжают петь – это и есть истинная мораль басни. Так что, уезжаешь ты или нет. Думать только о настоящем – вот единственный способ быть предусмотрительным.
– Стрекозы правы. К тому же, Средиземноморье как нельзя лучше подходит для них и их морали. Именно поэтому они поют здесь лучше, чем в других местах. Все остальное намного севернее.
Она попыталась задержать его руку, но он был прав: все остальное было намного севернее, там, откуда, несомненно, пришло выражение «хранить холодную голову». Покачиваясь на волнах тишины, ощущая у своих ног свернувшийся в клубок мир, они надолго замерли в счастливой неподвижности мгновений, которым смертельно надоело заканчиваться. Он думал о том, что было потеряно в сражениях, и о том, что теперь вновь обретал живым, победившим и невредимым в этом теле, прижавшемся к нему, в этом легком дыхании, отрицавшем закон тяготения, в этой гавани под мышкой, где заканчиваются все искания и где все воздается сполна. А этот волшебный, изменчивый рисунок губ, подобный волне, застывшей налету!.. О те, кого мы заключаем в объятия! Это говорит человек, воплощение человеческой суетности, шутовства, ярости и отчаяния. Тот, который познал братство сражавшихся за правое дело и ничего не узнал, тот, который познал женщин и ничего не узнал, тот, который познал материнскую любовь и ничего не узнал, но который наконец встретил тебя и встретил все. Вот так, на моих глазах возник мир для двоих. И как это странно – быть зрелым человеком, который получает наконец-то свой первый урок, открывает для себя женскую руку, женскую походку, женские ноги, которые что-то отдают земле, каждый раз прикасаясь к ней, а это чудо женских рук, лежащих вдоль тела: какая потрясающая идея – сложить их таким образом! Словом, все впервые. И вчера вечером, стоя у окна, разве я мог подумать, что с каждым поцелуем твоей руки можно вобрать в себя средиземноморскую ночь со всеми ее ароматами? Здесь закончилась моя бродячая жизнь. Подвинься ближе. Да, я знаю, что ты не можешь, и все же подвинься. Еще немножко… Ну вот. Ничего, потом отдышимся. Вот так, Жак…
Не зови меня. Не называй моего имени, а то подумают, что нас двое.
Он попытался вспомнить, что говорил Горький о грустных клоунах, потому что сказанное или не сказанное Горьким не имело никакого значения, ибо он также написал, что любовь – это непостижимость человека с позиций законов природы.
– Почему ты смеешься?
– Этого требует важность момента.
В середине ночи он зажег свет. Она выглядела такой крошечной: все, казалось, умещалось в ее темных волосах. В их тепле дремали глаза, нос, губы, подбородок, ухо.
Ему хотелось по очереди брать их и, как цыплят, подносить к своему лицу, прикасаться к ним щекой, а потом класть на место в гнездо, не тревожа при этом их мать.
На рассвете он снова проснулся, улыбнулся ей и опустил голову, как делал это человек с незапамятных времен, прижимаясь лбом к тому, что любил больше всего на свете.