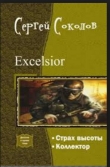Текст книги "Грустные клоуны"
Автор книги: Гари Ромен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
VII
Карнавальная процессия двигалась по широкой улице; в едином порыве все бросились к окнам, и у стойки, где осталось несколько человек, ненадолго воцарилась атмосфера покоя и задушевности, как в своеобразном братстве бедняков, что иногда случается в барах. Опустив головы и глядя друг другу в глаза, подобно оленям, скрестившим в поединке рога, Педро и Ла Марн говорили о политике; девица в мехах курила с таким выражением на лице, будто принадлежала к другому биологическому виду. У другого конца стойки Рэнье заметил элегантного господина в клетчатом костюме с галстуком бабочкой и белой гвоздикой в петлице, лайковых перчатках и сером котелке. Его левая бровь была слегка приподнята, и он казался в стельку пьяным, если только, по меньшей мере, на него не давило бремя ответственности, взваленное на его плечи американской Конституцией: поиск счастья, pursuit of happiness... Тут было от чего остолбенеть и превратиться в камень. Глаза незнакомца были слегка навыкате, а щеки надуты, словно он на что-то дул или пытался сдержать приступ смеха. В остальном же он выглядел очень достойно и держался как человек, который никогда не отступает от своих принципов.
– Этот тип – лучший из всех, кого я видел, – заметил Педро. – Он даже больше не пьет. Живет за счет своих запасов. Сидит на этом табурете со вчерашнего вечера. Закрываясь, я, должно быть, забыл его выпроводить.
О, месье Педро, – восхищенно мяукнула девица с чернобуркой на плечах, – может, нальете мне что-нибудь?
Педро плеснул ей коньяка.
– Если вы думаете, что в это состояние его привел алкоголь, то вы ошибаетесь, – уверенно заявил Ла Марн.
Покачиваясь, он подошел к джентльмену – Ла Марн не был по-настоящему пьян, но ему нужен был повод – и, как большая добродушная псина, дружелюбно обнюхал занявшую гвоздику. Все были счастливы, что он ограничился только этим.
– Ну что там? – поинтересовался Педро. – Освенцим? Хиросима? Война в Корее? Или все остальные, которые за ней последуют?
– Полная прострация, – отозвался Ла Марн. – Чтобы остаться безучастным ко всем этим ужасам, он настолько глубоко ушел в себя, что теперь не может даже пошевельнуться. Абсолютный коллапс. Стоицизм. Он так долго терпел, что в конце концов сломался.
– Свинья, – фыркнула девица.
– Исключительная натура, поднявшаяся над суетой и решившая спасти свою человеческую добропорядочность, вот кто он! – горланил Ла Марн. – В безучастности он нашел такое надежное убежище, что уже не может из нее вырваться. Исчез, вознесся в заоблачные выси. Своей отрешенностью он хотел подняться над миром, над нацистскими концлагерями, над сталинским Гулагом, но для этого ему пришлось так крепко сжать челюсти и все остальное, что теперь он не может вымолвить ни слова. Не способен даже расслабить сфинктер. Одним словом – аварийное состояние. Не знает, кто он, что здесь делает и зачем. Или же изображает непонимание и оцепенение человека дней нынешних, как, впрочем, и минувших, столкнувшегося с кучей серьезных проблем. Полная оторопь гуманиста перед лицом человеческого варварства. Или же этот негодяй пытается уйти от ответственности. Выйти сухим из воды, всем своим видом показывая, что он здесь ни при чем, что он чистенький. Вы только взгляните на него: кремовые перчатки, безупречные стрелки на брюках, гвоздика в петлице. Непоколебим в своем желании примазаться к нашей чистоте и достоинству!
– Должно быть, он прочитал в газетах, что американцы располагают ядерным арсеналом, способным трижды стереть человечество с лица земли, и от того до сих пор не может прийти в себя, – предположил Педро.
– … Или же, – продолжал громко горланить Ла Марн, – это тонкая натура, которая защищает свои чувства, заковавшись в панцирь! Чтобы избежать потрясений, он с головой погрузился в свой внутренний мир. Ушел в себя под ударами Истории! Загубленная чувствительность, атрофировавшаяся под напором исторических реалий! Испуганно блеющий буржуа со слезами и багажом, бегущий от действительности! Или же это насмешник: тогда мы видим особенно отвратительный и коварный способ глумления над жизнью, суть которого сводится к демонстрации того, что она с вами сделала. Это огульная и совершено осознанная насмешка над жизненным опытом, верой в будущее и надеждой на лучшее. Разоблачитель! Безжалостный указующий перст, направленный не на саму жизнь, а на ее отражение в кривом зеркале. Или же это тип, жаждущий любви и томных вздохов под луной. Или… тсс!
Он наклонился к девице и доверительным тоном произнес:
– Социализм с человеческим лицом, мадмуазель. Я бы не удивился, узнав, что он прячет его в глубине души! Или же это ловкий прием.
– Ловкий прием? – озадаченно переспросила девица.
– Ловкий прием, – подмигивая ей, подтвердил Ла Марн.
– Какой прием?
– Который придумал Педро.
– Свинья! – вырвалось у девицы.
– Разбитый череп Троцкого. Отцы Октябрьской революции, расстрелянные Сталиным, как большевики. Гулаг и миллионы его жертв. Трюк Педро.
– Ну хватит, – сказал Педро. – Шел бы ты трепаться в другое место.
– Можно быть коммунистом, не будучи сталинистом, – благоразумно заметила потаскуха.
– Верно, – кивнул Ла Марн. – Что и приводит вас в это состояние. У него спрашивали, откуда он, куда направляется, кто он?
– Он не отвечает, – ответил Педро, – пьян в стельку.
– Идеологическое rigor mortis [3]3
Трупное окоченение (лат.).
[Закрыть], – подвел черту Ла Марн. – Давайте обыщем его. Может быть, при нем есть адрес родственников.
Джентльмен-до-кончиков-ногтей сидел на табурете подчеркнуто прямо, элегантно выгнув бровь. Этот придурок просто непробиваем, с завистью подумал Рэнье. Ограниченные арками, словно рамками картины, фрагменты карнавального шествия напоминали полотна кисти Джеймса Энсора, и на фоне метели из конфетти и серпантина, гримасничающих масок, затисканных девок и всяких чудищ незнакомец выглядел совершенно естественно. Он равнодушно позволил себя обыскать. У него ничего не найдут, подумал Рэнье. Все хранится в музеях и библиотеках.
– Ничего нет, – объявил Ла Марн, – никаких документов, полное инкогнито. Разумеется, так было задумано заранее. Хочет символизировать человека непобедимого и нерушимого, гуманного человека, которого ничто не может поставить на колени или облить грязью!
– Можете засунуть ваши метафоры себе в одно место, – сказал Педро. – Одурманены все до одного. Буржуазный декаданс. Весь Запад стал «Озером» Ламартина. Сырость и рыдания. Вы превратили все человеческое в болезнь.
Джентльмен оставался совершенно безучастным ко всему происходящему даже тогда, когда Ла Марн шарил у него но карманам. Исключительная натура до кончиков ногтей, кстати, полностью обгрызенных, отметил про себя Рэнье.
– Так, так, так! – пропел Ла Марн.
Он держал в руке измятый листок бумаги. Развернув его, он прочитал:
– Малый словарь великих влюбленных.Ну и ну… Ну и ну! – повторил он, с симпатией разглядывая незнакомца. – Свой человек! Он нашел это в еженедельнике для женщин «ELLE». Я подписываюсь на него. Мне всегда хочется чувствовать вокруг себя женское присутствие. Малый словарь великих влюбленных.Тут подчеркнуто одно имя, – Ла Марн глянул в листок. – Хольдерлин, Фредерик (1770–1843) [4]4
Немецкий поэт, автор романа «Гиперион», од и гимнов, в которых романтическое вдохновение возносится до мистицизма.
[Закрыть]. «Он жаждал абсолютной любви, большей, чем сама жизнь…»
Ла Марн прервал чтение и обернулся к незнакомцу. Педро, Рэнье и девица тоже с любопытством смотрели на него. Тот, казалось, витал в неведомых заоблачных высях, и трудно было представить себе, какие дали открывались его взору. Его здесь не было. На месте остались только увядшая гвоздика, белые гетры, кремовые перчатки и приподнятая бровь: он ушел, оставив вместо себя свой гардероб.
Сопрано наблюдал за шествием, стоя у окна кафе со сдвинутой на затылок легкой шляпой и с кружкой нива в руке. Странное предчувствие заставило его обернуться, и он увидел барона в окружении незнакомых людей – трех мужчин и девицы, в которой без труда можно было признать проститутку. Один из мужчин выворачивал карманы барона. Это не особенно встревожило бы Сопрано, потому что каждый вечер он делал то же самое и никогда ничего не находил, если бы он постоянно не боялся потерять барона при тех или иных обстоятельствах. Тот мог уйти с кем угодно, а Сопрано, в конце концов, не имел на него никаких прав собственности: это же не предмет и не собака. Предвидеть реакцию барона было невозможно по той простой причине, что он никогда ни на что не реагировал. Любой человек мог легко увести его, а Сопрано уже не представлял, как обходиться без его общества. Поэтому он торопливо направился к маленькой группке, заметив, к своему удивлению, что мужчина, обыскивавший барона, что-то нашел в его карманах. Это так поразило Сопрано, что он даже не сразу вмешался в происходящее.
– Так ты будешь читать или нет? – спросил Рэнье.
– «Он жаждал абсолютной любви, чистой, глубокой, исключительной, большей, чем сама жизнь… И он нашел ее. Он не расстался с жизнью, но потерял рассудок. Черноволосая Сюзетта, жена банкира, у которого Хольдерлин работал финансовым инспектором, выглядела столь же юной, как и ее дети. Ее карие глаза были полны пыла и нежности. Но банкир узнал об их любви и выгнал Хольдерлин. Сюзетта не пережила разлуки… И сознание Хольдерлина помутилось, в своем безумии он сохранил внешнее спокойствие, но окружающий мир перестал существовать для него. Он превратился в зомби, в окаменевшее дерево, И в таком состоянии прожил еще тридцать семь лет у одного столяра, который приютил его у себя, вероятно, потому, что привык иметь дело с деревом».
Ла Марн замолчал и с отвисшей от изумления челюстью уставился на незнакомца. Остальные тоже не сводили с него глаз. Но барон, похоже, не замечал окружавших его людей. С отсутствующим видом, сохраняя идеальную осанку, он продолжал сидеть на своем табурете.
Из-под ленты на его сером котелке выглядывал маленький уголок розовой бумажки. Рэнье протянул руку и вытащил ее. Это был билет двухлетней давности на дерби в Эпсоме.
– Должно быть, он все проиграл на скачках, – пробормотал он.
– Permesso, – раздался позади них чей-то хрипловатый голос.
Обернувшись, они увидели невысокою человека в приталенном пиджаке с подложенными плечами и в белой шляпе, оттенявшей тонкогубое остроносое лицо с черными глазами.
Сопрано почти вырвал листок из рук Ла Марна.
– Come, come, barone, – обратился он к незнакомцу.
Он деликатно взял его под руку и помог соскользнуть с табурета. Барон не сопротивлялся. Он стоял подчеркнуто прямо, по-прежнему выгнув бровь, и внешне выглядел просто безукоризненно. Сопрано поддерживал его.
– Скажите, он уже давно в таком состоянии? – спросил Ла Марн.
– Не могу вам сказать, – с сильным итальянским акцентом ответил Сопрано. – Я с ним всего лишь год. Исключительный человек. Come, come, barone mio.
Он подвел его к столику, и барон сел, механически согнув колени. Сопрано обрезал сигару, сунул ему в рот и поднес горящую спичку. Барон курил, как автомат, выпуская дым маленькими клубками, следовавшими один за другим в соответствии с ритмом его дыхания. Рэнье, Ла Марн, Педро и девица следили за ним, не веря своим глазам. «Им должен платить комитет по проведению праздников», – подумал Рэнье. Сопрано улыбнулся ему и поприветствовал всех остальных, слегка привстав и прикоснувшись пальцем к полям шляпы. Снаружи под дождем конфетти шествовали клоуны, пьеро и прочие маски, и громкоговорители, сотрясавшие воздух оперными ариями, вносили свою лепту в то, что и так нельзя было назвать тишиной.
– Черт возьми, – произнес Ла Марн.
– Они издеваются над нами, – сказал Педро.
– Не только над нами. Это заходит слишком далеко.
– Можете засунуть вашу метафизику себе в одно место, – буркнул Педро.
– В конце концов, сегодня же карнавал, – заметила девица.
Под арками солдаты и маски водили хоровод вокруг бедно одетой девушки, скорее всего, продавщицы спичек, подумал Ла Марн, мечтавший о сказочной истории. В конце концов девушка поцеловала солдата, и ее отпустили. При мысли о том, что его никто не целует, на глазах Ла Марна навернулись слезы. Пританцовывая, в кафе вошел немолодой господин зажиточного вида с мешком конфетти в руке. Он окрестил присутствующих полными горстями разноцветных бумажных кружочков, раскланялся, приподнял шляпу и, все так же пританцовывая, удалился. «Шутовство, к которому приводит некоторых людей страх перед классовой борьбой и ядерной катастрофой, просто ужасно», – подумал Ла Марн. Иногда он почти испуганно косился на барона. Возможно, именно в этом крылась разгадка его тайны. Плюс еще восемьсот миллионов китайцев. Раздвинув колени, барон невозмутимо сидел с непроницаемым лицом и сигарой во рту; стрелки его брюк были безупречно отглажены, а туфли начищены до зеркального блеска.
Сопрано развернул клочок бумаги, отнятый у Ла Марна, пробежал его глазами и внимательно осмотрел. На полях он обнаружил несколько коряво нацарапанных слов. С одной стороны он прочитал «права человека», с другой – «человеческое достоинство». Он бросил на барона подозрительный взгляд. Но придраться было не к чему. Денди сохранял абсолютно безразличный и отсутствующий вид, даже выглядел более скованным, чем обычно: щеки надуты больше, чем всегда, голова слегка покачивалась. Казалось, он прилагал неимоверные усилия, чтобы сдержать то ли взрыв смеха, то ли пук, то ли некий благородный порыв.
VIII
Под тихий стук ножей и перезвон посуды три музыканта итальянца прекрасно справлялись со своей задачей, заключавшейся в том, чтобы воссоздать своим репертуаром, в котором было все: от «Санта Лючии» до «Соле мио» и «На спокойном море», приятную умиротворяющую атмосферу начала века с его зонтиками от солнца, русскими князьями и полной безопасностью. Сидя у окна, Гарантье наблюдал за чайками, суетливо носившимися над гладью моря. Он старался забыть, что это живые существа, и пытался видеть в них лишь белые и серые живые геометрические символы, подобные мобилям Калдера. Лицо Энн купалось в солнечном свете. Иногда ее охватывал почти панический страх перед возрастом, а насчет того, что называют «искусством старения», у нее были жестокие и вместе с тем наивные представления человека, который еще не чувствует надвигающейся угрозы. Ничто в ее глазах не выглядело более ужасным, чем желание продолжать нравиться, особенно когда оно читалось между морщинами, под слоем пудры, каждая частичка которой с годами, казалось, становилась крупнее. Она предпочитала этому внезапный уход мексиканских индейцев, которые в тридцатилетнем возрасте перестают танцевать и которым запрещается носить маски во время карнавала. Возраст требует, чтобы женщины изменялись сами еще более кардинально, чем изменяет их сам, и в этот момент в расчет принимается только стиль и сдержанность, в противном случае былая свежесть превращается в корку вчерашнего хлеба. Искусный макияж, который Энн видела в Голливуде на лицах женщин, отказывавшихся уходить вовремя, отмечал их ужасной печатью увядания, и они годами носили эту отметину, расточая улыбки, которые были самой мучительной формой попрошайничества. Но представление женщин о старости, думала Энн, зачастую является их представлением о мужчинах, и если последние соглашаются на такое оскорбление, то тем хуже для них. Именно о них говорят накрашенные глаза, нарисованные рты и фальшивые улыбки, замораживающие все вокруг. Чтобы дойти до такой степени унижения в страхе перед возрастом, гамма наших чувств должна быть поистине ограниченной. В двадцать лет Энн казалось, что всем этим ухищрениям она предпочла бы судьбу старой индианки, которую выгнали из дома во двор готовить свою скудную трапезу, но то была, конечно же, спокойная уверенность молодости. Теперь уверенности у нее поубавилось, зато добавилось терпимости. «Я старею, – думала она, – близится старость, неся с собой горький вкус компромисса; в сорок лет я буду стараться внушить себе, что, потеряв свежесть, мое лицо приобрело таинственность, а мое тело, утратив былой блеск, обрело величественную осанку. К сорока восьми годам я даже забуду, что женщины стареют, я буду хихикать и жеманничать, как молоденькая девушка; я открою для себя радость вальса, первого бала, смелого пожатия руки чересчур робкого юноши. В пятьдесят я наконец-то снова заплачу, на этот раз впервые от любви; нанесу, как и в молодости, больше румян на щеки, чем разрешала мама, и снова всем телом задрожу под взглядом юноши. После пятидесяти я стану одной из тех женщин, чье чересчур тонкое белье просто вопиет о своей неуместности. Но больше всего забот мне доставит мой собственный взгляд, придется контролировать и скрывать его, чтобы он не был слишком красноречивым». Энн всегда смущала чрезмерная молодость, сверкавшая во взглядах некоторых дам, отмеченных морщинами, поблекшей кожей, сухостью или одутловатостью черт; взгляд всегда сдается последним, и это естественно: глаза были придуманы любовью. Она улыбнулась отцу, который наблюдал за ней – и Вилли почувствовал себя лишним. Он поднялся и положил руку на плечо Энн.
– Мы пропустим шествие, – сказал он. – Вы идете, Гарантье?
– Да, да.
«Она мечтает о любви, – подумал Гарантье, – или просто мечтает, что, впрочем, одно и то же. Неприлично, чтобы в наше время знаменитая и независимая молодая женщина мечтала о любви так же, как наши бабушки, забывая о сегодняшнем дне. Наши бабушки мечтали в условиях социального неравенства, и тогда любовь была их единственным способом самовыражения, но теперь.» Неожиданно он отчетливо представил себя в чепце и кринолине викторианской эпохи, вздыхающим у окна при свете луны. Он поморщился. Юмор – это отказ от борьбы, способ скрыть свое истинное лицо, юмор делает мир более сносным и таким образом незаметно сотрудничает с ним. В сущности, то невероятное, безумное значение, которое придают любви западные племена, свидетельствует о паническом отступлении в глубокий тыл общества, осажденного со всех сторон и не способного стать на путь перемен… Гарантье встал, допил коньяк – как ценитель, смакуя каждую каплю – и устремил взгляд в окно, на море, которое катило свои волны подобно толпе, несушей впереди белый флаг паруса. С чувством собственного достоинства он отвернулся от окна. «Я принадлежу к касте людей, для которых вид окружающей природы является вечным упреком». Чувства, испытываемые им при виде моря и неба, вызывали у него состояние болезненного беспокойства, анализировать которое он не пытался, опасаясь обнаружить в нем, прежде всего, ощущение пустоты, заполнявшей горизонт; он старался признать в нем лишь знак сумеречной и тонкой души, всегда тайно влюбленной в красоту драмы и абсолютно безразличной к ее причинам и следствиям, нечто вроде лебединой песни мещанского сердца.
Он рассеянно следил за крейсером – вот он скрылся за мысом. На глади моря остался только белый парусник: избитый символ одиночества – или надежды… «Наверное, мне уже давно следовало бы завести щенка».
– Да, да. Я к вашим услугам.
IX
Они вышли из «Негреско» и окунулись в зыбкий полумрак зимнего дня, когда все постепенно растворяется в наступающих сумерках. «Наконец-то пришло время сдержанности, – думал Гарантье, – время, когда полутона и изысканность торжествуют над непристойностью реального мира, время цивилизации». Мир становился более привлекательным по мере смягчения его контуров. Взгляд стремился удержать то, что неудержимо ускользало от него, и это порождало приятное чувство ностальгии; появилась возможность общаться с пейзажем на равных, ласкать взором гряду холмов, зубчатый контур которой талантливо подчеркивал горизонт, и даже испытывать некое сладострастие от ощущения призрачной угрозы, зарождавшейся в волнах наслаждения. В бухте Анже мотыльком порхал парусник. «Должно быть, принадлежит какому-то английскому сатрапу», – решил Гарантье и отвернулся: необъятность моря и неба безжалостно отвергала даже самую глубокую печаль. Спустя двадцать пять лет он с трудом вспоминал облик жены, и это приводило его в отчаяние. От его любви осталось лишь размеренное биение сердца, способное означать что угодно и прежде всего сам факт существования. Но он оставался верен себе. Он защищал свою честь и не собирался прощать обиду.
Энн шла впереди одна. Следом, держа в руках ее пальто, шагал Вилли. Он впитывал разлитый в воздухе аромат духов Энн и тем самым тайно жил дыханием ее тела. Как надоедливая муха, он постоянно вился вокруг нее, урывая крохи близости, довольствуясь самым малым. Едва ощутимый, слегка обозначенный, аромат духов напоминает многообещающий шепот тела, но когда он чересчур силен, то говорит только о самом себе, сообщает лишь свое имя. Вилли положил в рот пастилку от астмы и принялся сосать ее, при этом его губы сложились трубочкой, вполне сочетавшейся с его ставшим знаменитым выражением липа: это я – собственной персоной, думал он, встречая взгляды узнававших его зевак. На протяжении вот уже нескольких минут Вилли донимал зуд на груди, к тому же он снова начал задыхаться. «Вероятно, это из-за духов. А может, виновата ткань пальто. Вряд ли что-то другое: она никого не встретит в этой толпе».
Через сад Альбера I они направлялись к аркадам площади Массена. Музыка, льющаяся из громкоговорителей, становилась все громче; праздношатающаяся публика стояла к ним спиной, толпясь у ограждений. Энн медленно шла под лохматыми, беспорядочно несущимися облаками – красноречивым знамением небес; у нее не было никакого предчувствия, и позже она будет вспоминать тот момент, когда еще не знала, что он здесь и что они запросто могли разминуться. На первый взгляд она казалась ледышкой, от которой веяло холодом, так охотно приписываемым женщинам, проявляющим интерес только к солнцу. Она уже давно знала, что он где-то рядом, где-то ждет и зовет ее – вот только не знала, где именно: в Сан – Франциско или в Рио, в парижском бистро или на перуанском пляже, а все считали, что она просто обожает путешествовать, и любит, внезапно срываясь с места, колесить по странам и континентам.
В это самое время Рэнье даже не смотрел на дверь. Облокотившись на барную стойку и опустив голову, он рассеянно улыбался, прислушиваясь к голосу поселившегося в нем шута, старого неугомонного сообщника, который рвался наружу, проявляя при этом недюжинное остроумие.
– Что случилось, патрон? – обеспокоенно спросил Ла Марн. – Вы совсем побледнели.
– Ничего. Все в порядке.
– А-а, ну тогда ладно.
Вступив под аркады площади, они попали в облака пыли, поднимаемой с тротуара сотнями ног, а затем в неимоверную толкотню, круговерть конфетти, оглушительное мяуканье бумажных рожков и буйство запахов. Энн почувствовала на своих плечах руки Вилли.
– Достаточно, я сыт по горло толпой. Зайдем сюда.
Он развернул ее к бару, защищая от масок, которые хотели вовлечь Энн в свой хоровод, открыл дверь и мягко втолкнул жену внутрь заведения.
Она сделала несколько шагов вперед и первым делом увидела заправленный в карман пустой рукав его пиджака и взгляд, устремленный ей прямо в глаза.
Ее сердце сначала замерло, потом бешено заколотилось, и Энн на какое-то мгновение подумала, что виной тому толкотня и раздражение, вызванное прикованным к ней взглядом, однако ей почему-то никак не удавалось разорвать установившийся между ней и незнакомцем визуальный контакт.
Позже она часто задавалась вопросом, откуда тогда взялись у нее силы вести себя так спокойно и уверенно, как, ни секунды не колеблясь, удалось понять, что человек, сосредоточенно смотревший на нее, вовсе не был завсегдатаем бара. Но ей, как женщине, было бы одновременно легко и трудно согласиться о ответом, что это ничего бы не изменило. Будь он даже самым обыкновенным авантюристом, у нее не было выбора. Собственно говоря, выбора вообще не бывает. Можно сожалеть о всей прожитой жизни, но разочароваться в любви невозможно. Единственное, о чем она впоследствии думала с бесконечной горечью, так это о том, что ей все-таки повезло.
Они словно застыли и, не обращая внимания на толчею, читали в глазах друг друга призыв о помощи, который стал для них первым откровением, а потом Энн улыбнулась ему.
На них никто не обращал внимания. Ряженые с картонными носами, накладными бородами, в масках и клоунских остроконечных колпаках, приплясывая и вопя, набивались в кафе, но они слышали только тишину, ту тишину, которая принадлежала лишь им двоим, тишину, наполненную таким мощным внутренним звучанием, что оно заглушало даже какофонию карнавала, а гримасничающие маски и толчея еще больше усиливали возникшее между ними чувство близости, одиночества и зарождающейся уверенности в том, что они наконец-то нашли другой мир, иную планету, где было место только для них одних.
И Вилли, который столько лет жил в постоянном страхе перед этим мгновением, ничего не замечал, ни о чем не догадывался и продолжал шутить с Гарантье, стряхивая с пальто разноцветные конфетти.
Потом он обернулся к Энн, и ему сразу все стало ясно. Его губы задрожали, а на лице появилось выражение детского испуга.
Ла Марн застыл, словно мраморное изваяние, со стаканом, поднесенным ко рту; он старался не шевелиться, даже не дышать. «Только бы Это случилось, – молил он Бога, – только бы Это наконец-то случилось, пусть даже с кем-то другим, мне бы и этого было довольно, только бы Это случилось с кем-нибудь».
Рэнье улыбался с несвойственным ему чувством робости и страха, подыскивая подходящие слова, чтобы заговорить с ней, и вдруг в голову ему пришли мысли о всех проигранных сражениях и о том деле, которое он тщетно отстаивал под всеми небесами утопии, и которое, как он теперь чувствовал, в конце концов увенчалось победой.
«Голубка моя – как же подходит тебе это слово! – ничто так не манит, как вкус твоих губ, и, если жить вдали от них, такая жизнь покажется ссылкой».