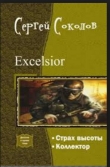Текст книги "Грустные клоуны"
Автор книги: Гари Ромен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
– Я сверну вам шею, – шипел Вилли. – Первому же, кто скажет, что я не знаю, что такое любовь, я.
– Сколько женщин прошло через вашу постель? – кричал Бебдерн. – Тысяча? Две тысячи?
– Это не важно, у меня есть только одна!
– Я сохранил девственность, – продолжал Бебдерн, стуча себя в грудь, – поэтому я имею право говорить о любви! Я знаю, что это такое! Она здесь, внутри! – кричал он и снова стучал себя в грудь. – Ее здесь полно! Что такое любовь осознаешь только тогда, когда ее не хватает! И тогда ее чувствуешь, понимаешь, можешь оценить ее отсутствие и величие, можешь говорить о ней со знанием дела! И в тебе самом, и вокруг тебя существует пустота, которая становится все больше и больше! Она тревожит и не дает покоя! Ты живешь с ней и знаешь о ней до мельчайших подробностей, но то, чего не знаешь о любви, не познав ее, уже никогда не может быть пережито. Пережитая любовь – это уже нечто совсем другое! Это как коммунизм, когда тот опускается на землю и претворяется в жизнь! Результат не имеет больше ничего общего с коммунизмом. Надеюсь, вы не считаете, мой бедный мальчик, что можно жить большой любовью и разглагольствовать о ней, находясь в этом мире? Осторожней, мне больно в коленях! Вы уже встречали людей, которые посетили мир иной и теперь живут, чтобы рассказывать о нем? А? Скажите мне. То-то! Вы знаете людей, которые вернулись из загробного мира? Эх, бедняга!
Бебдерн так разошелся, что к его польскому акценту добавился еще и ниццский говор, что, в сочетании со своеобразной внешностью и фраком, усугубляло необычность его фигуры на величественном фоне лазурного моря и синего неба. Его горящие глаза под тонкими ниточками бровей были полны слез, и он бил себя в грудь кулаком.
– Я не познал любви и потому знаю, что это такое! – кричал он, весь взъерошенный. – Я – настоящий любовник, все остальные – потребители!
Вилли и Ла Марн посмотрели друг на друга с таким отчаянием и яростью, что почувствовали стыд перед этой обнаженностью чувств: они спровоцировали настолько сильный приступ искренности, что теперь не знали, как себя вести. Бебдерн замолчал, виновато потупил глаза и, слабо улыбнувшись, уткнул нос в гвоздику. Вилли закурил сигару.
– Какой дом?
– Его отсюда не видно. Можете оставить машину на площади Шато.
Они остановились посреди площади и устремились в кафе, где Вилли заказал бутылку шампанского. Хозяин встретил их широкой улыбкой.
– Итак, месье Ла Марн, вы приехали повидать влюбленных? В деревне только и разговоров, что о них!
– Пошли отсюда! – буркнул Вилли. – Не-мед-лен-но!
Тем не менее они выпили шампанского, еще одну бутылку взяли с собой и по улице Фонтэн дошли до улицы Пи.
– Это здесь? – прошептал Вилли.
Вопрос был чисто риторическим, это и так чувствовалось: от дома исходила аура счастья. Дом венчала башня, и узкие ступеньки карабкались вдоль стены до плоской крыши. Внутри был маленький дворик: дети играли под присмотром святых и мадонн, стоящих над дверями, фасады отличались легкостью, присущей разлетающимся в танце женским платьям. Задрав голову, Вилли остановился перед домом, чувствуя свою беззащитность. Он испытывал даже нечто схожее со стыдливостью. Он улыбнулся и тихо произнес:
– Там внутри, за этими стенами, они живут моей любовью.
Граф Бебдерн, он же владелец прочих обителей одиночества, молчаливо стоял рядом, смущенный его интонацией. Вилли сделал шаг к ступенькам, но ему в ноги, как воробышки, бросились мальчик и девчушка лет десяти.
– Они там, в лесу, на старой башне.
– Покажите нам дорогу, – велел Вилли. – Держите.
Он достал из кармана несколько леденцов от астмы и протянул их детишкам. Из деревни они вышли на дорогу, ведущую в Горбио. Перед небольшим кладбищем, возвышавшимся над местностью, Вилли остановился, не скрывая своей заинтересованности: с каждой могилы открывался восхитительный вид на море, небо и холмы, поросшие оливковыми деревьями. Он даже начал раздеваться, ворча, что ему надоело играть Вилли Боше, что эту роль очень трудно выдерживать, и что он собирается лечь здесь. Бебдерну с большим трудом удалось убедить его продолжить борьбу за выживание и победу клоунов, исполняющих свой грустный номер на арене декадентского цирка Запада. Он призвал его не склоняться перед варварскими ордами неприятеля, предложил послушать «Голос Америки» и даже рассказал о последнем императоре из династии Комненов, который умер с мечом в руке, сражаясь под стенами окруженной Византии. Естественно, Вилли был польщен этим сравнением и позволил уговорить себя не подыхать от любви, когда имелось множество других причин отдать Богу душу. Он завернулся – морально – в пурпур, прикончил бутылку шампанского и продолжил борьбу за честь, которая заключалась в отталкивании реального мира силой одного лишь смеха; он даже заявил детям, что помереть от смеха – не такой уж плохой способ помереть, особенно когда тебе грозят атомной бомбой. Таким образом, они продолжили топтаться на арене во фраках с накрахмаленными манишками, противопоставляя их, как провозглашение чувства собственного достоинства, жестокости жизни и смерти. Мальчик и девочка, держась за руки, шагали перед ними.
– Уже пришли! – проворчал Вилли, указывая на них пальцем.
Дети остановились перед тропинкой, которая начиналась на опушке и терялась в лесу из сосен и оливковых деревьев. Вилли и Бебдерн задрали головы и посмотрели на вершины деревьев.
– Это на самом верху, – сказал мальчик. – Нужно перейти ручей.
– Чем там, наверху, можно заниматься? – спросил Вилли.
– Ха, любовью, конечно! – ответил самый юный из Эмберов. – Чем же еще, по-вашему?
– Вы слышали, Бебдерн? – завопил Вилли. – Они развращают даже детей!
– Мне на это наплевать, – заявил Ла Марн, постоянно терзавшийся вопросом, не перерастет ли корейская война в ядерную, которая по самым приблизительным оценкам унесет около семидесяти миллионов жизней. – Этого нельзя допустить ни в коем случае!
– И я придерживаюсь того же мнения! – проворчал Вилли.
– Ядерный конфликт следует предотвратить любой ценой! – бормотал Ла Марн. – Посмотрите на этих детей! Их нужно спасти! И единственный способ сделать это – остановить Сталина. Если бы не было Сталина, коммунизм был бы совершенно другим! Он был бы человеческим, благородным, соблюдал бы права человека! Во всем виноват Сталин!
– Мне нет никакого дела до ваших глупостей! – взорвался Вилли. – Мне нужна моя жена! Далеко еще?
– Нужно только подняться наверх, – пояснил мальчик, – до Со-дю-Берже. Если идти быстро, вы будете там через десять минут.
– Shit, – буркнул Вилли. – В кои-то веки выбираешься на природу, и на тебе – оказываешься на склоне горы!
Сопровождаемые насмешливым взглядом детей, они полезли наверх. В воздухе пахло сосновой смолой, и ее запах вызвал у Вилли сильный приступ чиханья. Свежий воздух и ароматы природы ударили им в голову.
– В этом нет никакой диалектики! – ворчал Бебдерн. – Никакой идеологии! Находясь на природе, я чувствую себя не в своей тарелке!
Он остановился и запел:
– Лю-блю звук рога.
– Заткнись!
– Лю-блю звук рога вечерней порой в глуши лесной! – пел Бебдерн, прижав руку к сердцу. – Полагаю, вы отдаете себе отчет, что в одном этом стихе заключен весь декаданс Запада? Запад заблудился в лесной чаще, вот-вот наступит ночь, а он лишь играет на музыкальном инструменте! Кстати, не помешало бы, чтоб они не прошли!
Последний из Комненов и последний из Раппопортов добрались наконец если не до стен Византии, то до ручья, через который была переброшена кладка, однако кто-то перетащил ее на другую сторону и тем самым прервал сообщение между двумя берегами. Вилли яростно метался у кромки воды.
– Это мое! – ворчал он, стуча себя кулаком в грудь. – Там, наверху, они занимаются моей любовью! Я хочу видеть, на что похоже мое счастье!
– Как можно заниматься любовью на пути ста пятидесяти трех советских танковых дивизий? – осведомился Бебдерн.
– Пятидесяти двух, – поправил его Вилли.
– Как это, пятидесяти двух?
– Они располагают ста пятьюдесятью двумя танковыми дивизиями, – сказал последний из Комненов, – и ни одной сверх того!
– Как так, ни одной сверх того? – с раздражением воскликнул Бебдерн. – А те, что два дня назад были переброшены в Карпаты? А те, что находятся в полной боевой готовности в Польше, Венгрии, Чехословакии? Вы что, не читаете газет? Бьюсь об заклад, что вы даже не слушаете «Голос Америки»!
– Сто пятьдесят две, – упорно стоял на своем Вилли. – Когда, наконец, вы прекратите сеять панику?
– Это лучше, чем обманывать самого себя в атмосфере кажущейся безопасности! – вспылил Бебдерн. – Я вам говорю: сто пятьдесят три дивизии вместе с теми, что стоят в Карпатах!
– Сто пятьдесят две, – мрачно сказал Вилли.
– Сто пятьдесят три!
– Сто пятьдесят две!
Дело чуть не дошло до драки: каждый хотел доказать другому, что знал больше о грозящей им опасности, но, к счастью, Бебдерн вспомнил, что они находились здесь не для того, чтобы противостоять страху, а, напротив, чтобы спастись от него, и что защищаться от мерзких исторических рож реальности они собирались с помощью кремовых тортиков. Он уступил Вилли, бросив дивизию в Карпатах на произвол судьбы: сто пятьдесят две советские дивизии в любой момент были готовы перейти в наступление.
– У меня есть идея, – сказал Вилли. – Нужно, не переходя через ручей, забраться на холм, что напротив. Он выше и с него, может быть, мы что-нибудь увидим.
Измотанные до крайности, они взобрались на вершину холма, который возвышался над ручьем и назывался Со-дю-Берже, но по-прежнему не увидели ничего, кроме деревьев и развалин каменной стены – ни следа любви.
– Я залезу на это дерево, – решил Вилли. – Помогите мне.
– Хорошо, – сказал Бебдерн. – Постарайтесь что-нибудь увидеть. Любовь должна быть где-то на горизонте!
Он опустился на колени под оливковым деревом, и Вилли взобрался ему на спину. «Ну вот, – с мрачным удовлетворением подумал Ла Марн, граф Бебдерн, маркиз Интернациональных бригад, герцог Мюнхенский и герцог пакта Молотова-Риббентропа, шевалье социализма с человеческим лицом, – ну вот, я – во фраке – стою на четвереньках под деревом на вершине холма с принцем Голливудским на спине, вот последняя поза старою борца, от Сталина до Троцкого и Ги Молле, вот к чему приводит жизнь человека с левыми взглядами». Им пришлось сделать три попытки, прежде чем Вилли удалось наконец уцепиться за ветки и взобраться на дерево, и все это время Ла Марн отчетливо слышал в ушах смех Сталина. Пока Вилли тщетно высматривал признаки любви на горизонте, Бебдерн взволнованно следил за ним с земли.
– Вы что-нибудь видите? – тоскливо бормотал Бебдерн. Он начинал трезветь, а этот момент одинаково мучителен для всех.
Вилли продолжал карабкаться наверх по старым сучьям, а Бебдерн снизу подбадривал его, декламируя сонеты Петрарки и рубайи Омара Хайяма. Задрав голову, Вилли заметил то, что принял сначала за птичье пугало. Но, присмотревшись, он сообразил, что это человек, комфортно устроившийся на дереве. Он держал у глаз бинокль и, казалось, с головой ушел в созерцание чего-то неведомого, находящегося на линии горизонта.
– Что вы там делаете? – заорал Вилли. – Это мое!
Субъект с биноклем не удостоил его ни малейшим вниманием и даже не шелохнулся. Вилли совершил прыжок в стиле Тарзана, схватил наблюдателя за ноги, но потерял равновесие и вместе с ним под треск ломающихся веток свалился на заоравшего Бебдерна. Поднявшись на ноги, они рассмотрели типа, стоявшего рядом с ними. Он выглядел весьма элегантно: падение, казалось, на нем никак не отразилось. Барон, похоже, принадлежал к редкой категории привилегированных лиц из высшего общества, которые сохраняют безупречный вид при любых обстоятельствах: будь то крестовые походы, голод, массовые убийства, идеологический триумф на горах трупов, строительство бесклассовою общества, защита истинной веры или право руководить народами во имя права народов самим решать свою судьбу. Одним словом, было видно, что он привык к падениям. Он лишь поправил белую гвоздику в петлице. Падая, барон даже не выпустил из рук бинокля; что бы ни случилось, он, вне всякого сомнения, собирался и дальше продолжать созерцание горизонта в поисках неведомого.
– Ну и ну, это же человек, интересующийся Хольдерлином! – с симпатией воскликнул Ла Марн. – Что вы делали на верхушке дерева? Жажда Любви?
– Как это, что он делал?! – возмутился Вилли. – Он подсматривал, вот что! Ну сейчас я ему задам.
Внезапно он замолчал. С того места, где они находились, были видны Итальянский мыс, залив Мантон и залитые светом долины; между соснами и оливковыми деревьями вилась дорога на Горбио, и Вилли заметил пару, далекую и недоступную, которая направлялась в сторону деревни, шагая по другой земле, где жизнь сверкала всеми гранями счастья. Мужчина и женщина шли по тропинке, прижавшись друг к другу, и, казалось, будто они идут одновременно по морю и небу. Энн была в белой блузке, ее волосы, развевавшиеся на ветру, напоминали след корабля, плывущего по спокойному морю, а над ней мистраль неторопливо погонял стада белых облаков.
Все трое проводили пару взглядами, причем барон – не отрывая бинокля от глаз. Трое зрелых мужчин наконец-то поняли: вот он, момент истины. Потом Бебдерн прикрыл ладонью глаза, а барон чуть вздернул подбородок, повернулся спиной к небу и земле, словно они вдруг потеряли свое значение, и, не сказав ни слова, удалился, слегка покачиваясь на негнущихся ногах. Что касается Вилли, то у него, естественно, тут же начался приступ астмы. Они с трудом дотащились до деревни. Бебдерн усадил Вилли в украшенную цветами машину, сел за руль и увез побежденного с арены.
XXI
Пополудни они отправились по дороге на Горбио – тропинке, протоптанной мулами высоко над морем, по самому верху долины Мантон, позади маленькою белою кладбища с могилой одного из великих русских князей, чуть выходившей за его пределы. Потом они взобрались на вершину холма к руинам сторожевой башни и, расположившись на принесенном с собой пледе, оставались там до тех пор, пока не скрылось солнце и пока у них не иссякли силы. Пока они лежали, никто не мог их увидеть, однако стоило им встать, как они становились хорошо заметными на фоне неба, но это уже не имело никакого значения. Чтобы добраться до них, нужно было перейти ручей по переброшенной через него доске, но Рэнье убрал ее, и они стали недостижимыми для посторонних, насколько вообще можно быть таковыми. О каждом пройденном часе им сообщал бой церковных часов. Сначала Рэнье хотел договориться с кюре, который был добрым христианином и врагом мучений, чтобы тот на недельку остановил часы, а жителям деревни сказал, что они сломались. «Я уверен, что кюре сделает это, – думал Рэнье. – Он славный малый, к тому же с юга, с присущими всем южанам запахом чеснока и акцентом. Кюре для живых людей. Завтра утром я переговорю с ним». Но он не сделал этого, он ограничился тем, что каждый раз при бое часов искал своими губами губы Энн. В конце концов он убедил себя, что часы били исключительно с этой целью, и что церковь и кюре существовали здесь только для этого.
– Поцелуй меня.
Он поцеловал ее. Но этот поцелуй был не самым лучшим.
– Этот поцелуй был не самым лучшим, – заметила она.
– Это потому, что у нас уже все было.
– Жак. – Да.
– Когда ты уехал в первый раз?
– Испания.
Он встал, чтобы напиться, и поднял кувшин с земли, думая об Испании и ее голых крутых холмах, так не похожих на эти, застывших, словно стада буйволов, под несущимися галопом облаками. Рэнье вспомнил о холме Толедо: когда он увидел его впервые, тот поведал ему не столько о товарищах, павших у стен Альказара, сколько об Эль Греко, который должен был писать его для своего «Распятия в Толедо» почти с того же самого места, и тогда он подумал – еще пятнадцать лет тому назад! – что скоро не будет диктатора, не будет Франко, Гитлера, Сталина, и что города будут брать лишь с одной целью: насладиться их красотой или запечатлеть на полотне. Но он тоже был ранен под Альказаром. Рэнье поднял кувшин и подставил рот под струю ледяной воды, вонзившейся в него подобно клинку. Он с яростью подумал, что пришло время перестать смешивать красоту городов с красотой борьбы – лучше умирать на глазах Эль Греко и Гойи, чем офицера генштаба.
– Мой отец ушел раньше – в 1914 году – и не вернулся. В 1940-м мать говорила: скоро Франция станет историей без французов, останутся одни виноградники и больше ничего.
– Он был похож на тебя? Внешне, я имею в виду.
– Я плохо его знал. Он был идеалистом, человеком гуманным, вдохновенным, но без четко определенных взглядов. Раньше такими были первые социалисты, сегодня – последние аристократы.
Он снова лег рядом с ней, запустил пальцы в ее густую шевелюру, и она впервые заметила на его запястье солдатский браслет с выбитым на нем личным номером. Он напоминал половину наручников: вторая половина, как символ братства, должна была находиться на руке борца за дело коммунизма. Два Прометея, скованные одной цепью и тем самым обреченные сражаться друг с другом.
– Жак. – Да.
– У тебя есть фотография, когда ты был маленьким?
– Нет.
– Жаль.
– Почему?
– Так… Матери недальновидны. Они никогда не думают…
Энн хотела скачать «они никогда не думают о других матерях», но осеклась. Он бы не понял. И, к тому же, она не была уверена. В эти дни месяца у нее было больше всего шансов забеременеть: снова приходилось рассчитывать на удачу. Иногда она рассматривала его лицо, чтобы выявить будущее сходство. Ею двигало не только желание родить от него ребенка, но и не в меньшей степени – нежелание навредить себе. Отныне только ребенок мог удержать ее от необдуманных действий.
– Пододвинься ближе. Да, можно еще.
– Так?
– Так.
Высоко в горах слышались колокольчики овец, а снизу, из долины, доносился детский смех; ветер, качалось, выбирал из всех шумов те, которые легче всего было нести с собой.
– Жак. – Да.
– Расскажи немного о себе. Ведь я тебя не знаю. Я ничего о тебе не знаю.
– Да нет же, кое-что знаешь.
– Может быть, в общих чертах. По верхам. А я хочу знать мелочи. Те, что имеют значение. Расскажи. У нас даже не было времени поговорить.
– Расскажи ты.
– Ну ладно… Сначала я вышла замуж.
– Это в общих чертах. Я хотел бы знать мелочи. Те, что имеют значение.
Она тряхнула головой и уткнулась носом ему в грудь. Рэнье взял ее лицо в ладони и поцелован в губы долгим поцелуем, как мужчина, отдающий все лучшее, что есть в нем самом.
– Вот видишь, – скачал он. – Вообще-то я думаю, что пора покончить со словами, как со средством выражения, и вернуться к поцелуям. Они говорят все. Они не умеют лгать. И даже когда пытаются обмануть, ложь сразу всплывает на поверхность, потому что язык сам спотыкается на ней.
– Мне следовало бы опасаться тебя, – скачала Энн. – Люди, которые красиво говорят, похожи на профессиональных танцоров. Те прекрасно вальсируют с любым партнером.
Рэнье нежно ласкал ее грудь, вкладывая в прикосновение всю нежность, на которую способна мужская рука. Его губы снова отправились в медленное странствие, которое прервал, вызывая ощущение полета, этот крик, даровавший ему жизнь и возвращавший все то, что он потерял, пропустил и испортил в своей жизни.
– Крик муэдзина, – пробормотал он.
– Помолчи.
– Но крик муэдзина вызывает ассоциации лишь с пальмой, минаретом, фонтаном и пустыней. Тогда как ты.
– Помолчи.
– … Твой крик дает все то, что было пропущено в жизни. Моя мать умерла в сорок третьем, не зная, что Франция стала свободной и что я остался в живых. Но теперь она это знает. Она услышала.
– Это не кощунство?
– Нет. Потому что я не способен на такое кощунство.
Шелестели листвой оливковые деревья, небо в белой пыли быстро неслось в вышине, и солнце нещадно слепило глаза. Сюда никто не добирался, кроме рыбацких лодок с рыбаками, которые, качалось, парили над долинами Мантона и мысом, над оливковыми деревьями и плантациями степных гвоздик. Энн и Рэнье приходили сюда каждый день, но однажды, подойдя к ручью, они увидели, что кладка убрана, а на другой стороне в зарослях кустарника их поджидали двое ребятишек, которым на пару было не больше двенадцати лет. Дети сердито смотрели на пришельцев. У мальчика на голове была бумажная треуголка типа наполеоновской, а девчушка стояла рядом, держась за его рукав. Они убрали доску – перейти на другую сторону было невозможно. Рэнье попытался вступить в переговоры.
– Это наше место, – заявила малышка. – А мост построил Пауло, – добавила она, показав на доску. – Мы были здесь раньше вас. Правда, Пауло?
Мальчик не произнес ни слова, лишь надул губы, выставил вперед босую ногу и, шевеля пальцами, с вызовом уставился на незваных гостей.
Рэнье настаивал, чтобы их пропустили, но Энн потянула его за рукав, и, развернувшись, они начали спускаться к дороге на Горбио. В этот момент девочка окликнула их. Они остановились. На другой стороне ручья шло долгое шушуканье: мальчик, по всей видимости, не соглашался со своей подружкой, но было ясно, что, несмотря на треуголку и сердитый вид, главным в их команде был не он.
– Что вы нам дадите, если мы вас пропустим?
Сошлись на том, что за пятьдесят франков мост будет опускаться каждый день после полудня. И каждый раз, когда они приходили, дети были на месте. Мальчик опускал мост и по-военному отдавал честь, пока они переходили на другую сторону. А потом дети стремглав мчались в деревню за мороженым.
Естественно, это были маленькие Эмберы.