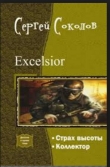Текст книги "Грустные клоуны"
Автор книги: Гари Ромен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
– В чем дело, ведь я в трусах, – сердито проворчал Вилли.
Он вернулся в свой номер. Бебдерн спал, навалившись грудью на стол и спрятав лицо в ладонях. Вилли включил радио – передавали новости с театров военных действий в Индокитае и Корее. Он выключил приемник и проскользнул в спальню. Девочки спали. Разбросав руки, Айрис лежала среди своих черных волос, разметавшихся по подушке. Вилли в нерешительности остановился, но сейчас на него никто не смотрел. Он взял ее за руку, приник губами к ладони, потом прижал ее к своей щеке. «Энн, – думал он, – Энн…» Он заснул почти мгновенно, и ему снилось, что он парит в небесах.
XVIII
Одеваясь, она напоминала маленького прилежного ребенка, и когда застывала, задумавшись над натянутым чулком, или же, заведя руки за спину, сражалась с застежкой бюстгальтера, или натягивала на бедра колготки, то делала все это основательно и добросовестно, как учила когда-то мама. Он пытался одновременно видеть ее ноги и лицо, лодыжки и плечи, грудь и колени. И он им улыбался, он улыбался ее рукам, шее и пышной шевелюре в то время, как она расхаживала по красным плиткам пола, оставляя влажные следы. Она продолжила одеваться, но выдержать это было выше его сил, он поднялся, и она позволила себя раздеть.
Жак.
Не зови меня. Не называй моего имени. А то подумают, что нас двое.
Жак, неужели ты уедешь, несмотря ни на что?
Нет, дорогая. Я никуда не еду, все кончено. Я остаюсь здесь, чтобы жить, укрывшись под крылом своего счастья. Я сменю имя, выберу себе другое – имя для мира, имя для жизни, псевдоним для любви, и отныне это будет единственное имя, на которое я буду отзываться, и которое будем знать только мы двое. Если же я замечу, что мне хоть чуть-чуть начинает изменять чувство меры, я, быть может, расскажу тебе, каково это было – на протяжении стольких лет не знать о твоем существовании, напрасно ждать тебя, объяснять, например, как твое отсутствие отравляло мессу Баха и лишало ее всякого смысла. В отсутствие любви мир превращается в отражение кривых зеркал: в музеях любой шедевр выглядит жалкой подделкой. Когда я в одиночку путешествовал по Италии, то столкнулся с хорошо известным явлением: Италия исчезла, и под лучами знойного тосканского солнца я перестал видеть равнину с десятью тысячами оливковых деревьев, я видел лишь десять тысяч следов одиночества…
Их взгляды встретились, и, увидев в его глазах немой и страстный призыв, она подошла и склонилась над ним, чтобы лучше слышать то, что он говорил.
– Я верю тебе, – серьезно произнесла она.
– Достаточно быть любимым, и тогда ты сложишь к ногам любящего тебя человека все победы, остававшиеся ранее недостижимыми, и завершишь труд, над которым безуспешно бился всю жизнь.
Он даже не знал, до какой степени был смешным.
Энн вздохнула, но она не сердилась на него, ей тоже нравилась эта несбыточная, беспредельная мечта, которую он дарил ей с каждым объятием: теперь она могла держать в руках то, чем никак не удавалось завладеть ему самому. На склонах горы он видел разбросанные там и сям, подобно остаткам еды на праздничном столе, розовые, красные и белые домики, и он закрыл глаза, чтобы осталась только она одна. Она что-то сказала, но он не расслышал, что именно, пробормотал «я тебя люблю» и заснул. Потом он проснулся, и они лежали бок о бок, стараясь не шевелиться, но домики на склонах гор отступали все дальше и дальше, окутанные серо-фиолетовой дымкой, и он вспомнил Бо в вечернюю пору, когда солнце клонится к горизонту и длинные тени хватают все подряд своими жадными лапами, и когда Франция становится похожа на руку, которую держишь в своей руке и не хочешь отпускать.
– Я хочу есть, – сказала Энн.
Она встала, натянула джинсы и свитер, который он дал ей, и он рассмеялся, видя, как его белый пилотский свитер времен битвы за Англию украсился двумя маленькими острыми грудками. Они сели за стол и принялись за колбасу, козий сыр и салат из помидор. Они не знали, утро сейчас или вечер, первый день или последний. Приоткрывая дверь, они находили на пороге пакет с провизией, но домработницы, предупрежденной соседями, не видели никогда. На полу лежали газеты, которые она подсовывала под дверь, и он пытался отправить их в мусорную корзину, не читая, но заголовки сами бросались в глаза:
«Вмешается ли советская авиация?»
«Опасность третьей мировой войны».
«После блокады Берлина Сталин наносит новый удар».
«Корея: коммунистический натиск усиливается».
«СССР обвиняет Соединенные Штаты в ведении бактериологической войны в Китае и Корее».
«Проголосует ли американский Конгресс за применение ядерного оружия в Корее».
Но реально продолжалось только осадное положение, и он выталкивал мир за порог, захлопывал дверь и возвращался к Энн, туда, где всего хватало. Все остальное было лишь мечтой о власти политических импотентов, вооруженных идеологическими фаллосами. Все остальное – обман. Можно вступить в союз с могучими космическими силами в надежде на жалкое штабное ликование, можно стереть с лица Земли целый континент, треть народа утопить в идеологическом болоте, треть ввергнуть в рабство, треть – в слабоумие, и именно бессилие злобствует в приступах острой эмоциональной недостаточности.
– Я куплю словарь арго, чтобы крепче держаться за землю, чтобы не взлететь… Ты знаешь, чтобы остаться на земле, нужно трижды произнести «проклятое дерьмо», как трижды произносят «Отче наш», чтобы вознестись на небеса…
Она изучала его лицо, с которого, пока он говорил, не сходила улыбка. Он не походил сам на себя. В нем не было ничего от экстремиста в душе, от фанатика. Тонкие черты лица светились добротой и чувством юмора, а лоб под светлыми, чуть тронутыми сединой вьющимися волосами, не омрачали признаки внутренней смуты.
– С тобой трудно понять, когда ты шутишь, а когда говоришь всерьез.
– Энн, шутка зачастую является испытанием, которому верующий подвергает свою веру, чтобы она стала крепче, уверенней в себе, чище.
– Должно быть, до конца я тебя так никогда и не узнаю, – сказала она. – Тем лучше. Значит, я буду всегда любить тебя впервые. Я никогда не смогу узнать тебя лучше. Ты навсегда останешься для меня все таким же, как в первый раз.
Он закрыл глаза, чтобы лучше чувствовать ее губы на своих губах, чтобы чувствовать только сладость жизни со вкусом женщины. Мистраль обвевал их, неся с собой аромат мимоз; забылись все неприятности и тревоги того времени, когда тебя не было рядом, милая, и когда я напрасно искал тебя, придумывая другие причины для того, чтобы жить. Мои губы исчезли, растворенные в поцелуях и унесенные ими. Они еще прикасаются к твоей шее, уху, и кто-то вздыхает, не знаю, ты это или я, и этот кто-то – другой, не знаю только, кто из нас двоих. Мы так слились, что я чувствую себя почти одиноким, и даже когда ты шевелишься, я ощущаю не тебя, а то место, где ты заканчиваешься. Моя рука еще лежит на твоей груди, но это не что иное, как забвение. Наши рты еще слиты воедино, но им уже нужны не поцелуи, а воздух. Его несет ночь, напоенная запахами моря, и я жадно пью его, и все же ему не сравниться с тобой. Но я не хочу останавливаться, не хочу отступать. Я не желаю склоняться перед жалкими границами, воздвигнутыми законами рода, нервами, сердцем, дыханием, почками. Людям не хватает гениальности. Данте, Петрарка, Микеланджело. Осколки мечты! Так что же такое гениальность, если никто не может реализовать ее в крике любимой женщины?
Лицо Ла Марна осунулось, под глазами появились большие мешки, нос стал еще длиннее и печальнее, чем обычно, плечи были усыпаны разноцветными кружочками конфетти. Надвинув на глаза шляпу, чтобы прикрыть глаза от солнца, он с накладным носом в руке лежал на диване в стиле Людовика XV и имел помятый, слегка призрачный вид гуляки, кутившего всю ночь напролет. Гарантье слушал его и одновременно завтракал, сидя у открытого окна.
– Вам нечего бояться, старина, – с оттенком злобы говорил Ла Марн. – Он уедет. Насколько я знаю, он влюбился впервые и потому найдет причину, чтобы оставить ее. Как только человек целиком и полностью оказывается во власти любви, в нем, на мой взгляд, начинает расти ненависть ко всем другим проявлениям тоталитарности. Если ему сказать, что он стал пленником коммунизма, он просто пожмет плечами. Помимо СССР и Китая, сегодня в мире существует своеобразный нематериальный Гулаг, в котором марксизм держит в плену своих врагов «анти» – инакомыслящих. Я считаю, что антикоммунисты являются самыми верными спутниками марксизма-ленинизма. Он принадлежит к числу тех людей, которые хотят наказать идеи, когда они начинают плохо себя вести.
– Что у него за плечами?
– Народный фронт. Леон Блюм, интернациональные бригады, антифашизм в мировом объеме. Свободная Франция. Сопротивление. Эмоциональная пустыня всегда порождает самые прекрасные идеологические оазисы. Тридцать миллионов трупов.
Ла Марн вздохнул. Он взял с тарелки тост, раскрошил его и бросил чайкам. Остатки крошек он отправил в рот.
– Банда негодяев, – мрачно произнес он, и было непонятно, кого он имел в виду, вполне вероятно, это замечание носило общий характер.
– В конце концов, что вы хотите. Вне всяких сомнений, он оставит ее, я не переживу большой любви, вот и все. Полагаю, вы уже поняли, что я живу чужим счастьем.
– Зачастую это врожденное свойство, – заметил Гарантье, – и оно легко диагностируется. Обычно его называют потребностью в братстве.
– Да, это банальная форма эмоционального паразитизма, – подтвердил Ла Марн. – Таким образом, весьма вероятно, что вместо тою, чтобы жить большой любовью – их любовью – и иметь детей – их детей, – вечный слуга Сганарель вновь последует за своим хозяином Дон Жуаном к новым победам над невозможным, в погоню за абсолютом. Он часто цитировал мне Камю: «Я против всех тех, кто считает себя абсолютно правым». Но поскольку он тоже настроен абсолютнопротив них, возникает слишком много абсолюта и полей сражений. Вы же прекрасно понимаете: если мы прикончим Сталина, от этого ничего не изменится, и миллионы людей будут по-прежнему платить своими жизнями за невозможное.
– Тем не менее вы, должно быть, часто с ним об этом говорили?
– Часто. Я напомнил ему, что каждому человеку отведено свое время. На его долю пришлись антифашизм, война в Испании, Сопротивление. Слишком много для одного человека. Пусть что-нибудь останется и другим, жаждущим пожертвовать своей шкурой. Но тут ничего не поделаешь. В ответ слышишь всю ту же фразу Камю: «Я против всех тех, кто считает себя абсолютно правым». Но тогда ему следовало бы быть немного против самого себя.
Ла Марн пожал плечами.
– Словом, никто не знает, чем все кончится. Может быть, ваша очаровательная дочь заставит его отступиться от Сталина.
– Вы считаете, что это возможно?
– Не знаю. Лично у меня никогда не было большой любви. Но фашизм и марксизм – ленинизм всегда ошибались, когда делали на это слишком большие ставки. На падение нравов, я имею в виду.
Ла Марн вздохнул. Чайки в ожидании крошек носились над балконом и качались самим воплощением беспокойства и тревоги.
– Да, Любовь и Запад, – пробормотал Гарантье. – Но еще нужно принять в расчет пьянство в СССР. Куда ни кинь, везде клин. Есть еще одна вещь, о которой я хотел бы с вами поговорить. Насколько я понял, у моей дочери был телохранитель… Признаюсь, я испытываю некоторое беспокойство. Одному Богу известно, какие инструкции он мог получить от Вилли.
– Я никого не видел, – сказал Ла Марн. – Я несколько часов простоял у них под окном со шляпой в руке в надежде, что мне перепадут какие-нибудь крохи… Я никого не видел.
Он поднялся.
– Ну ладно, я пойду к Вилли. Нужно воспользоваться карнавалом.
Он нацепил накладной нос.
– Я снова стану Бебдерном. Нет ничего более взбадривающего, чем небольшая пауза в вопиющей непрерывности самого себя.
– Бедный Вилли.
– Фу! Такой же клоун, как вы и я.
– Во всяком случае, не слишком обнадеживайте его. Он сердечник.
– Положитесь на меня. У меня нет никаких причин желать его смерти. К тому же, счастливый Вилли – это было бы совсем не смешно.
Гарантье бросал чайкам крошки. На его бледном и спокойном лице даже морщины выглядели хорошо продуманными и расположенными в нужных местах с деликатностью Клее. Его чувствительность воспринималась только на расстоянии. Жизнь обретала форму изысканного политеса, учтивости, которая распространялась абсолютно на все, грубость отступала на всех фронтах: в общем и целом – это Запад. Цивилизация, подвешенная над собственной пустотой, как улыбка Чеширскою Кота.
Гарантье намазывал тост маслом.
– Что касается вашего друга… Марксизм совершил ошибку, придав персонажам Лабиша [6]6
Эжен Лабиш (1815–1888) – французский драматург, автор комедий нравов и водевилей.
[Закрыть]трагические черты. Тем самым он вырвал их из среды водевиля. Они продолжают терять штаны в присутствии публики, но это ее уже не смешит. Марксизм-ленинизм превратил простых буржуазных рогоносцев в сознательных героев, восставших против своей судьбы. Он харкнул трагедией в душу общества, которое должно было закончить свое существование, погрязнув в пошлятине. Я твердо убежден, что марксизм, отравляя все свои источники наслаждения, был заинтересован в их спасении. И если Ленин не смог спасти царское общество, то только потому, что все произошло слишком быстро – ему не хватило времени.
Ла Марн хорошо понимал природу этого равнодушия: в его основе лежал неприрученный страх.
– И как это вы еще не курите опиум, друг мой? – спросил он. – Берегитесь. Чересчур изысканный и тонкий вкус ведет прямо к рубленому бифштексу с горчичным соусом. Именно этим и объясняется объединение нашей элиты с фашизмом и сталинизмом.
Он вышел из отеля, пересек бульвар и купил свежие газеты. Американская авиация находилась в состоянии повышенной боеготовности, а в Корее волны китайских «добровольцев» обрушивались на отступающие подразделения войск ООН. Мир разъедала язва реальности.
Шереметьев написал, что «отсутствие любви могло стать Богом», а Горький – что «любовь – это непостижимость человека с позиций законов природы». Есть от чего свихнуться.
Он сел на скамейку и со стыдом посмотрел на море и небо. Было бы неплохо, если бы каждый год весь мир праздновал день, когда человек просит прощения у природы.
XIX
Он закрыл дом на ключ, и они спустились на двадцать ступеней по улице Пи, прошли мимо фонтана, который пытался скрыть свой легкомысленный вид под достоинством высеченных на нем римских цифр, поднялись по переулку-лестнице, при каждом повороте делавшей им свой каменный реверанс и ступени которой приподнимались, как складки тяжелой драпировки. В нишах над дверями стояли мадонны. Оборачиваясь, Энн видела неотступно следовавший за ними синий взгляд моря, а над ступеньками террас, над виноградниками и апельсиновыми деревьями возвышался замок, которому решительно не хватало величия и который своим видом напоминал не о десяти веках истории, а о десяти веках солнца и лазури.
– Это Гримальди, – сказал Рэнье. – Все замки в этом районе называются Гримальди, а все жители откликаются на имя Эмбер. Так удобнее для иностранцев.
Они проходили мимо булочной. Над входом в магазинчик висел деревянный ангел, похожий на ученика балетной школы. Булочник в белой майке, оставлявшей открытыми руки, курил сигарету.
– Привет, Эмбер.
– Привет.
Сложив руки под передником, булочник посасывал свой окурок и с видом знатока хорошего хлеба разглядывал Энн.
– Похоже, что вы нас скоро покидаете?
– Нет, я остаюсь здесь.
– Война закончилась?
– Нет, но одну я пропускаю. Что касается следующих, то там будет видно. Есть, знаете ли, то, что называют пенсией по старости.
– В Индокитай уезжает мой племянник, Пьеро Эмбер.
– Такова жизнь.
– Это не жизнь, – ответил булочник.
Он не сказал, что это, но посмотрел на Рэнье прищуренными глазами, иронично пожевал окурок, и тем самым все было сказано. Он казался раздосадованным, как любой житель Средиземноморья, который всегда испытывает некую неловкость, плохо отзываясь о жизни, чтобы оправдать собственную глупость. Он выбросил окурок и подчеркнуто демонстративно скрылся за дверью булочной. Рэнье почувствовал, что тем самым булочник не просто возвращался к своей печи, а в первую очередь выражал решительное нежелание отправляться в Корею, Индокитай или еще куда-нибудь, поскольку Франция была здесь и только здесь.
– Кажется, он не разделяет твою точку зрения, – заметила Энн.
– Люди в этих краях терпеть не могут всякой «борьбы». На нашем монументе павшим уже и так слишком много Эмберов. И потом, здесь у них достаточно хороших конкретных дел, чтобы ни с того ни с сего бросать их и отправляться защищать «идеи» на другом конце света, где ничего не растет.
Они попали в узкий церковный дворик, образованный четырьмя стенами, расположенными так близко друг к другу, что пространство между ними обретало уют жилой комнаты. Слева от паперти перед мозаичной плитой с именами погибших солдат стояли лампада и увядший букет цветов. Вырезанные в камне строки плотно теснились одна к другой, будто освобождали место на будущее. Церковь была вся розовая и выглядела как театральная декорация.
Выросшая вместе с апельсиновыми деревьями и мимозами, она казалась гораздо ближе к Средиземноморью, чем небо. Она так долго простояла среди виноградников, что сама стала ярким земным фруктом, и Энн невольно подумала о миссионерах, которые проводят жизнь среди китайцев и в конце концов обретают такие же раскосые глаза. Рэнье обнял Энн за талию, и они, не чувствуя неловкости, ступили под гулкие своды. Эта церковь все понимала, и любовь не могла быть ей чуждой. Они шагали по каменным плитам среди позолоченных ангелов, святых, свеч и тонких колонн из фальшивого мрамора, но все это не вызывало чувства безвкусицы благодаря царившей под сводами атмосфере счастья. Они подошли к алтарю и замерли. Рэнье ощущал на своих губах волосы Энн, ее шею и веки, и в таком поведении перед алтарем не было ничего предосудительного. Из ризницы бесшумно вышла седая старуха в черном платье, но ее морщинистое лицо светилось таким весельем, которое, безусловно, никогда не посещает ханжей. Под мышкой она несла бельевую корзину со свежесрезанными ветками мимозы. Старуха лукаво посмотрела на пару и, будучи знакомой с Рэнье и зная, что он безбожник, заулыбалась и с нескрываемым удовольствием нарушила ту благоговейность, на которую они не имели права.
– Что, месье Рэнье, гуляем? – намеренно громко крикнула она, тем самым давая понять, что больше не считает себя находящейся в церкви.
Кроме того, она хотела ободрить их, вывести из замешательства и показать этим двоим, что недостаточно войти в церковь, чтобы быть в ней. И пока она по-хозяйски расхаживала перед алтарем, расставляя цветы у ног Спасителя с непринужденностью старой служанки, ставшей почти членом семьи, она шутила с влюбленными, потом достала из корзины несколько веточек мимозы и протянула их Рэнье.
– Для вашей дамы.
– Спасибо, мадам Эмбер.
– Они прекрасны, – сказала Энн. – Но вы уверены, что.
Старуха искоса посматривала на нее, не скрывая своего удовлетворения ее смущением и замешательством и с удовольствием принимая эту дань застенчивости.
– Берите, берите, у вас дома они тоже будут хорошо смотреться.
– Как поживает месье кюре?
– Не решаюсь сказать. Он носится по округе на мотоцикле, а когда повсюду так много машин, я предпочитаю не говорить, поживает он хорошо или плохо. К тому же, он не умеет ездить медленно.
Старуха снова повернулась к ним и засмеялась.
– Вам следовало бы выйти в сад, – крикнула она. – Там вам будет лучше. Оттуда открывается красивый вид, и там растут апельсиновые деревья.
Это было Сказано без тени иронии, просто нужно было, чтобы каждая вещь знала свое место.
– Можно?
– Конечно. Кстати, сад – это собственность коммуны.
Они прошли через ризницу и попали на террасу. Сад был совсем крошечным, он примыкал к стене церкви и казался ее цветущей ветвью. Эта горстка земли бросала вызов горизонту и смеялась над ним. Сюда доносился перестук копыт мулов, отсюда виднелись море и горизонт, раскинувший свои длинные руки, и гора, которая закрывала почти все небо, оставляя лишь маленький голубой клочок, напоминавший кончик уха. Воздух был пропитан свежестью моря и ароматом мимоз, но с тех пор, как Рэнье обосновался в деревне, он настолько привык к нему, что уже не ощущал его вкуса. Но сейчас он чувствовал его в полной мере: присутствие Энн, ее рука в его руке срывали с мира покров обыденности. Снова все было впервые: все то, к чему привык его взгляд, все то, что уже давно не вызывало никаких эмоций. Любовь к женщине превратила старую семейную жизнь, которую вели его глаза с землей, в новую и молодую связь. Неожиданно ему вновь открылось значение многих поблекших и наполовину стертых привычкой знаков: знака птиц и знака цветов, знака дерева и знака фруктов. Вероятно, обыденность – не что иное, как отсутствие любви. Лопата, кирка и тачка, оставленные под пальмой, словно бы ощущали присутствие Энн и подавали им знаки дружбы, и если даже в этот момент он чувствовал, как в нем растет желание бороться против любых проявлений тоталитаризма, отводящего человеку роль ничего не значащего винтика, то это происходило так, как если бы ему нашептывали слова любви. Праведные небеса, южные небеса, славные небеса Франции, пора покончить с пристрастием к вечным истинам и к окончательным победам, пора научиться воспринимать то, что длится краткое мгновение, и больше не отправляться в погоню за абсолютом во имя зыбких идеалов. Пора освободиться от других, пора перестать превращать свою радость в угрызение совести, а счастье – в чувство виновности. Цивилизация, достойная человека, всегда будет чувствовать свою вину по отношению к нему, и узнать ее можно именно по этому признаку. Праведные небеса, добрые небеса, милые небеса Франции, небеса Монтеня и белого хлеба, разве больше нельзя быть счастливым в своем краю и не вдыхать заразу, которую несет с собой ветер чужбины и примешивает к радости, которой мы дышим? Но разве можно перестать защищать свое право жить не по чужой указке и свободно изъявлять свою волю, как эти французские деревни, которые постепенно возникают там, где это приятно глазу?
Появился садовник в высокой провинциальной соломенной шляпе. Он поднял тачку и укатил ее, даже не взглянув на целующуюся пару, словно она была неотъемлемой частью давно знакомого ему пейзажа.
– Пойдем домой. Здесь слишком много народа…
Они прошли через церковь, которая при спрятавшемся солнце выглядела еще более одинокой.
Две монахини в больших белых головных уборах стояли, преклонив колена, перед алтарем и сосредоточенно перебирали четки, не замечая ничего вокруг. На сей раз влюбленным и вправду показалось, что они не существуют, и что на земле есть только одна любовь, но не их.
Тишина провела их до порога церкви и осталась с ними.
Рэнье шел быстрым шагом, чтобы поскорее оказаться в месте, которое можно заполнить вдвоем, в уголке, соизмеримом с масштабом человека, без потустороннего мира, без раскинутых рук горизонта, в месте, которого вполне достаточно для двоих. Они поднялись по ступенькам и закрыли за собой дверь на ключ, хотя нет такого потустороннего мира, который мог бы остаться за порогом запертой двери. Рэнье подошел к открытому окну: горизонт был на месте и, конечно, все так же раскидывал руки, готовый заключить вас в свои объятия. Он закрыл ставни и задернул шторы. Энн пошла на кухню за корзиной с провизией и, на мгновение остановившись у окна, посмотрела на гору, напоминавшую буйвола, опустившего голову к морю, чтобы утолить жажду, и на последних ласточек, носившихся над вершинами сосен, силуэты которых ощетинились иголками, словно спины диких зверей вздыбленной шерстью. Она родит от него сына и, быть может, когда ему исполнится двадцать лет, возможное и невозможное закончат свои смертельные схватки, и тогда она сможет его сохранить, как не смогла сохранить отца. Он был человеком, который превращал все, что любил, в повод бросить его, который жил не во имя того, что любил, а ради того, что ненавидел. Она рассмеялась. Это довольно смешно, когда твоим соперником является человечество. Она вернулась в комнату и стала наблюдать за Рэнье: улыбающийся, узкобедрый, он расхаживал в сандалиях по красным плиткам пола, накрывал на стол и орал в руки еще горячий хлеб, чтобы насладиться его воздушностью и услышать хруст румяной корочки.
– Ну вот. Все готово.
Он налил вина, и они сели за стол. «Дверь заперта, стены толстые, я никуда не еду, я остаюсь здесь. Она родит мне сына, и я научу его любить этот край, чтобы он отсюда не уезжал, и куплю ему виноградник, чтобы он знал: здесь есть то, что принадлежит ему».