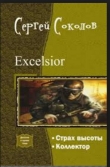Текст книги "Грустные клоуны"
Автор книги: Гари Ромен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
III
Шествие запаздывало. Мимо прошли несколько человек в карнавальных костюмах: неизбежные арлекины, порядком надоевшие шарло и пьеро и даже смеющийся Сталин в обнимку с усыпанным звездами Дядей Сэмом. Но рассчитывать на то, что карнавал в Ницце развеселит душу, было бы большим заблуждением.
Прилипнув к окнам, посетители «Pedro's» ожидали появления карнавальных колесниц. Громкоговорители изрыгали официальную музыкальную тему карнавала: «Да, да, будет красиво, будет хорошо, будет горячо, все будет розовым, все будет голубым!», и Рэнье вспомнил другой припев, который не сходил с уст его пулеметчика Деспьё, погибшего в Нормандии во время боевого вылета в районе Сент-Мер-Эглиз: «Я верю, что после войны СССР устремится в своем развитии к социализму с человеческим лицом, что Соединенные Штаты пойдут к нему же путем обратной эволюции, и на месте встречи возникнет самая прекрасная цивилизация в истории человечества».
– Педро, повтори, – Рэнье поставил на стойку пустой стакан.
– А мне вишневой водки, – сказал Ла Марн.
Деспьё дешево отделался: его убили в 1944-м, когда он парил в небе надежды. Потом с раздела Берлина началась холодная война и Сталин попытался схватить американцев за яйца, а вторжение в Корею, где войска Объединенных наций пытались остановить убийцу, усевшегося на трон Ивана Грозного, стало ее продолжением.
Рэнье с большим трудом удалось записаться добровольцем: у него не было руки. Но присутствие ветерана испанской войны, бойца Сопротивления, кавалера ордена «Участники Движения Сопротивления» имело символическое значение, которым не следовало пренебрегать. И его взяли – как живую легенду. Ближайшим пароходом, отправлявшимся из Марселя через десять дней, ему надлежало отбыть к месту дислокации французского батальона ООН. А пока он коротал время за барной стойкой вместе с Ла Марном, который ехал вместе с ним, но, по его словам, не по убеждению, а за компанию. Они заехали в Ниццу, чтобы окунуться в почти семейную атмосферу карнавала и попрощаться с Педро, хозяином бара, который сейчас мыл стаканы по другую сторону стойки. Своим черепом, одновременно лысым, бритым и седеющим, Педро походил на боксера, и никому даже в голову не могло прийти, что он получил университетское образование в Испании, преподавал антропологию в университете Саламанки и находился в изгнании после прихода к власти Франко. Рэнье познакомился с ним еще во время гражданской войны. Педро уже тогда был коммунистом, он был им всегда, но с тех пор он сильно изменился. Хотя, в конечном счете, речь не идет о коммунизме. Коммунизм тут ни при чем. Он не имеет ничего общего ни со Сталиным, ни с виселицами Будапешта или Праги. Коммунизм – это идея. Очень красивая идея. Никто не имеет права судить идею по результату ее воплощения в жизнь. Она создана не для этого. Любая идея сворачивает себе шею, едва опустившись на землю. Она всегда вымарывается в дерьме и крови, когда попадает из головы в руки. Нельзя выносить суждение об идее по преступлениям, которые совершаются во имя ее, да и вряд ли удалось бы найти идею в социальных моделях, построенных на ее основе. В метро есть реклама, уж не знаю какого товара: «Я смеюсь оттого, что вижу себя такой красивой в этом зеркале».Но идея не может отражаться в зеркале. Никто не имеет права судить о коммунизме но его изображению в русском зеркале: в нем виден только Сталин.
Рэнье допил свой стакан. Чрезвычайно трудно порвать с самим собой, иными словами – порвать с потребностью в справедливости и свободе для других.
Тем не менее он пытался. После пятнадцати лет политической борьбы и вообще всякой борьбы, пройдя путь от Дворца солидарности в Испании и Лиги борьбы за права человека до партизанского отряда и эскадрильи английских ВВС «Лотарингия», в составе которой он воевал с 1943 по 1945 годы, в погоне за хрупкой человеческой мечтой он начал серьезно подумывать о службе в полиции, надеясь порвать с самим собой. Но он знал, к чему бы это привело: он бы попытался придать полиции «человеческое лицо», привнести некий дух рыцарства и чистоты к вящей радости воров и убийц.
И тогда он уехал к себе в Рокбрюн и начал писать книги для детей, отвечая категорическим «нет» всем организациям, пытавшимся заручиться его поддержкой, всем комитетам, ассоциациям, партиям, союзам, движениям, лигам, фронтам, объединениям и даже призывам своих товарищей по Сопротивлению, вступившим в новые сражения за все то же дело, – свободу, – товарищей, которые могли жить, дыша лишь полной грудью.
Он ждал, но она не приходила. Деревушка Рокбрюн располагалась в стороне от шоссейных дорог, и, чтобы найти ее, нужно было трястись по проселкам, зная, что она находится где-то в этих краях. «Жизнь – это случайная встреча», – написал философ Мартин Бубер. Нужно еще раз дать шанс случайной встрече, дать шанс шансу. Женщине, о которой не известно ничего, даже то, существует ли она. Погоне за мечтой. Временами Рэнье мучила мысль, что пока он ожидал ее в Рокбрюне, она, возможно, искала его в Эзе, Ла Турби или Ницце. Он даже подумывал о том, чтобы съездить в Мексику: было у него смутное предчувствие.
Она либо придет, либо нет. Одна встреча – и справедливость восстановлена. Один взгляд – и борьба не напрасна. Это именно то, что Ленин называл революцией, и если он никогда не говорил этого вполне определенно, то лишь из-за стыдливости. Но Ленин смог выразить свои мысли в молчании. Присущий ему талант он использовал для того, чтобы почтить любовь своим потрясающим молчанием. Он, не сказав ни слова, посвятил свой труд нежности женской груди, сладости женских губ; и то, что осталось невысказанным им о любви и женственности, в конце концов ослепило вас своей очевидностью. Недосказанность, которой пронизан весь его труд, является самой многозначительной по сравнению со всеми красивыми словами, которые когда-либо мужчины слышали о любви, и то, что Ленин никогда не произнес вслух, будет вечно стучать в сердцах людей. Это его самое прекрасное, самое красноречивое послание.
Он рассмеялся. Осторожно! Еще немного, и речь пойдет о распущенности.
Распущенностью я называю право ставить любовь пары превыше всего – туда, куда по ошибке иногда помещают солнце. Кое-кто скажет, что я иду против течения, выступая в защиту распущенности, то есть права каждого из нас выбирать свое собственное солнце, а все остальное называть тьмой.
В американской Конституции есть статья, в которой говорится о праве каждого человека самому искать свое счастье. Pursuit of happiness.Пугающая ответственность!
Законоположение ошеломляющее и беспощадное: поиск счастья, как вам это нравится?
Тогда почему не пожизненная каторга, если уж на то идет?
– Как дела, клоуны? – спросил Педро.
– Нормально.
На прошлой неделе Рэнье попытался вспомнить точный текст одного изречения из Горького. «Грустные клоуны, которые исполняют свой человеколюбивый номер на арене капиталистического цирка…» Нет. Не так.
– Это из Горького…
– Чего? Что из Горького? – насторожился Ла Марн, который всегда боялся, что его уличат в недостаточно высоком культурном уровне.
– Грустные клоуны. Буржуазный идеализм. Ничего. Педро, налей еще стаканчик.
– Вы прибудете в Корею пьяными в стельку, – сказал Педро.
Рэнье держался за барную стойку, и на его губах играла насмешливая улыбка: ирония уже с давних пор была необходима ему в отношениях с самим собой. Пустой рукав – левый – был засунут в карман пиджака. Двадцать пять лет прошло с тех пор, как ему исполнилось двадцать. В двадцать лет еще позволительно думать, что любовь – это образ жизни. Но теперь ему было сорок пять. В этом возрасте уже следовало обрести зрелость рассудка – эту хваленую зрелость, которая невольно ассоциировалась с хорошо вызревшим сыром.
И тем не менее он все еще ожидал ее. Он пытался представить ее с помощью всех известных ему женщин, поскольку в жизни наступает такой момент, когда все встреченные женщины превращаются в отчетливый образ той, которой вам не хватает. Это то, что они оставляют вам на прощание. Одолжение, которое вам делают. И наконец вы отчетливо видите ее в череде меняющихся образов, и ей недостает только одного – материальности. Я бы ее тут же узнал: ее так не хватало другим! Да и как ошибиться после стольких попыток, после того, как перед взором пронеслось столько лиц, глядящих на тебя с укором и немым тревожным вопросом в глазах: «Что я сделала? Почему ты так на меня смотришь?»
Ла Марн допил водку и рассматривал вишню, лежащую на дне стакана.
Они ничем не могли помочь друг другу: они были мужчинами. Единственной женщиной в баре была взгромоздившаяся на высокий табурет проститутка с горжеткой из чернобурки на плечах. «Шлюха, – подумал Ла Марн, – нечто мужеподобное и грубое». Он с отвращением отвернулся.
IV
Ла Марн – кто знает, так ли его звали на самом деле? – был невысок и смуглолиц, волны крашеных иссиня-черных волос падали ему на щеки, подобно приподнятым вороновым крыльям, а черты его лица не были лишены определенного латиноамериканского изящества. В былые времена о таких типах говорили: авантюрист, темная лошадка. На самом деле он был поляком, сыном портного из Лодзи. Длиннющие трепещущие ресницы оттеняли его карие миндалевидные глаза, в которых светилась доброта и почти физически ощущалась мягкость, более уместная для тонкой лайковой перчатки, чем для мужского взгляда. Стремясь изменить это впечатление и закалить характер, он провел пять лет в Иностранном легионе, и, вероятно, был единственным человеком в его истории, которому с таким взглядом удалось дослужиться до старшего сержанта. Потом он получил французское гражданство и обосновался во Франции, однако так и остался франкофилом. В детстве, когда польские приятели дразнили его жиденком и частенько колотили, он на них не обижался, потому что они были не французами, а бедными маленькими варварами. Иногда друзья подшучивали над ним, говоря, что немцы побили французов в 1870-м. Ла Марн с палкой в руке бросался на этих обманщиков, а после прятался, чтобы поплакать в одиночестве. Старый школьный учитель, который прекрасно понимал, в чем дело, никогда не решался рассказывать при нем о войне 1870 года. Чтобы научить детей терпению, в школах рассказывали об истории Франции, революции, нравах человека, свободе, равенстве, братстве, и Ла Марн оказался особенно восприимчив к этим урокам.
Если бы не война, то его жизнь во Франции, несомненно, представляла бы собой серое существование, разбавляемое ежегодными парадами 14 июля и собраниями в защиту прав человека во Дворце солидарности. Июль 1940 года превратил его в существо третьего сорта, но он все еще цеплялся за прежнюю жизнь, веря, что это были всего лишь танки.Но желтая звезда, комиссариат по делам евреев и облава французской полиции, одетой во французскую форму, лишили его последних иллюзий. И это было в порядке вещей: он начал изучать Францию по книгам, и в течение долгого времени ее голос доносился до него издалека, словно звук охотничьего рога из глубины леса. Даже получив гражданство и живя в Париже, он продолжал его слышать. Но внезапно звук оборвался. Ла Марн перестал понимать происходящее. Он пристально вглядывался в лица французов по происхождению, однако и они тоже, похоже, больше ничего не понимали, хотя полной уверенности в этом не было; возможно, звук продолжал звучать в них, просто он этого не знал. Он был совершенно сбит с толку. Первые месяцы после поражения он обожал маршала Петэна и проклинал англичан, виновных в трагедии Мерс Эль-Кебира [1]1
Французская военно-морская база в Алжире, где 3 июля 1940 года кораблями ВМФ Великобритании была обстреляна стоявшая на рейде французская эскадра, отклонившая ультимативное требование англичан продолжить войну против Германии или разоружиться. В результате бомбардировки погибли 1300 французских моряков. (Здесь и далее прим. пер.)
[Закрыть]. Он разобрался в происходящем только тогда, когда оказался в Дранси [2]2
С 1941 по 1944 гг. – перевалочный концлагерь для заключенных-евреев.
[Закрыть]в ожидании депортации. Там-то он все понял. Он сбежал, обзавелся фальшивыми документами и занялся спекуляцией в Марселе. Но окончательно избавиться от прошлого ему не удалось: он снова услышал звук рога из лесной чащи. На сей раз он звучал на волне лондонского радио и назывался де Голлем. После очередного приступа франкофилии он присоединился к партизанам Савойи, назвавшись Ла Марном.
– Педро, еще порцию звука рога в лесной чаще. Со льдом.
– Вы доберетесь до Кореи в стельку пьяными, – повторил Педро.
– А в каком, по-твоему, виде мы должны туда добраться?
Отношение Ла Марна к жизни приобрело форму бесконечной пародии: он пытался нейтрализовать этопрежде, чем этос ним произойдет. Вместе с тем, Ла Марн не мог вразумительно ответить, что он подразумевал под словом это.Юмор и шутовство были призваны смягчать удары, но, превысив необходимый жизненный минимум, они стали напоминать дьявольский танец жертвы, с которой заживо сдирают кожу. Вот так Ла Марн постепенно превратился в настоящего вертящегося дервиша.
Первая встреча Рэнье с его будущим другом состоялась на следующий день после Освобождения. Рэнье тогда временно работал в Министерстве внутренних дел: это был трудный период, когда единство, выкованное Сопротивлением, начало трещать по швам, и он пытался предотвратить противостояние и замедлить процесс раскола, происходившего прямо на глазах. Прежде всего Рэнье изучил личные дела своих подчиненных. Он вызвал Ла Марна.
– Я просмотрел ваше личное дело.
Ла Марн ждал продолжения, вытянувшись по стойке смирно.
– Я обнаружил, что вы обвинялись в совершении публичных развратных действий.
Лицо Ла Марна приняло удовлетворенное выражение.
– Так точно.
– Мне придется потребовать вашего увольнения из кадров.
– Я всего лишь выполнял свой долг.
– И в том случае тоже?
– Так точно, господин директор. Это было ужасное время. Франция попала в лапы монстров, и на меня накатил приступ. э-э. солидарности. Я хотел выразить свои чувства, пережить этот ужас вместе со страной. Я хотел реально почувствовать апокалипсис, падение.
– Малышке было четырнадцать лет.
– Мои моральные ценности рухнули вместе со всем остальным.
– С тех пор они вернулись на прежний уровень?
Длинные ресницы Ла Марна затрепетали, и он бросил на Рэнье укоризненный взгляд. Но Рэнье еще не знал этого грустного клоуна и не понял его немого призыва спуститься на сцену, чтобы сыграть в спектакле вместе с ним.
– Мой поступок имел чисто символическое значение, в нем не было ничего личного, – сказал Ла Марн. – Но в последующем он оказался очень полезным. Благодаря ему я попал в полицию нравов.
Он снова посмотрел на Рэнье – никакой реакции. Ла Марн вздохнул и жестом виртуоза – этакий Паганини шевелюры – запустил пятерню в волосы.
– Видите ли, господин директор, из-за этого небольшого казуса в моем личном деле я влип по уши. Я даю гарантии власти, которой служу: ей известно, в чем я грешен. Она держит меня на крючке. Она знает, что я ни в чем не могу отказать ей, и может полностью рассчитывать на меня.
Рэнье начал понимать: он хорошо разбирался в том, что могло послужить защитой уязвленной чувствительности.
Ла Марн по-прежнему стоял навытяжку, касаясь мизинцами боковых швов форменных брюк, как ни о требовал строевой устав, и делал все возможное, чтобы его понял человек с внимательным взглядом, потерявший руку в борьбе за спра. за бра. за Фра. за нечто непроизносимое. Он дал ему «ля» – Рэнье оставалось только настроить свою скрипку. Он излучал послания, пронизанные юмором, в надежде быть понятым тем, чья чувствительность настроена на ту же длину волны.
И Рэнье действительно понял, насколько далеко может зайти человек в своем шутовстве, когда в ходе служебного расследования стало ясно, что обвинение, фигурировавшее в личном деле Ла Марна, было ложным и сфабрикованным им самим.
Ла Марн был уволен из полиции по состоянию здоровья, а вскоре после этого подал в отставку и Рэнье. С тех пор они стали неразлучны.
– Педро, я просил еще порцию звука рога в глубине леса, и побольше.
– То, что вы делаете, просто отвратительно.
– Что?
– Я имею в виду Корею.
– Да здравствует Сталин!
– Люди приходят и уходят, а идеи остаются. Вы знаете, чего вам не хватает? Свободной Франции. Вместо нее вся эта чушь: Корея, крестовые походы. Знаешь, что тебе следовало бы сделать, Рэнье? Отправиться в Мексику и основать там Свободную Францию. Не стоит думать, что от де Голля не будет никакого толка. В следующий раз выиграет тот, кто первым дорвется до микрофона.
– Я тоже так считаю.
– Так что отправляйтесь основывать настоящую Францию где-нибудь в глубине тропического леса. И тогда она будет только наша – девственная и чистая. Сокровище сьерры Мадре.
– Социализм с человеческим лицом, – заметил Ла Марн. – Грезы любви.
– Фашист тоже может мечтать о любви.
– Что это вы себе позволяете? – возмутилась сидевшая рядом потаскуха.
– Речь идет не о вас, – успокоил ее Ла Марн. – В вашем случае идеологией даже не пахнет.
Группа туристов, в которых без труда можно было узнать англичан, вошла в бар и устроилась за одним из столиков. Их было человек десять, и они могли свободно занять два или три стола. «Привычка к жесткой экономии, – подумал Ла Марн. – Они всадили нам нож в спину в Мерс Эль-Кебире». Что же касается Рэнье, то тот всегда испытывал симпатию при виде любого англичанина, и причиной тому были Королевские военно-воздушные силы и битва за Англию. Он тут же вспомнил Ричарда Хиллари, Гая Гибсона и остальных товарищей по эскадрилье, на рассвете отправлявшихся на боевое задание в белых пуловерах и с шарфами вокруг шеи. Иногда он видел, как они исчезали в клубке яркого пламени, вспыхивавшего, словно маленькое солнце, рядом с его самолетом. При виде любого болвана из Манчестера память возвращала его в недавнее прошлое с той же легкостью, с какой кусок сахара поднимал на задние лапки дрессированную собачонку.
– Рене Мушотт, Мартель, Гедж, товарищи по Освобождению, – пробормотал Рэнье.
– Бельмонт, Манолет, Домингэн, – в пику ему произнес Ла Марн.
– Они точно устроят корриду на аренах Симье, – сказала девка.
– Жаль, что она проститутка, – проворчал Ла Марн.
– Послушайте, вы! – возмущенно взвизгнула его соседка. – Соображайте, что говорите!
– Прошу прощения, мадмуазель, – извинился Ла Марн. – Поверьте, я вовсе не вас имел в виду. Я думал о человечестве в целом.
– А-а, тогда ладно, – успокоилась жрица любви.
– Выпьем еще что-нибудь? – предложил Ла Марн.
– То же самое, – отозвался Рэнье. – Всегда то же самое. До последнего вздоха.
– Педро, – сказал Ла Марн, – еще один «Бурбон-Парм» и «Орлеан-Браганс», раз уж мы в такой благородной компании.
Педро наполнил стаканы.
– Кортеж! – закричал кто-то. Все вскочили со своих мест.
V
Крейсер медленно пересекал залив, направляясь в сторону Италии; руки горизонта, казалось, поддерживали его на голубом полотне; над берегом стоял неподвижный и в то же время оживленный столб чаек. На этом величественном фоне воробей, скачущий за окном, выглядел совершенно неуместным, попавшим сюда словно по чьему-то халатному недосмотру. Энн улыбнулась ему. «Естественно, – подумал Вилли, кипя от ярости, – звезда первой величины и маленький воробышек». Он начал ненавидеть эти вечные символы, все то, что было таким же настоящим, как пшеничное поле, цветущая яблоня, влюбленная пара. Они ободряли Энн, словно несли с собой определенную значимость, какую-то неуловимую надежду – и не трудно было догадаться какую. Он попросил Гарантье сопровождать их в этой поездке только потому, что его тесть постоянно брюзжал, негодуя по поводу всех этих зазывных подмигиваний и прочих «непристойностей». Пора бы, говорил он, покончить с открыточкой сентиментальностью и потребовать от природы сменить вечный стук кастаньет, вечное тра-ля-ля на что-нибудь другое. Но Энн уже давно научилась правильно понимать речь отца: он привык говорить все наоборот, постоянно противореча самому себе, чтобы выразить прямо противоположное тому, что чувствовал на самом деле, о чем молчаливо кричал на протяжении последних двадцати пяти лет. Вынужденная расшифровывать смысл его слов, Энн в конце концов составила своего рода личный словарь эквивалентов. Когда отец говорил о пейзаже, «банальном, словно почтовая открытка», она знала, что он видел пейзаж, пробудивший в нем романтические мечты; когда слово литература он сопровождал эпитетом «непристойная», это означало, что в ней шла речь о любви; «поистине примитивная женщина» оказывалась женщиной, которая призналась ему в своих чувствах и взволновала его; «пещерное искусство» было искусством, приносившим в мир гармонию, а не разрушавшим его; «интеллектуал, достойный этого слова» всегда представлял собой такого же, как он сам, эмоционального калеку, нашедшего утешение в абстрактном искусстве. Вилли рассчитывал, что Гарантье постепенно отвратит дочь от эмоциональности, «непристойности» чувств, страстей и ожидания, и тогда он увлечет ее за собой в высшие сферы разума, где она больше не будет прислушиваться к каждому «мяуканью инстинкта», но в результате все вышло совсем иначе: он оказался в компании с человеком, каждое слово которого и даже просто присутствие, казалось, подбадривали Энн, не давали ей погрузиться в пучину отчаянья, помогали ждать, словно сам Гарантье был живым свидетельством всемогущества любви. У Вилли возникало смутное подозрение о существовании тайного сговора между отцом и дочерью, и стоило этой мысли прийти ему в голову, как он тут же выходил из себя. Теперь он насмешливо наблюдал за ними, зажав в углу рта сигару и придав своему лицу привычное выражение отвлеченности.
Он знал, что с тех пор, как Энн исполнилось тридцать лет, она периодически испытывала приступы растерянности и страха. За неделями самовольного затворничества, когда она, пылая возмущением, никого не принимала, чувствуя себя лишенной естественного права женщины перестать быть эскизом и обрести законченную форму, но не желая при этом быть брошенной на пол подобно едва начатому рисунку, который тут же теряется среди других набросков, предметов, лиц, слов, городов, идей. Мир, в частности, был для нее чем-то вроде нескольких торопливо взятых нот еще не написанного произведения. За моментами сомнений и отчаяния следовали приемы и приглашения, на которые она с жадностью соглашалась в предчувствии встречи. Иногда доходило до того, что новое имя, неоднократно произнесенное при различных обстоятельствах в присутствии Энн, вызывало у нее смятение, граничившее с паникой; она видела в этом некое предзнаменование, знак судьбы и ждала встречу, испытывая раздражение против самой себя; когда же ей, наконец, представляли незнакомца, то он невольно принимал это раздражение на свой счет. Несчастный озадаченно спрашивал себя, почему знаменитая Энн Гарантье, с которой он обменялся всего парой ничего не значащих слов, так явно демонстрирует ему свое плохое настроение и очевидную антипатию.
Вилли давно разобрался в перепадах настроения Энн и мастерски играл на них. Так, ему случалось создавать в воображении своей жены образ мужчины, говоря о нем вполголоса с напускным безразличием и пренебрежением, что она воспринимала как знак, или с враждебностью, которая тут же истолковывалась ею в пользу незнакомца. Вилли не забывал описывать его самыми черными красками, чтобы он не мог не привлечь внимания Энн, либо приписывал ему вкусы, черты характера и образ жизни, которые, якобы, не заслуживали ничего, кроме презрения, но которые поражали Энн своим благородством. Так, постепенно, он создавал между нею и незнакомцем нечто вроде тайной связи. Затем, оборвав разговор, возвращался к нему спустя несколько дней, вкладывая в свои слова холодность или же злобный сарказм, которые Энн воспринимала как реакцию на предчувствие опасности. Наконец Вилли приглашал жертву к себе в дом и, невинно улыбаясь, с триумфом наслаждался крушением грез своей супруги, стараясь при этом ничего не упустить: ни взгляда, ни следа гнева или растерянности на ее лице – наивно и без особой надежды полагая, что постоянные разочарования в конце концов приведут к желаемому смирению.
Однако единственным результатом, к которому он пришел, наблюдая за ней, такой романтичной и молодой, еще полной впечатлений от первого бала, было чувство охватившей его невыразимой нежности, самые робкие проявления которой она немедленно отвергала, жестоко мстя таким образом за свое разочарование. Так что все его хитроумные уловки рикошетом били по нему больнее, чем по ней. Однако Вилли продолжал свою игру не столько для того, чтобы заставить ее страдать, сколько для того, чтобы показать всю несбыточность ее надежд. Он часто знакомил ее с умными и духовными мужчинами, в которых был уверен, зная, что они не способны выйти за рамки приличий и разума и что свою яркую индивидуальность они превратили в настоящую профессию, что было еще одним способом лишиться индивидуальности. Он постоянно был рядом, чтобы затем насладиться ссорой, и слушал, как эти специалисты заливались соловьями, применяя все свое искусство нравиться, чтобы соблазнить его жену. Иногда он подыгрывал им, скромно подавая реплику, которая еще больше подстегивала их красноречие. Вилли сожалел, что у Энн не было любовных интрижек: наслаиваясь друг на друга, ошибки и напрасные поиски, возможно, обеспечили бы ему успех.
Короче говоря, по пути усмирения он зашел настолько далеко, насколько это было возможно.
Но тщетно.
Уступать не хотел никто.
Энн жила в ожидании встречи, о чем красноречиво свидетельствовали случавшиеся с ней временами приступы сомнения и уныния; стоило Вилли прочитать во взгляде или улыбке жены поселившуюся в ней надежду, как он начинал задыхаться или испытывать зуд но всему телу; безуспешно пытаясь обнаружить вещество, вызывавшее у него такую реакцию, крупнейшие специалисты-аллергологи проверяли его на всякую гадость, начиная с кошачьей шерсти и кончая помадой и косметическим молочком Энн, которым она смывала макияж. Вилли жил в постоянном страхе потерять ее. Любой мужчина мог в любой момент выйти из толпы и отнять ее у него, но больше всего он боялся того, что ненароком сам станет причиной такой встречи. Возможно, для этого ему достаточно будет сказать: пойдем сюда, а не туда, зайдем в это кафе, отправимся в эту поездку. Он постоянно ощущал свою уязвимость и, привыкнув использовать в своих целях слабости других, не рассчитывал на пощаду: в личных отношениях, которые каждый человек, как ему кажется, имеет с судьбой, он чувствовал себя так, словно над ним навис дамоклов меч. Находясь в таком состоянии, он временами не осмеливался открыть дверь, выбрать отель или заказать места в театре среди незнакомых лиц.
А накануне отъезда в Европу Вилли испытал настоящую панику, которую тут же связал с предчувствием.
Контракты были подписаны, рекламная кампания запущена, съемочные павильоны в Ницце заказаны – отступать было некуда. Во Франции предстояло снять два больших фильма: один по Флоберу, второй по Стендалю. Вилли хотел, чтобы Энн сменила амплуа: банальность ролей, которые она обычно играла, заставляла ее ненавидеть свою профессию, и он боялся, как бы не оборвалась та единственная ниточка, которая их соединяла. Он дошел до того, что сам начал серьезно верить в то, о чем с цинизмом говорил многим женщинам: идеальным заменителем любви является художественное творчество. Вилли жалко цеплялся за эту идею. Он сам предложил проект съемок двух фильмов в Европе и легко добился контрактов, но в последний момент испугался. По ночам, накинув роскошную красную пижаму, – только этот цвет немного скрывал пятна экземы, – он бесцельно бродил по своим апартаментам в нью-йоркском отеле. Терзавший его страх усилился настолько, что у него одновременно проявились экзема, сенная лихорадка и астма. Вилли задыхался и беспрестанно чихал, приступы изнуряли его до такой степени, что у него даже не оставалось сил чесаться. Ему приходилось будить Гарантье и просить, чтобы тот почесал его одной из тех щеток с жесткой щетиной, которые делали для Вилли по спецзаказу.
Приступ астмы обострился настолько, что им пришлось отложить отъезд на целую неделю. Вилли тщетно пытался найти законную уловку, чтобы аннулировать контракты. Он не понимал, абсолютно не понимал, как мог совершить такую глупость. «Именно в Европе ггроисходят подобные вещи, – беспрестанно твердил он про себя. – Это же сводня. Самая отвратительная сутенерша – вот что такое Европа. Она ждет нас, потирая руки, с мерзкой ухмылкой на старой морщинистой роже. Она обязательно сведет Энн с каким-нибудь типом, и долго ждать этого не придется. Так оно и будет».
– Но что на меня нашло, что со мною случилось? Мне же все-таки следовало бы знать, что так будет, я же в этом разбираюсь, ведь я сам сутенер!
Весь красный и лоснящийся от пота, задыхаясь и чихая, Вилли лежал на диване, пока тесть, не задавая лишних вопросов, чесал ему спину: физические проявления реальности, даже неприятные, Гарантье предпочитал психологическим и уж тем более – о ужас! – чувственным. Поэтому он делал свое дело и молчал.
За два дня до отплытия «Куин Элизабет» Вилли поехал в офис Белча. Белч был, вероятно, единственным человеком, которым Вилли искренне восхищался и в присутствии которого чувствовал себя маленьким мальчиком. Он изо всех сил пытался скрыть это чувство, но Белч, казалось, видел его насквозь. В золотые времена гангстеризма он работал на Аль Капоне, но пятнадцать лет назад завязал с темными делишками и стал одним из заправил Лас-Вегаса и теневым инвестором киностудий Голливуда. В глазах Вилли он был настоящим героем, или человеком, сумевшим подчинить себя определенным этическим нормам, настроиться на ту низкую ноту, которую давало общество. Это был маленький худощавый итальянец с дряблым лоснящимся лицом и слегка обвислым носом, на его лысом черепе блестела напомаженная прядь редких волос, и на первый взгляд могло показаться, что у него нет зубов. Он встретил Вилли с выражением снисходительного нетерпения на лице, как будто заранее знал, что ничего серьезного от него не услышит.
– Ну, Вилли, как дела?
– К черту, Белч, дайте мне отдышаться. Неужели вы не видите, что у меня приступ астмы?
– Хорошо, тогда выкладывайте, в чем дело, и отправляйтесь в постель. В таком состоянии не стоило приезжать, если нечего сказать.
Вилли сморкался, отчаянно хватал раскрытым ртом воздух и с упреком смотрел на Белча.
– Вы отправляетесь в Европу, Вилли? Во всех газетах полно фотографий самой счастливой в мире супружеской пары.
– Да, – задыхаясь, ответил Вилли. – Послезавтра. Я приехал попросить у вас человека. Телохранителя. Если помните, я уже говорил с вами на эту тему.
Белч сунул было палец в ноздрю, но вовремя спохватился и лишь крепко сжал кончик носа.
– Вот уже год, как мы с вами не виделись, – ответил он, – так что.
– Видите ли, проблема осталась прежней, – жалко произнес Вилли.
– Понимаю, – сочувственно сказал Белч. – Но рано или поздно врачи научатся лечить эту дрянь, вот увидите. У них получится, не расстраивайтесь.