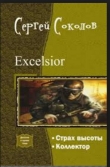Текст книги "Грустные клоуны"
Автор книги: Гари Ромен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Блестя сальными глазками, он спросил:
– У месье было много женщин, а? Я имею в виду настоящих. Он не удовлетворялся идеалом?
– Зовите меня Вилли, – добродушно сказал Вилли.
– Можно? Вы не шутите? Знаете, с 1935 года я участвовал во всех заварушках, я всегда был здесь… И вот, теперь… Можно?
– Ну да.
– О Вилли! – нежно произнес Бебдерн. – О великий Вилли, царящий на этой земле! Позвольте мне завязать ваш шнурок – он развязался.
Гарантье держался с подчеркнутым превосходством, сунув руки в карманы пиджака и не скрывая тонкой улыбки, игравшей на его губах. Всем своим видом он показывал, что не имеет ничего общего с присутствующими в гостиной.
– Вот оно что! – понимающе сказал он. – Попытка прикрыться шутовством, возможно, не самый лучший выход, но я признаю, что жить стало действительно трудно. Тем более, что у вас ничего не получится.
– Да нет же, получится! – запротестовал Бебдерн. – Обязательно получится! Верно, Вилли?
– В чем дело? – спросил Вилли. Его прилично развезло, и он уже видел перед собой трех Бебдернов и двух Гарантье.
– Как это, в чем дело? – возмутился Бебдерн. – Во всем! Я сторонник прогресса, я верю в прогресс. Все получится!
– Ничего у вас не получится! – отрезал Гарантье.
Вилли грохнул кулаком по столу и рявкнул:
– Что получится, черт подери?
– Все, абсолютно все! – торжественно заверил его Бебдерн. – Я прогрессист, я верю в безграничный прогресс человечества! Представьте себе, у раков оргазм длится целые сутки! Так вот, благодаря Лысенко, благодаря марксистской генетике мы тоже придем к этому! Я верю!
– Если бы я знал достаточно крепкое ругательство, я бы выругался, – сказал Гарантье. – Я послал бы вас так далеко, что назад вы бы уже не вернулись…
– Народный гнев, а? – развеселился Бебдерн. – Vox populi?
Гарантье повернулся к окну.
– Когда я вижу за окном море, то даже не знаю, настоящее ли оно.
– Бросьтесь в воду, тогда узнаете! – проворчал Вилли, пытаясь отобрать бутылку у Бебдерна.
– Что вы хотите, все запутать – это испытанный метод отчаявшейся буржуазии, – разглагольствовал Бебдерн, попыхивая сигарой и прижимая к себе бутылку шампанского. – Все нужно исказить и тщательно приукрасить, намалевать действительность таким образом, чтобы от человека не осталось и следа. За неимением человека, – а я подразумеваю под этим словом, конечно, человека гуманного и культурного, вполне веротерпимого и человечески невозможного, – за неимением человека нам приходится работать над чем-нибудь таким запутанным, что сразу не поймешь, где нос, а где задница. Это то, что называют творением цивилизации.
Вилли поцеловал Бебдерна в лоб, а тот чмокнул Вилли в щеку.
– Агага? – спросил Вилли.
– Агого, – ответил Бебдерн.
– Хопси-попси?
– Попси-хопси!
– У вас все равно ничего не получится! – повторил Гарантье. – Вам не удастся разжать тиски блеяще-лирического буржуазного идеализма, который держит в оковах ваш разум. Это я вам говорю!
Бебдерн сделал вид, что встает.
– Я ухожу, – раздраженно заявил он. – Я пришел сюда, чтобы оказать вам услугу, а не для того, чтобы выслушивать оскорбления. Я хочу, чтобы мои взгляды уважали! Я не потерплю, чтобы меня называли идеалистом! Я никогда не был членом партии, поэтому не понимаю, почему должен приходить в отчаяние!
– Ну, ну, ну, – произнес Вилли, удерживая его. – Я дам вам банан.
– Ладно, это меняет дело, – сказал Бебдерн, опускаясь в кресло.
Гарантье продолжал наблюдать за чайками, и это делало его похожим на персонаж чеховских произведений.
– Впрочем, вы правы, – презрительно произнес он. – Мне понятны ваши мотивы. Вы надеетесь, что жизнь превратится в театр абсурда. Тогда у вас появится шанс удержаться на плаву. Этот метод описан еще Альбером Камю.
– Я добьюсь, чтобы у вас отняли американский паспорт, вот увидите, – проворчал Вилли.
– А я и не знал, что в Америке тоже есть паспорта, – заметил Бебдерн.
– Из тех краев его завез в Европу Христофор Колумб, – сказал Вилли, – но теперь европейцы пытаются всучить его обратно. Все – идеологические подонки.
Бебдерн вдруг рухнул на колени и, сложив перед собой руки, молитвенно возвел очи горе:
– Отче наш, иже еси на небеси, позволь нам подняться повыше! Позволь нам выйти на поверхность, сделай нас поверхностными! Дай нам миллиметр глубины, позволь нам наконец стать простыми, как слово «здравствуй»! Научи нас различать розовое и голубое, нежное и очаровательное, научи пользоваться собакой, лесом, закатом, пением птиц! Освободи нас от зла, освободи от абстракций, дай нам разум! О великий Вилли, живущий на небесах, научи нас наслаждаться журчанием ручейка и сном в густой траве, дай нам траву, былинку в рот и охапку под голову! Как это делается? Как это делается, Господи? Забери наши общественные устои, а вместо них позволь жить на Корсике, в песне Тино Росси! Пусть наша жизнь будет такой же высокой, как его голос, и столь же разнообразной, как его рифмы! Спаси нас, Господи, от белого и черного, примири с серым и порочным, сохрани чистоту для себя, а нас научи довольствоваться всем остальным! О Всемогущий, дай нам молоденькую простушку и средства воспользоваться ею! Верни нам секрет совокупления – простого, как приветствие, без всяких выкрутасов, при котором не рискуешь свернуть себе шею или переломать ноги! Верни нам лунный свет, вальс и позволь без ухмылки опуститься на колено перед женщиной!
О Великий и Всесильный, спаси нас от насмешки и критики, избавь от элиты и поставь над нами воплощение мечты молодой девушки! О Несравненный во всех отношениях, верни нам серенаду и веревочную лестницу, сонет и сухой лист между страницами книги, перенеси Ромео и Джульетту в Кремль! О Господи, создавший бездонные пропасти и гору Килиманджаро, верни нам способность жить легко и бездумно! Спаси нас от харакири самоанализа! Избавь нас от тайных договоров и нарциссизма, возьми человека и развяжи его, ибо он завязался в такой запутанный узел, что все – под предлогом освобождения – хотят разрубить его! Верни нам веру в непорочность и наши маленькие человеческие ценности, пусть они вернутся к нам со своими плюсами и минусами; достань нас из скафандров, оставив только несколько маленьких глотков воздуха, и дай простоту, необходимую для того, чтобы целовать женщину только в губы! Забери себе гений и верни нам талант! О Великий знаток истории, остановись! Оставь нас такими, какие мы есть: маленькими и приятными во всех отношениях. Остановись и тщательно измерь нас: мы выросли из своих штанишек! Мы стали слишком большими для нашей незначительности! Тебе не составит большого труда найти нас: прислушайся к нашим крикам, когда мы занимаемся любовью, вспомни, кто мы, расположись наверху! И прежде чем браться за создание новых Сталиных и целой оравы гениальных отцов народов, прислушайся к голосам мужчин и женщин, занимающихся любовью: остановись. Позволь им продолжать свое дело. Не мешай им ни под каким предлогом. Сохрани гений для себя: тебе он особенно нужен, это говорю тебе я, человек. Я знаю, что идеалом тут и не пахнет, оставь идеал и абсолют для себя, о Ты, кто никогда не ходил к дамам легкого поведения! Избавь нас от идеологических оргий, верни нам благопристойную пару! Сделай так, чтобы мы не были счастливы все вместе, и в то же время так, чтобы все-таки были счастливы! О Ты, для кого любовь – не что иное, как малая нужда человечества, оставь нам нашу малую нужду! Раздели нас по парам, не дай сбиться в кучу! Верни нам вкус к дуэту! Поддержи баркароллы, а не гимны; серенады, а не хоровое пение; не дай затеряться трели маленькой флейты в могучем звучании симфонического оркестра! Поддержи ее, сделай так, чтобы ее слышал каждый! Избавь нас от Вагнеров, воспевающих прошлое, тяжкий труд, кровавые битвы и общественные устои, привей нам вкус к хрупкости и нежности! Отними у наших степенных мыслителей тягу к эстетствованию, а взамен дай им чувство прекрасного! Кстати, верни нам вкус ко всему красивому! Реабилитируй в наших глазах вкус, несчастный вкус, который, пресмыкаясь как червь, вынужден скрываться под обломками прекрасного! О Ты, способный творить на бумаге самые невероятные чудеса, верни нам любовь к локону и медальону на сердце! О Ты, который на бумаге может все, избавь нас от организационной схемы, планирования, перфокарт и диаграмм! Верни нашим сыновьям любовь к шуршащим юбкам и волнующее кровь ощущение от прикосновения к нежному девичьему бедру – крылышки и ножки подаются вместе. Сделай так, чтобы наши девушки никогда не переставали ездить на велосипедах, избавь нас от пуритан, избавь нас от пуритан, избавь нас от пуритан! Забери их себе и делай с ними все, что хочешь, но я предлагаю следующее: заставь их носить женское белье, пусть понюхают! Но, о Всемогущий, ничего не делай для нас! Не улучшай нас ни под каким предлогом! Оставь нас навечно такими, какие мы есть, нас это вполне устраивает! Если мы Тебя не удовлетворяем, иди в другое место и там создай себе кого-нибудь еще! Но только здесь ничего не трогай! Оставь нам гадюк, ос и насморк – ведь чихать это так здорово! И если Ты считаешь, что всенепременно должен нам помочь, время от времени проявляй себя в нас в качестве возбудителя!
– Вы не получите от меня ни гроша, – проворчал Вилли.
– Пусть месье не беспокоится, – сказал, вставая, Бебдерн. – Если я смогу заставить месье улыбнуться… Одна улыбка, простая улыбка на его августейшем лице, и я буду полностью вознагражден… Что касается остального…
Он скромно опустил глаза.
– Если месье соблаговолит говорить мне иногда простые слова «несчастный сукин сын».
– Летучая мышь, летучая мышь! – пробормотал Гарантье.
– Где? – всполошился Вилли, который видел пока только нескольких розовых слонов.
Гарантье с отвращением отвернулся. Он никогда не любил экспрессионизма.
– Месье принимает свои надежды за реальность, – сказал Бебдерн. – Он очень торопится поставить точку, не так ли? Могу ли я шепнуть ему на ушко, что летучая мышь не возвещает прихода весны, что сумерки возвещают наступление не утра, а ночи, что тупикам свойственно отсутствие выхода, и поскольку невозможное будет преследовать нас с ожесточенностью бормашины, бороться с ним можно будет не крестовыми походами, революциями, идеологиями или самоубийствами, а только поэзией, смехом и любовью. Других способов борьбы с ужасами абсолюта просто нет.
– Хватит, – сказал Вилли. – Я плохо себя чувствую.
В номере воцарилась тишина. «Сатрапу больше не смешно», – подумал Гарантье.
Вилли стоял, опустив голову и опираясь обеими руками о стол. В тишине отчетливо слышалось его свистящее дыхание. Став взрослым, то есть с того момента, когда он начал таиться от окружающих, Вилли держался только за счет розыгрышей и шуток, и, поскольку домовых, гномов и Котов в сапогах не существовало в природе, ему хватало общества нескольких партнеров, присутствие которых не давало страху окончательно завладеть им. По крайней мере, этого еще можно было требовать от человеческих отношений. В компании было легче оттолкнуть небытие и смерть, держать их на расстоянии при помощи розыгрыша, шутовства, юмора и спиртного, ибо все это до неузнаваемости искажало то, что пугало и несло в себе тайную или явную угрозу. Но такие компании собирались не часто. Чтобы добиться желаемого результата, следовало оказаться среди посвященных и почувствовать духовное родство с ними, этими вдохновенными артистами. Сила смеха проявляется в полной мере только в их обществе. Чудесного появления Бебдерна оказалось достаточно, чтобы Вилли на какое-то время забыл об ужасах окружающего мира, но это облегчение было лишь временным, и внезапно действительность – желание держать в своей руке нежные пальцы Энн, целовать ее веки, иметь от нее ребенка, наслаждаться ее улыбкой, быть счастливым, наконец – со всей силой вновь обрушилась на него. Тут уж просто не было места уверткам и шутовству, ибо наступил момент истины. Жизнь во всей своей величественной простоте снова вступала в свои права, и юмор был бессилен справиться с глупостью сердца.
Вилли начал расчесывать запястье, потом зуд перебросился на шею, где прямо на глазах образовывались багровые припухлости: неприятности вызывали у него вспышку крапивницы, иногда усугублявшуюся приступами астмы и сенной лихорадки. Он страдал неизлечимой хронической формой аллергии, поскольку, по вполне правдоподобному объяснению Гарантье, в первую очередь не мог переносить самого себя. Он сам был воплощением своих постоянных и прилипчивых неприятностей. Вполне возможно, что стоило бы ему раз и навсегда принять себя таким, каким он был, выпустить испуганного ребенка из его тайного убежища, как от астмы и крапивницы не осталось бы и следа. Но вместо того, чтобы перед всем миром признаться в своей незрелости и инфантильных мечтах о нежности и материнской любви, он предпочитал задыхаться, чесаться и чихать до кровотечения из носа. И нервная система мстила ему за такое издевательство над самим собой. Постепенно он превратился в свой собственный раздражитель. И персонаж, который он годами тщательно лепил из себя, стал таким образом жертвой жесточайших приступов астмы и нестерпимого зуда, что, несомненно, было единственным способом природы отомстить за насилие над собой, взбаламутить воду в чистом пруду. К тысячам известных причин аллергии, видимо, следует добавить и мечту, заключенную в среду, совершенно чуждую ей – среду простых человеческих возможностей: все равно как закупорить горизонт в бутылку. Тут есть над чем поломать голову. Несомненно, что этот огромный плененный горизонт врачи и называют нервным расстройством.
– Должно быть, я снова съел какую-то дрянь, – проворчал Вилли, яростно скребя себя ногтями. – Эта французская кухня меня доконает.
Всего за несколько секунд его тело превратилось в комок изнывающей от нестерпимого зуда плоти, и тут же начался приступ астмы. На глазах испуганного Бебдерна, беспомощного перед этим внезапным проявлением действительности, Гарантье, который предвидел такой оборот событий, помог Вилли лечь.
– Ничего страшного, – сказал он. – Это эмоции. Каждый раз, когда реальность берет верх, у него начинается приступ астмы.
Хватая воздух широко раскрытым ртом, Вилли бился в конвульсиях, словно рыба, выброшенная на берег, а Гарантье держал перед его лицом аэрозольный баллончик с тенолом. Впрочем, для Вили самым невыносимым в страдании была его подлинность. Его приводило в ужас то, каким образом страдание накладывало свой отпечаток на лицо своей жертвы. Поистине, искусство на этом заканчивалось.
– Finita la commedia, – прохрипел Вилли. – Черт побери! Чешите меня.
Гарантье и Бебдерн быстро раздели его.
– Чешите его, – скомандовал Гарантье. – У меня заняты руки.
Он продолжал нажимать на кнопку аэрозольного баллончика, направляя струю лекарства в рот Вилли. Бебдерн начал чесать продюсера, с ужасом ощущая под пальцами плотные вздутия размером с крупную рыбью чешую.
– Сильнее! – взвыл Вилли.
Спустя несколько минут Бебдерн почувствовал, что руки отказываются служить ему.
– Я больше не могу, – простонал он.
– Пойдите в ванную комнату и принесите банную рукавицу, – приказал Гарантье.
Приступ длился почти два часа. Сначала отступила астма, затем утих зуд, хотя все тело Вилли по-прежнему было покрыто красными рельефными пятнами, начинающими постепенно бледнеть.
На лице измотанного приступом Вилли все явственнее проступали детские черты. Теперь это было ясное лицо ребенка, засыпающего в обнимку со своей любимой игрушкой. По полузакрытым глазам было видно, что сон уже баюкает его на своих бархатных крыльях. Его лоб с прилипшими завитками волос нес на себе отпечаток самой чистоты, а черты лица, которые теперь ничего не скрывали, явили свою истинную красоту: изящный прямой нос, четкий контур губ, которые, казалось, не знали поцелуя, упрямый подбородок с ямочкой, придающей особое очарование улыбке… Воображение без труда рисовало образ матери, которая, склоняясь над этим лицом, с уверенностью думала: «Его будут любить…»
Дыхание Вилли выравнивалось. Именно в такие моменты он словно впервые в жизни открывал для себя вкус воздуха и в полной мере ощущал неслыханную щедрость окружающего мира. Он улыбнулся и закрыл глаза. Гарантье еще несколько минут посидел рядом, затем поднялся.
– Не желаете ли перейти в мой номер? – предложил Гарантье Ла Марну. – Я к вам скоро присоединюсь.
Оставшись один, он прошел в комнату Энн и вернулся с плюшевой белочкой, которая всегда стояла на ее ночном столике – маленькой милой игрушкой с круглыми глазками – бусинками, напоминавшей персонаж мультфильма. Гарантье положил ее на кровать рядом с Вилли и вышел из номера к ожидавшему в коридоре Ла Марну.
Следом за Гарантье Ла Марн вошел в номер и, не снимая пальто и шляпы, уселся в кресло. Предложенный ему стакан виски он принял с заметной неохотой. Он опасался Гарантье: тот чувствовал подвох за версту и тем самым взваливал на ваши плечи ответственность за все самое неприятное, в том числе и за вашу собственную жизнь, напрасно растраченную в «поисках синей птицы». Под «поисками синей птицы» Ла Марн подразумевал вечно высмеиваемые устремления и мечты, которые без конца бередят вашу душу и которые не в силах заглушить никакое шутовство.
– Ну, какого черта, – произнес он просто так, на всякий случай, чтобы поставить все точки над «i».
– Похоже, мы уже где-то встречались, – сказал Гарантье.
– Вы и он?
– Я вас умоляю… Мне кажется, мы с вами сидели вместе в президиуме Конгресса по борьбе с расизмом в 1937 году. Я был членом американской делегации.
– Не помню, – сказал Ла Марн, поднеся ко рту стакан с виски. – Я, знаете ли, шью обувь.
– Шьете обувь? – удивился Гарантье. – Но совсем недавно вы называли себя экспертом – бухгалтером.
– В конце концов, имеет человек право поменять профессию или нет? – раздраженно спросил Ла Марн.
– А может, мы встречались в 1936 году в постоянно действующей рабочей комиссии III Интернационала? – продолжал настаивать Гарантье.
– О-ля-ля, – произнес Ла Марн. – Вы знаете, какая нога у булочника?
Он вытянул руку:
– Вот такая!
Под взглядом Гарантье Ла Марн вертелся, словно уж на сковородке.
– Нет, я серьезно, – сказал Гарантье. – Вилли здесь нет, поэтому нет больше смысла паясничать. Я абсолютно уверен, что мы с вами уже встречались. В Лиге защиты прав человека, может быть?
– Чего вы ко мне пристаете? – плаксивым голосом воскликнул Ла Марн. – Могу я пошутить, в конце концов? Имею я право сменить работу или нет? Я честный рабочий, занимаюсь своим делом, а то, о чем вы говорите, меня не интересует. Разве я у вас спрашиваю, с кем вы спите? – И, отвернувшись, он добавил: – Этот тип меня вконец достал.
Тем не менее в номере повисла ностальгическая тишина: оба собеседника напоминали гребцов-ветеранов из Оксфорда, вспомнивших о своих девяноста проигрышах против одиннадцати команды Кембриджа.
– Налейте себе еще виски, старина, – предложил Гарантье. – А что стало с остальными парнями из нашей команды?
– Я совершенно не имею понятия, о чем вы говорите, – ответил Ла Марн с потрясающим чувством собственного достоинства.
– Мальро, например, состоит при генерале де Голле, – пояснил Гарантье. – Это самый сенсационный разрыв с эротизмом, насколько я знаю. А другие? Те, кого еще не расстрелял Сталин?
– Оставьте меня в покое, – заявил Ла Марн. – Я два часа чесал вашего патрона и не намерен чесать еще и вас в тех местах, где бы вам того хотелось. Чешитесь сами.
– А вы помните малыша Дюбре? – спросил Гарантье. – Того, кто на собраниях мечтал вслух о солнечном, гармоничном и братском французском коммунизме, не омраченном ненавистью, постоянно совершенствующемся, стремящемся сохранить вечные французские ценности: терпимость, различие во взглядах, уравновешенность и свободу. Что с ним стало?
– Он до сих пор коммунист, – ответил Ла Марн. – Вот что с ним стало.
– А остальные? В тридцатые годы левая интеллигенция в Париже была не столь многочисленной. Что стало с теми, чьи трепетные и вдохновенные лица можно было видеть среди борцов за социальную справедливость?
– Кое-кто еще печатается, – скачал Ла Марн.
– Это же здорово!
– Но большинство так и не смогло оправиться от шока. Нацисты уничтожили несколько миллионов евреев – у людей такое бывает; Хиросиму превратили в пепел – и такое случается; на Востоке диссидентов бросают в тюрьмы и вешают – чего не случается среди людей, мой дорогой, хотим мы того или нет! А еще был советско-германский пакт 1939 года, может быть вы об этом слыхали?
Гарантье снисходительно улыбнулся. Воспоминания о пакте были для него особенно неприятными и вызывали у него сильнейшее ощущение сопричастности, величия и восторга. Ибо он считал, что пойти на такую жертву и проглотить подобную пилюлю – это, в некотором роде, неоспоримое доказательство благородства и чистоты конечной цели. Он достал из портсигара сигарету, аккуратно вставил ее в мундштук и щелкнул зажигалкой. Все элементы в совокупности – рука, золотая зажигалка, мундштук из слоновой кости и сигарета – сложились в приятный для глаза натюрморт. Ла Марн машинально окинул Гарантье взглядом с головы до пят: высоко застегнутый пиджак устаревшего покроя из английского твида, узкие брюки чуть ли не эпохи короля Эдуарда и начищенные до зеркального блеска изящные высокие туфли – над кем он смеется? Над собой? «В сущности, – подумал Ла Марн, – это не что иное, как проявление безграничного отвращения к своему времени и непреодолимая ностальгия по прошлому. По той эпохе, когда идеи были еще незапятнанными и не успели превратиться в кровавую реальность».
– А что стало с Пупаром? – спросил Гарантье. – С тем, который с 1934 по 1939 годы выступал в Вель д'Ив с пророческими речами о стремлении народов к миру, способном воспрепятствовать развязыванию новой войны, и о мужестве масс, которое, якобы, сделает ненужными крестовые походы и позволит этим самым массам самостоятельно добиться освобождения?
– Он живет на юге и выращивает орхидеи. Каждый ищет компенсацию на свой лад.
Под насмешливым взглядом Ла Марна, которого было трудно одурачить подобными фокусами. Гарантье на минуту замолчал.
– А этот… как его… Рэнье? – спросил наконец Гарантье. – В 1934-м он входил в комитет по освобождению Тельмана, верно? Рэнье – кажется, именно так?
– Ну и что дальше?
– Как сложилась его судьба?
– Так вот вы куда клоните.
– Просто речь идет о моей дочери, – ответил Гарантье. – Для меня это единственное, что еще. В конце концов, я хотел бы знать.
Он замолчал. Это было выше его сил. В присутствии постороннего человека он не мог признаться, что, кроме дочери, у него не осталось больше ничего, что есть только одно средство, с помощью которого можно построить мир, и это средство – любовь. Он достал из кармана трубку и, держа ее в руке, сделал широкий неопределенный жест.
– Я хотел бы знать, какие планы у этого парня.
– Готов ли он тоже выращивать орхидеи?
Ла Марн встал и надел шляпу. Он смотрел на Гарантье с таким бодрым видом, будто только что изнасиловал бабушку-старушку, вытер член о занавеску, а потом пошел на кухню и выпил молока из кошачьей плошки.
– Вы окажете мне большую услугу, – сказал Гарантье.
Ла Марн рыгнул.
– Через неделю он уезжает в Корею. Он принадлежит к категории тех, кто считает, что для восстановления справедливости достаточно наказать идеи, когда они начинают плохо себя вести. Вы понимаете, горбатого могила исправит. Он не такой, как мы, согласны? Ничему не научился и ничего не забыл. Ну ладно, черт возьми, до встречи!
– Черт возьми… – машинально пробормотал Гарантье. – Я хочу сказать…
Но Ла Марн уже вышел, испытывая удовлетворение от того, что ему все же удалось сохранить лицо.