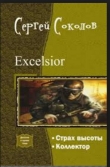Текст книги "Грустные клоуны"
Автор книги: Гари Ромен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
XXII
Он стоял на террасе, и Энн хорошо видела его на фоне звездного неба. Воздух был напоен той морской свежестью, которая успокаивает и осушает слезы. Накануне, рано утром в дверь кто-то постучал. Это был человечек маленького роста с печально изогнутыми бровями.
– Прошу извинить, но у меня важное сообщение для…
Я пошла будить тебя. Вы не без враждебности обменялись рукопожатием. Маленький человечек посмотрел на меня долгим взглядом и приложил руку к сердцу, как это делают президенты Соединенных Штатов, отдавая честь флагу. В нем все было смешным. Чарли Чаплин говорил, что рассмешить людей – верный способ заставить их полюбить тебя.
Ла Марн достал из кармана газету и развернул ее.
– Вот, на третьей странице. Сегодня пополудни состоится встреча друзей шевалье Байяра.
– А, ну ладно, – сказал Рэнье.
– Должно быть, они повсюду вас ищут…
Ты захлопнул дверь у него перед носом.
Не нужно плакать. Надо быть, как говорят мужчины, сильной женщиной. Она встала, натянула белый пуловер и, сидя на кровати, посмотрела на разбросанные по полу газеты.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ США ПРИВЕДЕНА В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ.
«НУЖНО ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ ПРИМЕНЕНИЮ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ», – ГОВОРИТ ЭЙЗЕНХАУЭР.
БРАТСКИЕ НАРОДЫ СССР И КИТАЯ СПЛАЧИВАЮТСЯ ВОКРУГ ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА И МАО…
Он уезжал через два дня.
Энн подумала о небоскребе ООН, который осматривала накануне отъезда, не подозревая, что разглядывает то самое место, где завязывалась ее судьба. «Войска Объединенных Наций высаживаются в Корее.» Эти слова на последних страницах газет не пробуждали в ней никакого отклика. В них было что-то далекое, незнакомое, нереальное. Ей казалось, что на самом деле они были не более, чем ошибкой. Небоскреб – никогда раньше человеческое устремление не заслуживало лучшего имени. Расположенная на Ист-Ривер, башня Объединенных Наций символизировала очередное бегство на небо человечества, одержимого невесть какой мечтой о недосягаемом. Погоня за несбыточным, так насмешливо называл Рэнье эту всепоглощающую тоску, и точно так же он мог бы сказать о себе самом.
Она вышла к нему на террасу.
– Куда, Жак? До каких пор?
Она пыталась говорить сдержанно, без излишней горячности в голосе, не выплескивая наружу свое возмущение и женский гнев.
– Почему все-таки Корея?
Он ответил не сразу, улыбнувшись так, будто просил у нее прощения.
– Это уникальный момент в истории, Энн, и его нельзя упустить. Коммунизм попал в руки безумного диктатора. Коммунизм – пленник Сталина.
– Выходит, коммунизм тоже нужно освободить, так?
– Ему нужно дать шанс развиваться свободно, как всем живым существам. Я не боюсь победы коммунизма – я боюсь его поражения. Потому что поражение – это всегда насилие, ужас, угнетение, страх. Вот уже четверть века Сталин мешает коммунизму жить, не дает ему расцвести, стать творением человечества. Он присвоил слова, сказанные его другом Горьким: «Если враг не сдается, его уничтожают». Этим он и занимается. Мы не сдадимся. Вот поэтому Объединенные Нации и сражаются в Корее. Повторю еще раз: сталинизм – это не коммунизм, это уродство, чудовищная историческая ошибка. Истинное лицо коммунизма можно будет увидеть только после падения Сталина.
«Одержимый, – подумала она. – Это безнадежно. Сидит с пустым рукавом на фоне звездного неба, искалеченный, но невредимый, и видит в поражениях лишь потенциальные победы». Она не хотела этого говорить, но не сдержалась:
– И всегда самые лучшие роли… Против Франко, против Гитлера, а теперь против Сталина… Все, как у нас в Голливуде. Звездный принцип. Кончится тем, что ты получишь Оскара. Оскара за самую лучшую роль в самой лучшей борьбе. Я не хочу тебя обижать, но.
– Да нет же, ты меня не обижаешь. Это похоже на правду. Однажды деревенский мальчик лет одиннадцати-двенадцати попросил у меня автограф. Ну да! Он встал передо мной и строго на меня посмотрел. «Это правда, что вы герой? – Нет. – А папа сказал, что вы – участник Движения Сопротивления. – Ну да. – Тогда могу ли я получить у вас автограф?» Я расписался. Он поразмышлял немного, а потом спросил: «А что такое участник Движения Сопротивления?» Смешно, правда?
– Нет. И не стоит отправляться умирать в Корею, чтобы освежить ему память. Что ты защищаешь, Жак? Что, конкретно?
– Хрупкость.
Он замолчал, пытаясь сдержаться. И снова по его губам скользнула извиняющаяся улыбка, словно он знал, что она – порождение мелодии его души, которые исчезали, как только переставали быть немыми. Возможно, в конечном итоге Горький был прав, и жалкий буржуазный идеализм стремился превратить мир в республику не менее жалких душонок. А сам юмор был не чем иным, как тщетной попыткой разрядить обстановку, способом уничтожить смешное, доводя его до абсурда. Рэнье спросил:
– Ты умеешь играть на гитаре?
– Нет. А что? Что это значит?
– Было бы легче петь, если бы ты могла подыграть мне на гитаре. Послушай.
Чтобы помочь, Энн взяла его за руку и прижала ее к своей щеке. Рэнье опустил голову.
Он не находил нужных слов. Ничто не оправдывало абсурдной необходимости покинуть ее.
Он мог остаться с ней с чистой совестью.
– Выслушай меня. Прошлой осенью я был в деревне, которая называется Везеле. Я не буду ее тебе описывать. Когда ты читаешь какую-нибудь басню Лафонтена, там говорится о ней, когда ты читаешь Ронсара или дю Белле, это тоже Везеле, деревня очень хорошо описана, очень верно. И, конечно, читая Монтеня, получаешь настоящий урок о Везеле. Везеле прочувствована, осмыслена и изучена изнутри, чтобы показать нам, что же это такое. Я уверен, что теперь ты представляешь себе деревню, пейзаж вокруг нее, а также свет, который способен, подобно разуму гения, смягчить ослепительное сияние ровно настолько, насколько нужно… На граните памятника жителям Везеле, павшим в сражениях минувших войн, выбиты только четыре имени. Это имена мотыльков [9]9
Мотылек – papillon (фр.) – по-русски звучит как «папийон», довольно распространенная французская фамилия, и именно это обстоятельство обыгрывает автор романа.
[Закрыть]. Первым идет Огюстен Папийон, погибший в 1914–1918 годах, затем Жозеф Папийон и Антонен Папийон. Спустя четверть века к ним присоединился Леон Папийон, погибший в 1940 году… Вокруг раскинулись сады, базилика, холмы и виноградники, надежно отгораживающие нас от горизонта, словно для того, чтобы лучше охранять. Я смотрел на эти имена, казавшиеся не столько выбитыми в камне, сколько парящими в воздухе, и думал, что мотыльки – существа очень хрупкие, они летают не очень высоко и не очень далеко, а светлое будущее наступает для них слишком поздно. Вот что я защищаю, Энн – хрупкость.
Она слушала его, подтянув колени к подбородку и подрагивая от ночной прохлады. Густые волосы наполовину скрывали ее тонкий профиль. Когда-то на этом самом месте, на этой провансальской земле жили другие трубадуры. Позже, в приступе тоски и отчаяния она скажет отцу: «Этот человек боготворил то, что любил. Я представляю его таким, каким бы он был в давние времена, бродящим по миру со своей лирой и воспевающим Францию, Деву Марию, Везеле, Свободу и Хрупкость. В его душе звучала поэма, которой требовался объект преклонения, и в этой потребности обожествлять было слишком много места, чтобы его целиком могла занять женщина».
– Ты получишь своего Оскара, – сказала Энн. – Это очень хорошая роль. Этакий Эррол Флинн, к тому же вдохновенный. Фильм можно было бы назвать «Любовник проигранных сражений». Постановка Сталина, натурные съемки проведены в Корее, музыка Карла Маркса. Согласен?
– Согласен. Мы победим, но все сражения станут проигранными сражениями. Нужно всегда все начинать сначала. Альбер Камю написал об этом целую книгу – «Миф о Сизифе».
– Хорошо, пусть будет «Миф о Сизифе» с Жаком Рэнье и его камнем в главных ролях.
– Я ничего не могу поделать, Энн. Мне нужно оставаться смешным.
Он подумал о Ла Марне, испанском гранде, герцоге д'Аушвиц, рыцаре Прав Человека, коннетабле Мюнхена, принце Ведь д'Ив, сеньоре Хиросимы, маркизе Непорочного Зачатия, бароне Непоколебимой Веры, Минуло более сорока пяти лет с тех пор, как Зиновьев, будущая жертва Сталина, впервые произнес слова «социализм с человеческим лицом». Трудно было сказать; «Да, я верю, несмотря ни на что, я все еще верю», трудно было сохранить традиции великих грустных клоунов: Бриана – «Назад, пушки! Назад, пулеметы!», Леона Блюма, Чаплина и братьев Фрателлини. Нужно было стиснуть зубы и продолжать веселить толпу. Вся проблема сводилась лишь к паре дополнительных кремовых тортиков, брошенных в лица нескольких покойников.
– У тебя самый приятный голос из всех, которые мне доводилось слышать после появления звукового кино, – сказала она.
Но он был тем человеком, который умел принимать насмешку. Насмешка, ирония, пародия были для него испытанием огнем, которому этот верующий подвергал свою веру, чтобы она вышла из пламени более уверенной в себе, более ясной, с более широкой улыбкой.
– Хрупкость, Энн. Я не согласен, когда во имя Истины чудовищно широко раздвигают ножки циркуля, втыкая одну иглу в страдание, а другую – в грядущее, тем самым превращая светлое будущее в угрюмое сегодня. Истина не существует. Не знаю, известен ли тебе знаменитый рецепт великого нормандского кулинара Дюпра: «Возьмите истину и дайте ей как следует отлежаться, чтобы увидеть, не меняет ли она цвет у вас на глазах и не превращается ли в свою противоположность: понаблюдайте, чем она питается – случайно, не вами ли? Затем поднимите ее на высоту человеческого роста, не выше и не ниже, хорошенько понюхайте, убедитесь, что она не имеет трупного запаха, откусите малюсенький кусочек и, не глотая, осторожно попробуйте его на вкус: тщательнейшим образом разжуйте, особенно в том случае, когда кто-то хочет, чтобы вы проглотили истину целиком; убедитесь, что она вас не душит, не встает поперек горла, не выворачивает наизнанку, не вылезает обратно через нос, не вызывает потливости и тошноты, и только тогда глотайте ее, но постепенно, мало-помалу, все так же тщательно разжевывая каждый кусочек, но самое главное – всегда будьте готовы выплюнуть ее…» И Дюпра, один из величайших кулинаров Франции, делает следующий вывод: «Демократия – это право выплюнуть…»
Энн закрыла глаза.
Хорошо сказано, Жак. Очень красиво. И очень правильно. Это хорошая причина, чтобы оставить меня. Женщине так приятно быть покинутой за право выплюнуть. Позже я скажу своим друзьям: я встретила замечательного человека. Вы по-прежнему встречаетесь с ним? Нет, он оставил меня именно потому, что был замечательным человеком. Если бы он остался со мной и мы прожили вместе счастливую жизнь, он лишился бы моральной красоты. Он был великим комиком. Когда он прикасался к моей груди, ощущение было таким, будто в его руке находилась круглая Франция. Я могла бы любить его всю жизнь, но, по-видимому, женщина не имеет права удерживать при себе такое духовное величие. Это было давно, в 1952 году. Помните? Война в Корее. Нет, конечно, кто сейчас о ней помнит! С тех пор было столько других. Его звали Жак Рэнье, и он хотел освободить коммунизм от Сталина, если я правильно поняла. Я даже выучила наизусть то, что он мне говорил по этому поводу: «Мы еще даже не знаем, что такое коммунизм. Мы его даже не видим. Мы видим только Сталина. Мы сможем увидеть истинное лицо коммунизма только после падения Сталина. Я думаю, что без Сталина коммунизм устремится к гуманному будущему, Соединенные Штаты начнут развиваться в том же направлении путем обратной эволюции, и в точке их встречи возникнет наконец истинная цивилизация, вероятно, самая прекрасная из всех, которые знало человечество.» Он пел мне об этом в 1952 году и с тех пор, как вы знаете, история признала его правоту. Он был одним из тех ясновидцев, которые никогда не ошибаются и обладают интуитивным пониманием будущего. К тому же он очень любил смешить других. Он даже называл это «честью быть человеком». Да, в его понимании это значило уметь оставаться смешным. Что делать, мне не повезло. Я могла бы полюбить пьяницу, жулика, наркомана, бандита. так ведь нет! Надо же было такому случиться, чтобы это был идеалист. За два дня до его отъезда я, помню, думала, глядя на этого героя с мягкой улыбкой, прекрасно смотревшегося на фоне звездного неба, что на Голливуд клевещут, когда называют его «фабрикой грез», что существуют другие фабрики грез, куда более гнусные, куда более прогнившие, куда более преступные. Сегодня я говорю это как мать. А тогда, звездной ночью, стоя рядом с тем, кто был еще здесь, но чью душу и тело уже поглотила бездна политических высот, это отвратительное братство врагов, размышляя о котором, нельзя не задаться мыслью, а не является ли оно творением какого-то злого духа, я думала с женской злобой, способной, быть может, когда-нибудь породить мир, править которым будут женщины, что мы составим идеальную пару, чету звезд, и что идеологические шоры ни в чем не уступают другим, когда речь идет о кино, комбинированных съемках, спецэффектах, фотогеничности, чарах и обольщении.
– Жак, когда я была маленькой семилетней школьницей и училась в Париже, учительница преподавала мне то, что тогда называлось «уроками дела». У меня была книжка с картинками и подписями. Рисунки изображали крестьянина на гумне, пекаря у печи, домохозяйку на кухне, собаку, встречающую своего хозяина. Я старательно переписывала в тетрадь эти уроки: «Крестьянин ссыпает зерно в гумно». «Пекарь печет хлеб в своей печи». «Хозяйка готовит обед для семьи». «Собака радостно встречает своего хозяина». И теперь мне кажется, что тот скромный школьный учебник вобрал в себя всю правду мира, которую мы забыли, которую мы потеряли, и сегодня лишь старая детская книжка и голос поэта другой эпохи осмеливаются сказать: «Господи, Господи, такова жизнь, простая и спокойная.»
Он молчал. Вежливо, мягко, очень серьезно, потому что никогда нельзя относиться с иронией к детям и поэтам. «Прошло уже больше двадцати пяти лет, но я прекрасно помню те трагические моменты, когда женщина в последний раз безнадежно пыталась удержать этого политического утопленника, жертву идеологического кораблекрушения. Я помню также, как в какой-то момент, не в силах выразить свое возмущение и боль, я подняла руки, словно держала фотокамеру и пыталась найти лучший ракурс для его мужественного и вдохновенного лица на фоне звезд. Исторический портрет Жака Рэнье, человека, который спас коммунизм от Сталина и тем самым предотвратил вторжение в Венгрию и Чехословакию, сделал возможным триумф восстания в Будапеште и весеннего восстания в Праге, и, конечно, только теперь я знаю, насколько он был тогда смешным со своей духовной красотой и непоколебимой верой в примирение идеологий и людей, поскольку, говорил он, «люди редко терпят неудачу, когда речь идет о том, чтобы быть похожими друг на друга». Мне так и не удалось найти слова Горького, первоисточник которых выветрился из памяти самого Рэнье, – полагаю, эта фраза взята из переписки писателя, – о том, что «грустные клоуны исполняют свой идеалистический номер на арене капиталистического цирка», но они превосходно подходили ему. Конечно, теперь мы знаем, что, когда те же вдохновенные клоуны исполняют тот же номер на арене марксистского цирка, они заканчивают Гулагом или психиатрической лечебницей. Они такие смешные, эти клоуны. Соль земли. Я очень любила ею, любила за то, что больше всего ненавидела в нем, что отняло его у меня. Любопытный парадокс: любить человека за то, что хотел бы изменить в нем. У него была очень фотогеничная душа. Это теперь фотогеничность вышла из моды. В наши дни кинематограф не любит красивых лиц, какие были у Роберта Тэйлора, Кларка Гейбла, Кэри Гранта. У наших сегодняшних звезд физиономии Аль Пачино, Де Ниро, Дастина Хоффмана. Как видите, моя злость не смогла постареть. Я хотела родить от него ребенка, это был единственный способ хоть как-то сохранить его, не потерять окончательно. Я высчитывала день, определенный период месяца, и в моих объятиях расчета было едва ли не больше, чем страсти. Я добилась своего, и это была моя единственная женская победа. У меня красивый улыбчивый малыш с таким ясным взглядом, который потрясает меня и заставляет опасаться худшего: он напоминает голубое подмигивание горизонта. О Господи, не дай ему пойти но стопам отца! Я назвала его Жаком-Рэнье. И если уж ему суждено быть похожим на отца, то надеюсь, по меньшей мере, что он найдет хорошие роли в Голливуде, а не в Мекках идеологических шор. Очевидно, я стала несколько желчной. Но я считаю, что во имя Истины люди творили такие чудовищные вещи, что в конце концов ложь и фальшь обрели ауру смиренной святости. У нас, по крайней мере, признают, что обманывают, и не посылают статистов на войну умирать по-настоящему. Все, что есть фальшивого на Западе, пахнет Голливудом, но все, что есть фальшивого в Москве, пахнет Гулагом. Главное – не доля истины и не доля лжи, а доля наименьшего зла. Когда-нибудь, изучая остатки нашей цивилизации, археологи-инопланетяне решат, что нашими по-настоящему «великими людьми» были те, которые причинили меньше всего бед. Возможно, в Пантеоне будущего можно будет увидеть портреты Эррола Флинна, Гари Купера, Карлтона Хестона с надписью «Они, по меньшей мере, только притворялись». Я хотела крикнуть ему: пусть они занимаются своими «скачками вперед», пусть скачут с замечательной уверенностью в своей правоте, она-то и приведет их прямо в болото сомнения. Уверенность всегда была лучшим способом ошибаться. Пусть они расцветают в своей уверенности, и сомнение придет к ним как логическое завершение их пути. Пусть они упиваются своей твердостью, силой, сталью: в конце их ждет вкус хрупкости. Они напрасно сражаются с этой повсюду проникающей женственностью. Пусть они отсчитывают время веками: к ним придет такая тоска по секунде, по мгновению, что им понадобится вся наша дружба, чтобы не разнести вдребезги то, что они построят. От их сооружений останется только скромная любовь к тому, что нельзя построить. Именно на вершине своего творения они внезапно признают поражение, и тогда его строительство можно будет считать завершенным. Они – китайцы и русские – столько требуют от самих себя, что снисходительность и терпимость придут к ним просто как осознание самих себя, как сострадание к самим себе. «Мирное сосуществование» означает время, которое необходимо им и нам, чтобы измениться. Еще одно усилие, еще один «долгий марш», еще одно «ух!», сопровождаемое хрустом костей, и они наконец услышат наши женские голоса и прислушаются к ним. Я знаю: это говорит женщина, жалость, нежность, женское терпение. Но время женщин еще не пришло, и мне пока не на что рассчитывать. Уезжай. Самая старая мужская музыка – песня отъезда. Женские голоса – это всего лишь эхо мужской песни, мужского мира и мужских несчастий. Вот то, что я тогда не говорила ему, поскольку нет смысла бороться с законом, единым для всех Голливудов: фильмы-катастрофы, приносившие доходы с незапамятных времен, строятся вокруг мужчин-звезд.»
– Почему ты смеешься, Энн?
– Вы, мужчины, забрали себе все главные роли, думаю, уже пришло время давать их женщинам.
XXIII
Вилли лежал в постели с широко раскрытыми глазами. Он пытался думать о практических вещах: Россе, контрактах, киностудии в Голливуде, бомбардировавшей его телеграммами угрожающего содержания, о журналистах, уже почувствовавших запах паленого: два репортера постоянно дежурили, сменяя друг друга, в холле отеля, и, когда он выходил, то не мог избавиться от впечатления, что за ним следят. Но у него перед глазами стояла повисшая между небом и землей тропа, ведущая в Горбио, и медленно идущая по ней целующаяся пара. Вилли попытался улыбнуться, вычеркнуть из памяти этот абсурдный образ нежности и слащавой сентиментальности, подобно тому, как он крикнул бы «Стоп!» на съемочной площадке, если бы актеры осмелились навязать ему сцену, пронизанную подобной жалкой банальностью. Но делать было нечего: стереотипы всегда отличались устойчивостью.
Вилли закурил, встал с постели и лихорадочно оделся, не имея ни малейшего представления о том, что будет делать. У него оставался лишь один выход – Сопрано. Ему следует найти Сопрано, только он мог вытащить его из этой истории. Но где? Как? Существовал ли он вообще? Ну, конечно же, существовал: это факт. Белч существовал. Мафия существовала. И, несомненно, у них всех был босс, еще более влиятельный и всемогущий, у которого повсюду имелись свои люди, следившие за порядком. Сопрано или кто-нибудь другой – неважно. Нужно было кого-то найти, и немедленно.
Он надел смокинг и посмотрел на себя в зеркало в ванной комнате: все было при нем – насмешливая гримаса и отвлеченный взгляд; его лицо, словно вырезанное из слоновой кости, несло на себе отпечаток некой негритянской красоты, сродни той, что свойственна деревянным маскам бенинских воинов, но латинизированной в испанском духе. Курчавые волосы цвета воронова крыла, казалось, настоятельно требовали золотого кольца Яго в мочке уха, но до этого Вилли никогда не доходил: в мизансцене ничего нельзя чрезмерно подчеркивать, сам экран и так обладает эффектом преувеличения. Если он не мог найти Сопрано, чтобы избавиться от соперника, придется поискать кого-нибудь другого: на Лазурном берегу должно хватать подонков, готовых на все ради денег. Он почувствовал себя лучше. Астма никак себя не проявляла. Он снова искусно импровизировал, используя свой талант режиссера-постановщика.
Вилли спустился в холл и попросил кассира выдать ему наличные по чеку. Кассир посмотрел на чек, и на его лице появилось выражение досады и разочарования.
– Сожалею, месье Боше, но такую сумму я не могу выдать.
– Я собираюсь поиграть в баккара. Мне нужно как минимум столько.
– Мы совершенно не сомневаемся в вашей подписи, но наша фирма придерживается принципа никогда не создавать проблем знаменитостям из числа нашей клиентуры возможными судебными исками. Это принцип конфиденциальности.
– Что же мне тогда делать? Банки уже закрыты.
Служащий поднял руки.
– Кому-нибудь другому, месье Боше, я бы напомнил о существовании ювелирного магазина. специализированного, который постоянно работает рядом с казино. Но, естественно, вас это совершенно не заинтересует.
– Спасибо, – поблагодарил Вилли.
Он улыбнулся. Какая простая и замечательная идея. Ему следовало бы сразу об этом подумать. Он поднялся в свои апартаменты и, насвистывая, прошел в комнаты Энн. По своей циничной грубости найденное решение идеально соответствовало тому образу, который он создал для себя и теперь тщательно пестовал. Вилли открыл сейф и достал драгоценности Энн: одно только жемчужное колье потянет на миллион, а за такие деньги, в отсутствие Сопрано, он обязательно кого-нибудь да найдет. В конце концов, он действовал в интересах Энн, с учетом своих интересов, конечно. Таким образом, ее участие в этом деле было совершенно естественным. Он сунул колье в карман и поехал в «Казино де ля Медитерране». Ювелирный магазин он нашел сразу же за казино, и старый армянин согнулся над колье.
– Сегодня будет большая игра, – заметил он.
– Они еще ничего подобного не видели, – заверил его Вилли.
Они быстро заключили сделку.
– Вы можете забрать колье в течение сорока восьми часов, – сказал ювелир. – Вы потеряете только четыре процента.
Вилли взял триста тысяч франков.
– Не могли бы вы принять остальные деньги на хранение?
– Это хорошая предосторожность. И потом, она позволяет немного проветриться между партиями.
У ювелира был непомерно длинный нос, и Вилли с восхищением смотрел на него: этот нос казался ненастоящим.
Вилли забрал чек и оказался на улице Франс с пачкой денег в руке, которые он намеренно держал на виду. Рано или поздно на них должен был клюнуть какой-нибудь подонок.
Шла предпоследняя ночь карнавала, и толпа, схлынувшая с площади Массена, рассасывалась по ночным заведениям и кафе; нервно возбужденные люди, словно боясь потерять свой задор, искусственно поддерживали его теперь криками, суетой и смехом. На улицах было больше людей в масках и карнавальных костюмах, чем в предыдущие вечера: правление его Величества Карнавала подходило к концу, и народ разбрасывал конфетти полными пригоршнями, словно это была стремительно обесценивающаяся мелочь; шум стоял невероятный, смех становился все более громким и резким; накладные носы, бороды, остроконечные колпаки; пьеро, шуты и клоуны скакали в пыли, держась за руки; повсюду царила атмосфера горячечного возбуждения, присущего всем режимам накануне падения. Девушка в гусарском кивере из серебристой бумаги, идущая под руку с одетым во все белое кондитером, остановилась перед Вилли и показала на него пальцем:
– Посмотрите-ка на него. Что он делает с этими деньгами в руке?
– Мадмуазель, – ответил Вилли, подмигивая ей, – я ищу человека.
– Свинья, – сказала девица.
Вилли уже попытал счастья в нескольких барах. Он входил, облокачивался на стойку и делал вид, что пересчитывает деньги. Сначала он думал прикинуться пьяным, но ему не хотелось, чтобы его посчитали беззащитным, ему нужен был человек, готовый на все, настоящий убийца: его не устраивал тип, готовый лишь оглушить его. Он уже не знал, чего хотел больше: свести счеты с собственной жизнью или воспользоваться услугами наемного убийцы, чтобы устранить своего соперника. Впрочем, этот означало одно и то же. Он хотел, чтобы ему помогли выйти из тупика, вот и все. Какое-то время он светил деньгами, потом выходил. Но эта уловка не срабатывала. Никто не шел следом за ним. Вилли почувствовал отвращение. И тем не менее он очень ясно представлял себе сцену и физиономии типов, которым доверил бы сыграть ее. Выходя из очередного дансинга, Вилли все-таки заметил субъекта, скользнувшего следом за ним. С бешено колотящимся сердцем, он свернул в темный переулок, счастливый от того, что еще не лишился чувства страха. Человек приблизился к нему, держа руки в карманах, и ловким движением сунул под нос Вилли пачку фотографий.
– Dirty pictures, – сказал он. – Very dirty. [10]10
Неприличные фото. Очень неприличные (англ.).
[Закрыть]
– I am in dirty pictures myself, – ответил Вилли. – Very dirty. [11]11
Я сам занимаюсь неприличным бизнесом. Очень неприличным (англ.).
[Закрыть]
Субъект подошел ближе.
– Соотечественник? И все же я бы хотел, чтобы вы взглянули…
Он продемонстрировал свою коллекцию.
– Поймите меня правильно, – сказал он. – Это не только ради денег или стаканчика, хотя, если бы мне его предложили. Чтобы установить человеческий контакт.
– Добрый вечер.
– Так что, Вилли, неужели и в самом деле нет способа вытянуть из вас хоть слово?
Журналист.
– Отлично! – сказал Вилли. – Хорошо сыграно, приятель. Я почти клюнул.
– Если вы ничего не хотите говорить, Вилли, значит в том, что поговаривают люди, есть доля истины.
Вилли мило ему улыбнулся.
– Ну и о чем же они поговаривают?
– О том, что самая дружная супружеская пара в мире стоит на грани развода, – ответил незнакомец.
«Выстрел наугад», – подумал Вилли.
– Не слишком на это рассчитывайте. Однако, приятель, мне очень понравилось ваше представление о том, что меня можно вызвать на откровение, показав порнографические снимки. Видите ли, вы принимаете меня слишком всерьез. Журналисты чересчур сильно верят в Вилли Боше, забывая при этом, что сделали его они сами.
Вилли развернулся и пошел прочь. Он был почти уверен, что журналист «стрелял» вслепую, но так тоже можно было убить. Тут он ничего не мог сделать. Он больше не искал Сопрано: после этой встречи он снова был по уши в дерьме. Вилли зашел в «Сентра» и тут же увидел в баре двух журналистов, которые накануне брали у него интервью. Он понимал, что это было совпадением, но тем не менее почувствовал, что у него начинается крапивница.
– Привет, Вилли, что вы здесь делаете?
– Я вышел из казино. Вы не видели мою жену? Я потерял ее в суматохе.
– Не видели. Выпьете стаканчик?
– Нет, пойду ее искать. Если вы ее увидите, скажите, что я вернулся в игорный зал.
– О'кей.
Не задерживаясь в баре, он рассовал деньги по карманам и вошел в казино. Вилли вдруг вспомнил, что сказал ему портье в отеле: этим вечером в казино проводится бал «Веглион» – самый большой бал-маскарад года. Может быть, здесь будет Энн в карнавальном костюме, и, может быть, ему удастся приблизиться к ней и прошептать «я тебя люблю», оставаясь при этом не узнанным. У него не было пригласительного билета, но его с готовностью пропустили на бал Масок, оказав знаки внимания, на которые мог рассчитывать человек, выглядевший, как Вилли Боше. Люстры придавали залам искрящееся величие воздушного праздника. Вилли бродил из зала в зал, но Энн нигде не было, она не пришла, хотя это был последний бал сезона. Оркестр играл только вальсы, и каждый раз, заслышав звуки музыки, ему казалось, будто Энн отказала ему в танце. В конце концов, Вилли направился к выходу. Он подоспел к самому разгару конфликта: контролер не пускал на бал господина, одетого в костюм кюре.
– Я не могу вас пропустить в таком виде. Вы прекрасно знаете, что допустимы только приемлемые маскарадные костюмы. Мы не можем шокировать людей.
– Но это вовсе не маскарадный костюм, – запротестовал священник.
Он выглядел честным человеком, который желает только одного – быть понятым окружающими.
– Я настоящий кюре из Жиана – деревни, что на Большом Карнизе, выше Сент-Анэ. Я специально приехал, чтобы немного потанцевать.
Оторопевшие люди в растерянности смотрели на него. Даже неверующие испытывали такое чувство, будто им нанесли удар ниже пояса. Каждый смутно воспринимал это как личное оскорбление. Дело не в религии, раздавался ропот. Дело в том, что каждая вещь должна находиться на своем месте, на том, которое ей отведено. Люди переставали понимать, кто есть кто, и это отрицательно сказывалось на моральных устоях. Отныне ни на что нельзя было рассчитывать, вот так.
– Послушайте, сударь, – продолжал умолять контролера кюре, – пропустите меня. Я не в маскарадном костюме – я просто пытаюсь дискредитировать себя.
Вилли почувствовал в себе восхитительную легкость: добряк кюре позволил ему сбросить с души по меньшей мере сотню килограммов.
– Не можете же вы вечно продолжать проповедовать ваш антиклерикализм! – негодовал кюре.
Он начинал скандалить, грозил написать своему епископу и, в целом, вел себя так, словно хотел растоптать все святое и впутать всех в некрасивую историю. Вилли почувствовал себя лучше: у него появилось впечатление, будто он нашел себе партнера. Он подмигнул кюре, и тот ответил ему тем же. Люди чувствовали себя не в своей тарелке: они впервые видели, чтобы кюре подмигивал с таким вызывающим видом, это было ужасно. Они теряли ощущение безопасности.
– Не обращайте на него внимания, – сказал Вилли. – В такое состояние его привели романисты-католики. Кого вы все-таки изображаете, старина? Грэхэма Грина? Мориака? Достоевского?