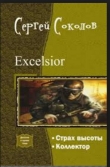Текст книги "Грустные клоуны"
Автор книги: Гари Ромен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
– Я говорю не об аллергии, а о своей жене, – заметил Вилли.
– Они уже нашли эту штуку, как бишь ее… антигистамины, и скоро найдут все остальное. Я читал об этом в «Ридерс Дайджест». Они вас вылечат. Я в этом уверен. Похоже, что четверть населения Соединенных Штатов страдает аллергией. Вы представляете, сколько рабочего времени пропадает впустую? Но они найдут средство. А пока позвольте мне проводить вас до машины и отвезти домой. Хорошая ингаляция.
– Мне нужен человек, Белч, – сказал Вилли. – Особенно в Европе. Серьезный человек, который мог бы оградить мою жену от. от ненужных встреч.
– Вы хотите сказать, от мужчин.
– Телохранитель. Кстати, как зовут того парня, о котором говорили в связи с вами? Сопрано?
– Ну что вы, Вилли, – возразил Белч. – Не принимайте всерьез того, о чем говорят по телевидению.
– Белч, мы с Энн собираемся провести некоторое время в Европе. Снять два – три фильма. И мне страшно. Европа – это старая сводня.
– Ну и что? У вас прекрасные отношения.
– Да. Но мне нужен человек, который избавил бы мою жену от ненужных встреч.
– Я знаю, что вы молоды, Вилли, но я уверен, что вы сможете научить старушку Европу кое-каким хитростям вашего ремесла.
– Послушайте, Белч, дело серьезное. Я защищаю свои деньги, вот и все. Вы прекрасно знаете, что стоит нашим звездам ступить на землю Европы, как начинаются большие проблемы. Они обязательно кого-нибудь там находят, и их уже ничем не заманишь назад в Америку. Возьмем, например, Ингрид Бергман и Росселлини… Голливуд ему этого никогда не простит, на него ополчились все движения в защиту морали, ни одна студия не хочет иметь с ним дела. Я не хочу подвергаться такому риску, вот и все. В Европе есть нечто такое, что цепляет их на крючок. Не знаю, правда, за какое место. Но они теряют головы. Мы едем во Францию и Италию. Именно там, как правило, все это и происходит. Это две сутенерши, и там может произойти любое свинство. Италия и Франция занимаются этим всю жизнь. Одна из них сыграет со мной злую шутку, я это чувствую.
– Тогда бросьте эту затею и оставайтесь дома, – посоветовал Белч.
– Хорошо бы, но теперь я ничего не могу поделать. Дело сделано. Любой человек может совершить ошибку.
Белч с насмешливым видом ущипнул себя за кончик носа.
– Так что конкретно вы от меня хотите? Чтобы я велел своему человеку незаметно, как – нибудь ночью, избавиться от Европы? Договорились. Рассчитывайте на старого Белча.
– Мне не до шуток. Вы прекрасно видите мое беспокойство. Там я ни минуты не буду чувствовать себя в безопасности. И не заблуждайтесь: это вопрос денег, больших денег. Если Энн останется в Европе, мне конец. Я покойник. В финансовом плане, конечно.
– Сколько вы на ней зарабатываете?
– Сорок процентов, – ответил Вилли. – И это все. Продюсеры терпят меня только из-за нее. Если бы не она, меня бы уже давно.
Он судорожно хватал воздух открытым ртом.
– Благодаря ей я, возможно, смогу убедить студию помочь мне в реализации задуманного проекта. Продюсеры должны пойти мне навстречу. Видите ли, кроме всего прочего, это еще и вопрос искусства.
– Отправляйтесь домой и ложитесь в постель, – мягко посоветовал Белч.
– Так у вас никого нет на примете?
– Вы любите свою жену и это прекрасно. Заведите с ней детей. У меня самого их пятеро. Это пойдет вам на пользу. Но в любом случае не рассказывайте мне сказки. Вам наплевать на деньги и женщин. Вы дорожите женой и боитесь потерять ее, а в результате приходите ко мне и устраиваете здесь кино.
– Я вас не обманываю, – жалобно произнес Вилли, – честное слово. Студия обеспокоена не меньше меня. Они уже несколько раз обжигались на Европе и дали понять, чтобы я был начеку. Я же не говорю, что от меня потребовали чего-то большего. Но тем не менее я ведь имею право взять с собой телохранителя, разве нет? Хотя бы для того, чтобы оградить себя от поклонников, от толпы. В конце концов, мы – люди известные во всем мире. Так как вы сказали, э-э. Сопрано?
– Я ничего не говорил, – Белч пожал плечами. – Его депортировали на Сицилию, если уж вам так хочется знать. Он проходил по одному делу с Лаки Лючиано. Выслан на родину. Сейчас дремлет где-то под оливами, и, вероятно, без гроша в кармане.
– А вы бы не могли связаться с ним? – спросил Вилли. – Мы будем на французской Ривьере, это в двух шагах оттуда… Послушайте, Белч, чего вы боитесь, ведь до Европы пять тысяч миль. Пусть он спокойно ждет меня в отеле. Все расходы за мой счет. Он будет жить припеваючи. Ему даже не придется видеться со мной. Все, что от него требуется – быть под рукой на протяжении четырех месяцев. Он даже может взять с собой старушку-мать, если она у него есть. Все расходы я беру на себя. Мне достаточно знать, что он рядом, и я буду чувствовать себя гораздо увереннее. Девять шансов из десяти, что его услуги мне не понадобятся. Ничего особенного не случится. Энн не похожа на других женщин, у нее есть голова на плечах.
Вилли чувствовал себя уже лучше. Дышать стало легче и зуд, донимавший его, ослабел.
– Ничего не случится. Просто это вопрос душевного равновесия. Я буду знать, что, если какой-нибудь тип станет слишком назойливым, мне достаточно будет подать знак и. – он выразительно щелкнул пальцами.
– Вы как малое дитя, – вздохнул Белч. – Вам следовало бы родиться вундеркиндом.
– Я привык добиваться своего, – кокетливо сказал Вилли.
– Не знаю почему, но я всегда питал симпатии к сукиным сынам вроде вас, – произнес Белч.
– Между нами много общего, и этот момент также не является исключением, – ответил Вилли.
Белч нацарапал несколько слов на листочке бумаги.
– Держите, – сказал он, протягивая Вилли записку. – Сообщите ему название банка и укажите сумму, которую будете переводить на его счет в начале каждого месяца. Он обязательно придет за деньгами. Положите этот листок в карман и забудьте о нем до тех пор, пока не случится что-либо из ряда вон выходящее. Я вас не провожаю, поскольку вижу, что помощь вам больше не нужна. Вы выглядите веселым и невесомым, словно зяблик. Когда-нибудь и я, быть может, отправлюсь в Европу, особенно после того, что вы мне о ней рассказали. Теперь, когда дети уже выросли, я сам был бы не против повстречать там кого-нибудь! Скажу откровенно, меня очень заинтересовал ваш рассказ.
Насвистывая, Вилли вышел из офиса Белча. Он отправил на Сицилию письмо, но так и не получил ответа. Но одно он знал совершенно точно: банковский счет, открытый им в Ницце на имя Сопрано, опустошался ежемесячно. И этого было достаточно, чтобы в течение всего пребывания на Лазурном берегу он вел себя с Энн довольно непринужденно, с некоторым отеческим и чуть ироничным превосходством. Где-то возле них находился человек, оберегавший их счастье и легенду об «идеальной паре». Иногда, стоя на ступеньках отеля в ожидании, когда Энн закончит раздавать автографы, Вилли высматривал в толпе силуэт или лицо человека, которому он доверил бы роль Сопрано. Однако так и не увидел никого, кто показался бы ему достойным Джорджа Рафта в «Лице страха» или Джека Паланса в «Прощай, Рио». Впрочем, от реальной жизни не следовало ожидать ничего другого. Теперь ему больше нечего было бояться: через день они улетали в Штаты. Он торопился привезти Энн в Голливуд, в ту среду, которую она знала достаточно хорошо, чтобы не ждать от нее ничего хорошего. Голливуд – поистине идеальное место, где можно не опасаться ненужных встреч, с чувством признательности думал Вилли. Внезапно на него нахлынуло такое ощущение триумфа и могущества, что он, подобно горилле, едва не забарабанил кулаками в грудь в знак полного контроля над ситуацией. Но это продолжалось всего лишь мгновение. Одного взгляда на Энн хватило, чтобы горилла превратилась в Микки Мауса и забилась в угол, свернувшись в комочек и поджав хвост.
Она была так прекрасна… Ни одна морщинка не изуродовала ее лицо. Придется еще долго ждать, прежде чем возраст спрячет ее от случайной встречи под покровом пятидесятилетия, когда платья, белье и чулки женщины начинают таинственно стареть в глазах ее возлюбленного, и когда он, чтобы не сбежать, должен цепляться за нее всей силой своей любви. Энн оставалось еще шесть – семь лет молодости, затем столько же – зрелой красоты, после чего ее лицо станет лишь бледным подобием и напоминанием того, чем было раньше, вызывая в сознании молодых людей ощущение, как от пропущенного свидания, и наводя на мысль о какой-то роковой ошибке в их судьбе.
В течение нескольких секунд Вилли с удовольствием представлял себе и со знанием дела заранее размещал будущие морщины на лице Энн. Особое внимание он уделял шее: там, как раз под подбородком, есть маленькое местечко, которое всегда увядает первым; возраст хватает женщину за горло, и тогда вся нежность и деликатность исчезают, уступая место суровой реальности. Вилли любовно посмотрел на свое отражение в зеркале: шея гладкая, сигара в уголке рта, чашка кофе в руке, прищуренный от дыма глаз. Главное – терпение, понадобится еще десять, может быть, двенадцать лет. Для Энн его мысли вовсе не были тайной, как-то раз в порыве любви он сам крикнул ей об этом.
Он допил кофе и со вздохом удовлетворения поставил чашку.
Глаза, естественно, никогда не стареют, что еще больше осложняет ситуацию. Нет ничего тягостнее для молодого человека, чем встретить женский взгляд, пылающий молодостью и мечтой, и сразу же обнаружить всю смехотворность того, что он обещает.
Вилли с наслаждением втянул в себя ароматный дым сигары.
После еды на щеках появятся красные пятна, которые плохо сочетаются с обильным макияжем, а ноги – да, ноги, – он задумался на мгновение, пытаясь поймать ускользающую мысль, – ноги сохранят свое изящество, но ни к чему больше не поведут, и вместо того, чтобы пробуждать желание, будут все больше и больше угнетать его. Вилли хорошо разбирался в этом вопросе, потому что в самом начале своей карьеры водил, выражаясь его собственными словами, «очень нежную дружбу» с одной зрелой дамой из Голливуда, которая обрела славу и состояние еще в двенадцатилетнем возрасте, став очаровательным вундеркиндом киноэкрана. Когда он встретился с ней, она была маленькой пухленькой женщиной, сохранившей в свои сорок девять лет детские кудряшки, отчего ее кукольное и вместе с тем морщинистое лицо приобрело вид, как нельзя лучше ассоциировавшийся с любовью к пекинесам и кондитерским изделиям. Вилли всей душой ненавидел ее из-за этих кудряшек и манер, свойственных маленькой девочке, но еще больше за то, что она сохранила непреодолимую ностальгию по возвышенной и чистой любви, которая усиливалась по мере того, как она старела. К пятидесяти годам она начала всерьез верить в Прекрасного принца и превратила вечную молодость души в старческий любовный маразм. Взглядом специалиста Вилли оценивал лицо Энн и уже не знал, от чего испытывал большее удовлетворение: то ли от своей сигары, то ли от сладкого предчувствия своей победы.
Тем не менее следовало признать, что до желаемой цели было еще далеко. Лет десять, может, больше, может, меньше, думал он, с немой мольбой вглядываясь в лицо Энн, в надежде увидеть хоть одну морщинку, хоть намек на одутловатость. Но ее шея оставалась мраморно гладкой, а то место под подбородком, с которого начинается увядание женщины, хранило изящество и свежесть лилии… Это было просто ужасно. Вилли почувствовал комок в горле. Все, что было самого нежного на земле, сконцентрировалось в этой грациозной шее, при виде которой у него просто опускались руки. Каштановые волосы Энн – тривиальное сочетание света и тени – не вызывали особых эмоций до тех пор, пока их не касалась рука. Ее карие глаза с прозрачным янтарным отблеском напоминали Вилли мерцание осенних листьев на аллеях парка, где прошло его детство. Все его предки были садовниками в имении графов д'Иллери в Турени. Когда Вилли объявил о своем намерении эмигрировать в Америку, отец проклял его и умер от горя. Теперь от парка не осталось и следа, его превратили в картофельное поле, а Вилли помог последнему из рода д'Иллери устроиться в Америке, где он имел. где он занимался. короче, где он давал уроки верховой езды. Вот так он часто придумывал себе законченные и нелепые биографии. Про него все говорили, что в нем было что-то «от идиота». К сорока годам он сохранил облик подростка, который, казалось, никогда не постареет. «Во всем виноваты гормоны. – снисходительно объяснял он своим друзьям. – Это своего рода кретинизм». Вилли уставился в огромное зеркало, занимавшее всю стену. «С кольцом в ухе и смуглой кожей я был бы похож на берберского пирата. Это напоминание о моих черных предках. Странно, почему на студии этого не заметили». Он тщательно скрывал, что кровь в его жилах была на четверть черной. Его волосы слегка кучерявились, а в чертах лица прослеживалась явная округлость, в которой отдаленно угадывались контуры африканских масок, но об этом никто не догадывался. Возможно, именно этим объяснялась его склонность к фантазии, потребность постоянно что-то скрывать, заметать следы. Разумеется, в его жилах не было ни капли черной крови, просто он сам это придумал, как, впрочем, и все остальное. Вилли достал сигару изо рта.
– Вы действительно не хотите остановиться в Париже, дорогая? Было бы глупо уехать в самый разгар показа коллекций, не купив ни одного платья.
– Я бы хотела задержаться здесь еще на несколько дней, – ответила Энн. – Я ничего не видела, кроме съемочного павильона.
– Я знаю, дорогая. Это очень, очень заманчиво. Но в понедельник у вас начинаются съемки на студии «Фокс». Мы еще вернемся сюда.
VI
Энн выросла рядом с человеком, которого несчастная любовь истерзала до такой степени, что все, имевшее отношение к любовным переживаниям, стало выглядеть в его глазах чем-то гнусным и непотребным. Имея перед глазами такой пример, она еще в детстве торжественно поклялась, что будет любить только искусство, и это решение Вилли поддерживал, как мог.
Перед свадьбой она поехала в Нью-Йорк повидать отца. Он принял ее со всей обходительностью, обычно проявляемой к малознакомому человеку, с которым не стремятся поддерживать дальнейших отношений. Был прекрасный сентябрьский день, и он заставил ее любоваться замысловатыми арабесками, которые рисовало солнце на белой, абсолютно голой стене комнаты, отражаясь в стеклянных горшках с кактусами.
– Я очень люблю стекло за его прозрачность и ненавязчивость, – сказал он. – Кроме того, приятно видеть вокруг себя предметы, которые ничего не скрывают и через которые все видно. И в этом кроется бесспорный урок мудрости. Тем не менее случается, что под лучом света кусок хрусталя внезапно начинает сверкать всеми оттенками красного, голубого, желтого, фиолетового. Да, забавно думать, что у хрусталя тоже бывают моменты слабости, страсти. Иногда это дает мне мимолетное ощущение превосходства.
Оставив ее одну, он поспешно вышел на кухню, чтобы приготовить чай. С закрытыми глазами Энн замерла в пустоте, окружавшей ее со всех сторон, словно беззвучный крик, словно безмолвный протест. Может ли такое быть, чтобы, достигнув определенной глубины, одиночество не трансформировалось во встречу: возможно ли, чтобы одиночество было неисполнимой молитвой? В этой безжизненной квартире, где все дышало холодом отчуждения, Энн немедленно почувствовала присутствие противоположного полюса – полюса страсти: именно его она старалась найти. Ей нужно было увидеться с отцом, чтобы успокоиться, чтобы найти подтверждение тому, что его сломало.
Отец возвращался, толкая перед собой сервировочный столик с чайными приборами. Он казался несколько обеспокоенным и заговорил, едва переступив порог гостиной:
– В газетах много пишется о твоей свадьбе, и я счастлив, что ты делаешь отличную карьеру. Ваши фотоснимки печатают во всех изданиях, и когда я вижу их, и слышу все эти замечательные. э-э. истории, которые рассказывают о вашем счастье, я чувствую, что вам придется затратить меньше усилий, чтобы найти взаимопонимание. Почва для этого уже подготовлена. Самое опасное для обыкновенных людей, – каким был я в твоем возрасте, – это трата собственного воображения на придумывание любви. Этот взнос настолько велик, что его всегда стремятся возместить счастьем. Но за вас хорошо поработали рекламные агенты, и вам самим не придется ничего вкладывать.
Энн наливала чай с чуть виноватой улыбкой, которая появлялась на ее губах каждый раз, когда отец, глядя куда-то в сторону, чтобы не встречаться взглядами, начинал откровенничать с ней. Он понимал всю нелепость своего отрицания, потому что оно лишь подчеркивало силу того, что он отвергал. К тому же, человек восстает лишь против того, что держит его в неволе, а мятежная жизнь – это, прежде всего, жизнь, полная ограничений. Он знал все это, но продолжат отрицать крик, ибо такова была его манера кричать. Выбор невыразительности, полутона, а также его философия абажура были не чем иным, как признанием чувственной жизни, за пределами которой он растворялся в серой мгле.
– Когда ребенок воспитан правильно, то в критический момент он не придет за советом. И тогда возникает чувство, что ты был хорошим отцом.
Энн улыбнулась, она хотела бы взять его за руку, но знала, что этот жест будет ему неприятен. Серьезность, с которой смотрели из-под ровно подрезанной седой челки его молодые глаза, окруженные сеточкой морщин, казалось, исключала всякое веселье: юмор – тоже печальное чувство. За спиной Гарантье до самого потолка возвышались стеллажи с книгами, большинство из которых, насколько она знала, являлись не чем иным, как примерами торжества полиграфии над содержанием. Гарантье часами наслаждался этими шедеврами книгопечатания, в которых главным был не смысл слов, а их форма, и где, как он был уверен, ему не встретится бесконечно вульгарное слово «любовь» в сочетании с другим, не менее пошлым – «вечная».
Они замолчали.
В такие моменты Энн испытывала к отцу нежность, которая волновала ее и была проявлением не столько дочерней любви, сколько пониманием женщины. Молчание объединяло их. Гарантье знал: она приехала к нему в поисках новой надежды, вечно свежим источником которой было его одиночество.
Жена Гарантье сбежала с мексиканским тореадором, которого знала всего двое суток. Два дня, все может произойти за сорок восемь часов, говорила себе Энн в те моменты, когда ее одолевали сомнения.
– Я видел твои последние фильмы, – сказал Гарантье, – и считаю, что ты сыграла очень искренно. Особенно сильно получились любовные сцены. Похоже, они служат тебе своеобразной канализацией. Несомненно, это потребность в самоочищении и освобождении от всего лишнего.
Гарантье набил трубку и раскурил ее: в один прекрасный день он начал курить трубку, поскольку пришел к выводу, что это коренным образом отличает его от тореадора.
– Что меня забавляет в кино, – продолжал он, – так это доступность любви: можно подумать, что у судьбы нет никаких других забот, кроме как составлять пары. Конечно, я готов согласиться, что есть люди, которые действительно способны любить, однако они тщетно ищут друг друга и никогда не встречаются.
Несколькими резкими ударами он выбил остатки табака в пепельницу.
– Ужасное влияние шекспировской или голливудской эпохи – что, в принципе, одно и то же – заключается в том, что миллионы людей проводят жизнь в ожидании и поиске, вместо того, чтобы спокойно заниматься своими делами. Великая любовь, если я могу так выразиться, конечно же, существует, но лишь в виде параллельных линий, которые никогда не пересекаются. Зато банальная любовь встречается. Я считаю, что в этом есть какая-то предопределенность: каждый мужчина должен встретить женщину, которая ему предназначена. Именно в этом вся проблема. Предопределенные встречи – это всегда банальные встречи, что же касается других, то они никогда не происходят. – он достал трубку изо рта и еще раз отчеканил: – никогда.
Гарантье махнул рукой.
– Лишь живописи иногда удается показать нам мир, отвергающий конкретные формы. В литературе, театре, кино мы еще ждем того, кто покажет всю драму параллельных линий, которые никогда не сходятся. В конце концов, чтобы человек был совершенно счастлив, ему достаточно знать о невозможности любви. Тогда он забудет о живущем в нем страхе упустить свою судьбу и постареть. Люди станут мудрецами в двадцать лет.
Тем не менее Энн показалось, что в последней фразе отца прозвучали нотки страха.
– Я полагаю, твой приезд связан с предстоящим замужеством, кроме того, ты хочешь, чтобы я еще раз рассказав тебе о матери, – сказал он бесцветным голосом, как будто никогда не прекращал говорить о ней. – Она уехала, как ты знаешь, со своим мексиканским тореадором, и они прожили вместе шесть месяцев. Потом его убил бык. Бык, – повторил он с ухмылкой, – я, как видишь, здесь ни при чем.
Он на мгновение замолчал, разглядывая чубук своей трубки, потом устремил на дочь полный нежности взгляд. Он улыбался.
– Скажи мне, Энн. ты представляешь себе, что произошло? Ты можешь представить, чтобы женщина ушла от меня к тореадору? Я говорю это не из тщеславия, наоборот. Но как она могла так ошибаться? Я хочу сказать, как она могла выйти за меня замуж?
Раньше он никогда так открыто – откровенно, без наводящих расспросов – не затрагивал эту тему.
– Вы никогда не встречались с другой женщиной?
– Никогда, – ответил Гарантье. – Человек живет только один раз.