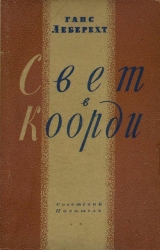
Текст книги "Свет в Коорди"
Автор книги: Ганс Леберехт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
С проселочной дороги Михкель Коор выехал на широкое шоссе. Из-под выцветшей, но еще благопристойной шляпы прищуренный взгляд Михкеля хмуро и пристально нацеливался на поля, уже давно сжатые, подернутые ржавью осени.
Осень, да – осень… Она в резком запахе картофельной ботвы, кое-где пощипанной ночным заморозком, и – в сверкании холодной росы, осевшей на паутине в придорожных кустах. Уже крылатые семена одуванчиков не трепещут в паутине и июльские мухи не застревают в ней, отчаянно вереща, а пауки продолжают плести зыбкие сети, затягивая клеверную отаву, подвешиваясь к случайно уцелевшим не скошенным былинкам. Но ведь и мух-то уж нет…
Большая дорога, вернее – отрезок ее от Коорди до города, еще с дедовских времен изъезжена Коорами. Они привыкли к ней, как к собственной тропинке, ведущей от порога дома к амбару на дворе хутора Кару. Вообще, Кооры избегали длинных дальних дорог. «На дальнем пути кошель растрясешь, – говорил дед Отто, – а на своей дороге иголку подберешь!..» И подбирали. Тот же Отто под старость во хмелю любил хвастаться, что хутор свой на мучной пыли выстроил. Так оно и было.
Мало кто на этой дороге не узнавал Кооров еще издали по их кровным лошадям, по манере ездить – серединой, широко, прытким аллюром. Дед в лошадях знал толк, растил их на продажу, барышничал понемножку. В далекие времена Российской империи в тихом уездном городишке устраивались знаменитые конские ярмарки. На этих ярмарках покупали крутошеих скакунов для конногвардейских полков. Брал на ярмарки с собой Отто внука, – приучайся… Но к тому времени, когда хутор Кару дошел до внука, картинные огнедышащие красавцы с крутыми шеями стали неходовым товаром. Вот другое дело – бекон! Бекон шел в Англию, Германию и даже чуть ли не в Новую Зеландию… Шпиг, упитанный, нежнорозовый, в меру проросший мясом… На хуторе Кару батрачки выращивали стадо йоркширов, живой ходячий бекон, чудовищную груду нежнорозового мяса.
На пути бекона были посредники – общество «Мясоэкспорт». Не так далеко от этих мест один из мясоэкспортеров выстроил дом за оградой. На воротах каменные шары, – не дом, а вилла. Крестьяне, проезжая, иронически сплевывали и, словно вспоминая слова деда Отто, – насчет мучной пыли, – с горечью говорили:
– Гляди, какая вилла на хвостики наших свиней выстроена…
Ну что ж, перепадало и Коорам…
Ходкой рысью размашисто шла гнедая кобыла, – у Кооров никогда не было плохих лошадей, это еще от деда повелось. Да и воз кобыле не тяжел: два мешка с рожью.
…Пошла каменная ограда, отороченная облетевшими акациями. Церковь святой Анны, – с громоотводом на шпиле, опасливо простертым в голубое холодное небо осени. Каменные недра за наглухо закрытой дверью, подобно свадебному, съеденному молью сюртуку в глубинах саженного амбарного рундука, хранят воспоминания о свадьбах Кооров. Сюда, на холодный камень плит, твердо и по-хозяйски, как на порог собственного дома, вступали широкой медвежьей ступней Кооры, ведя невест, перетянутых в подвенечные платья. Когда подходила торжественная минута отъезда, тридцать, сорок, пятьдесят телег, полные гостей, срывались с места и мчались с громом, перегоняя друг друга. Впереди, отделившись от головы колонны, – чтоб не смешаться с другими, – на дрожках, запряженных племенным жеребцом, – Коор с невестой, одеревянело сжимающей в руках огромный букет…
За церковью кладбище. Там дедом Отто откуплено место, кажется не для ухода из жизни, а для вечного пребывания в ней, на короткой дороге от хутора Кару до уездного города. Тем же желанием не смешаться с соседними безыменными осевшими холмиками веет от каменной ограды с чугунной решеткой. О прочности мельничных жерновов дедовской мельницы говорит неуклюжий каменный крест на могиле деда и чугунный на могиле отца.
У въезда в город начался булыжник, лошадь замедлила шаг.
Пробренчал под колесами настил через узкоколейку. Вот и предместье города. Весь город похож на предместье: одноэтажные деревянные дома, яблони и вишни в садах. Каменные постройки теснятся к станции. Там, у каменных амбаров, алый плакат протянут через дорогу: «Сдадим больше хлеба государству!» Под плакатом на улице вытянулась очередь возов, нагруженных мешками. Звенели копыта лошадей, переступавших на камне и жевавших сено и овес, прело пахло сырой землей, лошадиным навозом и чем-то очень осенним. Женщины, закутанные в шали, терпеливо сидя на возах, закусывали домашней снедью, выбрасывая яичную шелуху тут же, под копыта лошадей. Мужчины, собираясь в группы, дымили трубками и самокрутками. Михкель, объезжая колонну, то и дело подносил руку к шляпе, – много знакомых из волости, – держался строго, смотрел поверх шерстяных платков, чавкающих ртов и любопытствующих глаз. Пристальное внимание, непонятная насмешка чудились Михкелю в долгих взглядах мужчин, в косых оглядках женщин. Обернувшись, заметил, как тетушка Тильде-однокоровница припала к уху жены Татрика и оживленно заговорила, – о нем, конечно, – обе покачали головами, в узко сжатых губах – осуждение.
Михкель поднял плечи. Понятно, – о его двух мешках ржи идет разговор, он это даже спиной почувствовал. Конечно, им, однокоровницам, у кого вся-то норма госпоставок определена в один-два мешка, – они ее и привезли, – хотелось бы видеть, что и он, Коор, сполна привез свою долю на трех подводах. Зависть, что ли, их съедает?..
Горячая злость поднялась к сердцу Михкеля. Подождите, тетушка Тильде: три воза – не три мешка… Не заглядывайте на чужой двор.
И уже несколько благосклоннее притронулся к шляпе. Свояк Юхан Кянд, с красным лоснящимся лицом – успел уж где-то выпить – махнул рукой ему с высоты нагруженного мешками воза и, не стесняясь, заорал:
– Михкель, ты никак растерял все дорогой!..
У Михкеля сошла с лица появившаяся было улыбка; сухо кивнув, поехал дальше, туда, в хвост, где скромно встал за чьей-то квадратной спиной, затянутой в брезент. Сладко размял затекшие ноги, надел на лошадь торбу, пошел побродить, – ждать-то, поди, часа три…
Толкнулся было в желтую будку, – бар, – еще закрыто. Неторопливо побрел в сторону двухэтажного безоконного здания, похожего на гигантский серобетонный ящик, где тяжело вздыхало и топталось что-то и белая мелкая пыль покрывала землю. Мельница. Сюда очередь подвод поменьше: мелют по справкам только выполнившим госпоставки. Зато здесь другая очередь, не очередь, а группа людей человек в двадцать, сновала меж подводами. Больше бабы с мешками, подростки в армяках, перехваченных ремнями, и все: «Продаешь муку, папаша?.. Сколько просишь?»
За хлеб, зерно, за муку первого и второго сорта, за совсем серую платили такую высокую цену, что сами продающие обалдевали, уж и не знаешь, что просить…
Какой-то дед считал и считал пачку, потом, махнув рукой, не досчитав, сунул в карман.
«Вот он, хлеб-то!..» – остро щурясь, думал Коор, жадно втягивая в ноздри пропахший мучной пылью воздух.
Вот они как оборачивались в жизни – скупые строки из газет о неурожае в хлебородных областях Советского Союза. Правда, газеты писали еще и о том, что трудности с хлебом будут преодолены в кратчайший срок, но это не так уж интересовало Коора, это меньше запомнилось ему. Да, хлеб был дорог… Нет, уж подождите, тетушка Тильде…
Молодцевато выпрямившись, он пошел обратно. Очередь подвинулась, но немного. Свояка Кянда нашел беседующим с каким-то молодым человеком с фотоаппаратом на боку. Молодой человек в галифе, щеголевато обтягивающих коленки, был ясноглаз и дружелюбен, он порывисто и с жаром записывал что-то в блокноте. Карандаш с трудом поспевал за ответами свояка, благодушно облокотившегося на мешки.
…Да, он привез шестьсот килограммов ржи. Рожь – первый сорт. Нормы у него на первый год нет, как у новоземельца, но он по совести… Он, Кянд, в своей деревне председатель машинного товарищества. Конечно, трудности были, – дело новое, но – наладил…
Карандаш ясноглазого сломался; чертыхнувшись, он поспешно выловил в кармане другой огрызок. Наконец, торжественно закрыв блокнот, ясноглазый поспешно нацелился в Кянда фэдом, попросил сделать лицо повеселее; Кянд браво выпятился, юнец помахал ладошкой: «Так… так… – Левее, чтоб мешочки, мешочки вышли…» Под конец за что-то благодарил, с жаром жал руку.
– Наша обязанность… – солидничал свояк. – Пример должен быть…
– Это откуда? – опасливо спросил Коор, когда светлая кепка ясноглазого мелькала где-то уже около тетушки Тильде.
– Из газеты, – с напускной небрежностью сказал Кянд, – уж он-то со всеми умел! – Подхватил свояка под руку. – В бар, что ли, пойдем, – по кружке пива?
Вошли в галдеж пивного бара; обдало густым кислым запахом пива и едким дымом самосада. С трудом протолкались меж широкополых шляп и коробящихся брезентов из хлебной колонны. Кянд кивал головой направо и налево, подавал мягкую руку с толстыми пальцами, бросал тяжеловесную шутку. Он всюду был как свой. Подтолкнув Михкеля в темный угол за столик, локтем отодвинул грязные кружки, поставил полные. Подмигнув, показал из кармана горлышко бутылки, заткнутой деревянной пробкой, – выпьем?
– Товар-то настоящий – Metsa kohin[12]12
Metsa kohin – лесной шум.
[Закрыть]. В лесной чаще выцежен – только для себя…
В душном дымном тепле, выпив стаканчик сногсшибательного восьмидесятиградусного самогона, Михкель несколько смягчился духом, разнежился. Невнимательно слушал болтовню свояка о пчелином рое, открытом им в дупле липы. Не терпелось поделиться свежими впечатлениями, вынесенными с мельницы. Сказал:
– На мельницу заходил… На мучку-то спрос…
– Это да… – согласился Кянд. – Продать можно.
– А ты больно богат стал: возами бросаешься, – подмигнул Михкель, намекая на воз свояка, ожидающий приемки.
– А чего? – беспечно махнул рукой Кянд и по-родственному съязвил: – А ты уж не обеднел ли?
– А я тебе не жалуюсь… – обидчиво пробормотал Коор. – Я только к тому, что вроде цены на хлеб сбиваешь… Аппетит разжигаешь… Вон, мол, налим какой, – бери меня за жабры…
Кянд молча налил еще из бутылки без этикетки. Беспечная болтовня его на какой-то короткий миг прервалась. Он неопределенно скользнул по свояку взглядом влажных, очень светлых на безбровом лице, глаз.
– Ну чего там… – неохотно проворчал он. – Белка орехи собирала, да мальчишки все равно подсмотрели. Тебя и так как голенького видят. А ты уж очень раздражаешь, зря…
– Как так? – подивился Коор.
– Так, раздражаешь кого не надо… – снова дурашливо ухмыльнулся Кянд. – Ну, все равно, выпей-ка еще.
– Ну… а ты не раздражаешь? – спросил Михкель, медленно отодвигая стакан и стараясь поймать взгляд свояка. – Вон крестьяне говорят, что не поймешь как следует, под кем же трактор – под Кяндом или под товариществом.
– То Маасалу мутит… – хладнокровно сказал Кянд. – Да и что трактор… – Он пренебрежительно махнул рукой. – Надо будет – он и под товарищество пойдет. Только тому еще время не вышло…
Он снова дурашливо ухмыльнулся и заболтал о выводке пчел.
– Веришь иль нет, ведро меду вынул! – орал он, с притворным изумлением уставясь на Коора. – Плюнь мне в лицо, если я вру. То эмалированное ведро, что я купил у старика Кукка, – ты видел сам это ведро, – полное… А вот ведь тоже собирали пчелки-то, хо-хо…
Михкель усиленно распяливал на свояка глаза, разъедаемые дымом, прощупывал его взглядом. Лицо Кянда с круглыми крепкими щеками, с коротким крепким носом, было округло, без впадин, – поди ухвати такого, рука соскользнет с него, как с шара: не за что ухватить, зацепиться, даже веки без ресниц и белокурые волосы гладко зализаны к затылку плотным округлым чехлом.
Когда наконец добрался до окошка и просунул пробу зерна в жестяной консервной баночке, то и на лицах молоденькой приемщицы, и лаборантки, просмотревших его бумаги, прочел удивление и безмолвное осуждение. Да и весовщик, говорун и шутник, взвешивая два его мешка, молча установил движок, скучающе назвал цифру и не удостоил шуткой.
«Ничего, сойдет и столько…» – не без сладкого злорадства подумал Коор, складывая квитанцию и пряча ее в громадный тощий бумажник.
Побродив по базару и купив кой-чего по мелочи, молодцевато уселся в телеге и загрохотал по булыжной мостовой обратно к дому. Утренний, тоскливо сосущий осадок с души как рукой сняло, словно свежего ветра глотнул в городе, приободрился.
Ничего, пусть себе косятся однокоровницы, всякие тетушки Тильде, или эта завитая, в ярком ситцевом, там, за окошком… Хотите – не хотите, а хлебу своему он хозяин.
Под ровное цоканье копыт от быстрой езды в затуманенную вином голову лезли острые, тревожные мысли. Неприятно вспомнилось вскользь брошенное Кяндом предостерегающее: «Раздражаешь слишком»… Почудилась набычившаяся фигура Рунге, неотвратимо идущего тропинкой на хутор Кару – в который раз! – для нудного до тоски объяснения. Кожа на острых скулах Коора туго натянулась, встряхнулся, словно локтем отпихнул, отвел все досадное, мешающее, ненавистное… Ожесточился.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
У Роози было большое терпение; маленькие неудачи не могли повлиять на нее и вывести из равновесия. Она не ожидала быстрого исполнения желаний, потому что не привыкла к легким достижениям. Ведь даже хлеб, тот хлеб, с отпечатком капустного листа на нижней корочке, который она только раз в неделю пробовала свежим, а в прочие дни ела сухим, плотным, как глина, доставался с большим трудом. Надо было поворочать вилами да граблями, помахать косой от солнца до солнца, до ломоты в костях, чтоб иметь право прибавить к хлебу еще вареный картофель с соленой салакой и творог. Ну, а уж сверху полить творог сметаной могли себе позволить другие, вроде Коора, а не Роози. Она это понимала и не приходила в отчаяние, хотя мечта о самостоятельной жизни в своем домике исполнялась весьма медленно. Правда, теперь была у Роози земля и рыжая корова, полученная от Коора. За ней девушка ухаживала с беспокойством и болью человека, стремящегося к независимой жизни. Сняла Роози еще и кое-какой урожай овса с полей. Но, конечно, всего этого было еще недостаточно для постройки собственного домика, как бы мал он ни был, но все-таки был уже какой-то шаг к нему. И, утешаясь этим, Роози могла вытерпеть многое, в том числе неопределенность отношений с Михкелем Коором, а неопределенность давала себя чувствовать на каждом шагу. Коор скосил и свез в свой сарай всю вику с полей Роози; она сама помогала. Слушая его воркотню и жалобы на большие расходы и никудышный урожай, на дороговизну хлеба и молока, – а Роози ела его хлеб, – она с замиранием сердца старалась угадать, не потребует ли он вдобавок еще долю с урожая овса и, может быть, даже с картофеля, еще не убранного с поля. И молчаливо ворочала, гребла и поднимала вилами гигантские охапки вики на кооровский воз, чтоб хоть неистовой этой дуболомной работой и уступчивостью ограничить скрытые намерения Михкеля; она замирала каждый раз, когда видела задумчивый взгляд Коора, устремленный на ее картофельное поле. «В крайнем случае – три борозды за семена, ну – пять… на его лошади обработано…» – соглашалась она в душе на уступки.
Как-то Коор заявил, что им надо свести расчеты насчет коровки, – как-никак, она год пользовалась ею, теперь уж не те времена, он тоже не может коровами бросаться… Он берет свою корову обратно и уступает Роози годовалую телку. Породистая телка, через два-три года – хорошая корова…
Разговор происходил в полдень в хлеву. Роози, сидя на табуретке, доила свою рыжую. Роозины заботы благотворно сказались на рыжей: она выглядела лучше хозяйских коров. Роози выслушала Коора не оборачиваясь, только звон молочных струй о подойник на время смолк. Потом, когда Коор вышел, она все-таки выдоила молоко сполна, – нельзя его оставлять в вымени, – встала и, испуганно глядя перед собой и чувствуя, как что-то оборвалось в ней, пошла к выходу. В комнату она не смогла пойти, – вдруг там Коор со своим бледным костяным лицом… Зашла на скотную кухню, поставила подойник, уселась на камень, задумалась…
Роози чувствовала одно – что-то должно произойти. А если ничего не случится, то она сама должна позаботиться, чтоб случилось. Она могла многое вытерпеть, могла месяцами молча терзаться, боясь аппетита хозяина, но это… Уступить рыжую Роози не могла, это было ясно для нее… Она была готова как угодно пострадать сама, даже заболеть может быть, но корову отдать – нет! Это значило бы отступиться от мечты.
Десятки мыслей роились у нее в голове. Пойти в волость, рассказать или написать в город, в столицу, какому-нибудь ответственному человеку, наконец в суд подать… Но что знали в волости или в городе о ее устном договоре с Коором? Чем доказать права на рыжую, тем более что в волости она, кажется, до сих пор по бумагам числится за Коором. Ничего не выйдет из хлопот, как бы права она ни была… Бессильная злоба накапливалась в Роози против человека с лицом, напоминавшим ей обглоданную коровью кость. Другие живут по закону, первую долю урожая честно доставляют в город, в элеваторы, поезда развозят хлеб государству – большому и доброму, что даром дало Роози землю, обещало дом и собственную, отдельную от Коора жизнь. А Коор? Сидя на хлебе, выбросил два мешка ржи, как нищим. И никто его не остановит, не заставит сдернуть ненавистную шляпу с головы…
Роози тоненько всхлипнула и коричневыми измазанными руками вытерла глаза.
Сзади к ней подошла свинья, требовательно хрюкнула, поддала носом и опрокинула подойник; вода в луже замутилась, побелела. Свинья с довольным хрюканьем приложилась к луже. Роози крикнула «прочь!», но поленилась встать отогнать ее.
Новая мысль осенила ее. Пауль Рунге! Разве он не наказывал ей притти в нужную минуту? Теперь, кажется, время настало. Вот кто сумеет помочь!
И Роози заторопилась.
Пауля Рунге она застала на крыше его нового хлева, настилающим еловую желтую дранку; подивилась и немножко позавидовала в душе: «Уже до крыши дошел…» В самом деле, хлев, занимая половину фундамента, уже стоял под крышей. На другой половине, где должен был встать сарай, пока еще светлели необшитые стропила.
Пауль с сожалением отложил молоток и слез.
– Уж не больна ли ты? – спросил он, внимательно глянув на ее распухшие глаза.
Нет, она не больна. Но она проходила мимо и решила зайти побеседовать, тем более – есть о чем поговорить.
– Валяй, – по-приятельски поощрил Пауль. – Да, кстати, не слышно ли, когда Коор свою норму хлеба повезет наконец? Он никогда не поверит, что у Коора нет хлеба.
– Хлеба-то?.. – Роози с горькой насмешкой скривила губы, поправила платок на голове и, чувствуя ожесточенное наслаждение от своих слов, сказала: – У него хлеба столько, что твою комнату засыпать можно до потолка, и кухню тоже, и еще останется много… Он скорее сгноит хлеб, чем свезет на элеватор.
– Так, – сказал Рунге, переламывая в руках палочку. – Ты, может быть, шутишь?
Ей самое время шутить! Роози обиженно поджала губы. Разве она не знает, где зарыто…
Пауль с минуту просидел молча, ломая палочку все на более мелкие и мелкие куски. Когда она подняла глаза, собираясь приступить к сути дела, – рассказать о своей обиде, – у него было очень злое лицо.
– Роози, ты мне веришь? – странно спросил он, сердито глядя на нее.
Она… верит.
А если Роози верит, то нужно сделать как он скажет… Это важное дело… Сегодня люди Коорди смогут убедиться, что за человек Коор. И Роози должна помочь этому.
Помочь? – испугалась Роози и чуть не пожалела о своих словах.
Они поедут в волость. Она все расскажет как есть. Они разоблачат этого кулака. Он, Пауль, сейчас же запряжет лошадь.
– Сейчас?
Ей вдруг стало весело и немного томительно, как перед прыжком в холодную воду. Увидеть Коора хоть раз в жизни испуганным, дрожащим, без шляпы, лишенным могущества – не прятать перед ним своих трясущихся рук под передником… Какое это было бы счастье! Но тут же спохватилась, что о деле-то они и не поговорили.
И Пауль услышал прерываемый слезами торопливый рассказ о рыжей, – и корова-то была так себе, когда получила ее от Коора, два соска гноились, а посмотри-ка ее теперь! – о скошенной вике, о еще не высказанных, но подозреваемых притязаниях Коора на часть урожая овса и картофеля…
Пауль кивал головой: так оно и должно было случиться, он предсказывал это; не дослушав до конца Роозиных жалоб, он уже поднимался, досадуя на задержку, на не нужное и нудное копанье в подробностях.
– Так это все к одному и тому же относится, – нетерпеливо и почти грубо оборвал он. – Едем. Сейчас, запрягу.
– Корову оставят мне? – с надеждой спросила Роози.
– Оставят, – обещал Пауль. – Только мы это дело с главного начнем – с хлеба… От него все…
Ехали в телеге под водянистым осенним небом. Вез их Анту, – добросовестный мирный Анту, – за последнее время так примелькавшийся со своим хозяином крестьянам Коорди.
На какой-то миг, когда вдали за холмом медленно проплыли крыши хутора Кару, Роози померещилась фигура человека с бледным костяным лицом, задумчиво взирающего на ее еще не убранное картофельное поле. Ей стало не по себе, она сжалась, но, покосившись на широкую спину Пауля, на крутую скулу повернутого боком его лица, – он смотрел в ту же сторону, – успокоилась, даже почувствовала некоторое злорадство: «Достань-ка теперь…»
Пауль, повидимому, не догадывался о ее душевных переживаниях. Человек дела, но не лишенный трезвой практической фантазии, он сейчас уже представлял себе, во что выльется для Коора их поездка, видел круги, расходящиеся от камня, брошенного Роози. Группа людей на дворе у Коора: представители власти, он сам, Рунге, Роози… Коор выходит на порог, предчувствуя крушение… Статья в уездной газете, может быть даже в республиканской, о разоблаченном кулаке… Суд… Это встряхнет многих в волости.
– Пауль, а что с теми, с бандитами? – неожиданно послышался вопрос Роози.
– С Курвестом? Суд будет, свое получат, – встрепенулся Пауль. – А ты почему спрашиваешь?
Роози поведала об одной августовской ночи, о странной фигуре в саду, об улье…
– Что ж, очень может быть, – сказал Пауль, подумав. – Курвест передачу получал через улей… Очень может быть…
С километр проехали молча, до перекрестка с развалинами старинного трактира.
– Строиться еще не начала? – спросил Пауль.
Роози вздохнула. Где ж, когда Коор…
– А я вот тоже все вокруг фундамента верчусь, хотя и лес получил, и корову, – пожаловался Рунге. – Рожь вот наполовину сгорела…
Как поняла Роози, это тоже был отдаленный намек на Коора.








