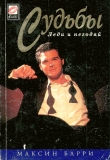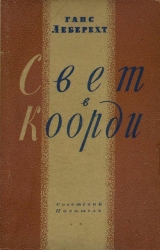
Текст книги "Свет в Коорди"
Автор книги: Ганс Леберехт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Заглушая тысячные хоры кузнечиков, в Коорди стрекотали жнейки; пришло горячее время жатвы, а за ней и молотьбы. С восхода солнца до позднего вечера под ножами жаток ложились спелые хлеба, звенели косы, вязались снопы.
Заслыша звон кос, натачиваемых поутру, словно древний столетний сигнал, не выдерживали самые глубокие старухи в Коорди: «Rukkilõikusele!»[11]11
Rukkilõikusele – на жатву ржи.
[Закрыть] Даже те, чье внимание изредка возбуждал разве только отдаленный грустный звон колокола («А кого это нынче хоронят?»), с кряхтеньем выпрямляли согнутые спины; морщинистыми узловатыми руками потуже завязывали белые платки; озабоченные, собирались и собирались еще с вечера. Поспел ведь хлеб! Вокруг хлеба вращалось все их существование, и долголетие, и каждый миг самой короткой жизни. Любовь и смерть, женитьбы и рождения, ссоры и счастье – все зависело от урожая хлеба. Хлеб был дороже покоя в теплом углу, волновал больше, чем звон колокола на погосте, потому что это была жизнь. Рожь… Золотистая груда зерна, шумящая на миллионах колосьев в поле под солнцем, – то самое счастье, которое так трудно дается в руку.
Умереть человек может и зимой и летом; смерти человек может обмануть, отдалить ее на месяц, на год, а то и на многие годы, а жатва приходит неотвратимо, ее пропустить невозможно; нельзя быть к ней равнодушным, не то польется зерно на землю, погибнет, унося с собой счастье и жизнь.
И тянулись в поле все, и мужчины, и женщины; среди других необычно бледнолицые в Коорди городские родственники, приехавшие помочь на жатве; старухи вслед за рослыми своими внучками шли в поля.
К жатве и обмолоту были прикованы мысли и разговоры крестьян Коорди; в эти дни как-то отдалились и потускнели все другие новости и события в деревне, хотя их было не мало.
Одной из новостей, занимавших Коорди последнее время, был углубляющийся разлад в семье Вао, местного патриарха, главы семьи, отца шести дочерей. Он сам, а за ним и соседи считали, что сумел Йоханнес Вао строгой родительской властью воспитать детей, которые все силы свои отдавали процветанию родного хутора. Теперь же, неожиданно для всех, оказывалось, что какие-то силы разрушили власть Йоханнеса над домом и семьей; похоже было, что дети вовсе не любили родной хутор и что старый Вао не привил дочерям любви к нему. Рассорившись с отцом, ушла Айно на Журавлиный хутор, затем ушла другая из старших дочерей, Вальве, – нашла себе место библиотекаря в соседней волости. А какую штуку выкинула младшая. Линда? Она вдруг твердо решила уйти в Таллин учиться. И не куда-нибудь, а в какой-то физкультурный техникум… Весной она удачно выступала на уездной школьной олимпиаде, у нее оказался талант, Йоханнес обещал ее выпороть ремнем, но это, кажется, не помогло. Она, как стороной узнал Йоханнес, бегала на Журавлиный хутор к сестре, советоваться или жаловаться, и после этого как будто даже утвердилась в своем решении.
Дети расходились по своим дорогам, найденным без помощи и против воли Йоханнеса. На хуторе Вао оставался сам Йоханнес с Лийной и одна из средних дочерей, Вильма. Того и гляди, и та уйдет. Кто же будет боронить и косить, сажать и убирать картофель, возить хворост и работать дома? Разве для этого Йоханнес народил большую семью, чтоб под старость самому работать за девок? Что скажут соседи, которым он всегда благодушно внушал, что порядочному трудолюбивому крестьянину прекрасно можно обойтись в своем хозяйстве без батрацкого труда и достичь крепкого достатка, и при этом ссылался на свой хутор.
Этот Журавлиный хутор, Пауль – вот что казалось теперь Йоханнесу причиной разлада не только в его семье, но и во всей Коорди. И Йоханнес проклинал Пауля, особенно когда напивался, что с ним частенько случалось последнее время. С налитыми кровью глазами ходил по двору, и из басовитого его ворчания можно было понять, что он призывает все беды на голову Рунге.
– Для чего я всю жизнь горб натирал – чтоб под старость все пошло прахом, а? – спрашивал он Лийну. – Я, честный человек, даже греха не боялся – крал… А все зачем? Все чтоб в дом…
Так бичевал он себя, все распаляясь.
Этого жена уже не могла вынести.
– Полоумный, – возвышала она крикливый голос, – что ты крал? Как ты можешь такое сказать? Не лги!
– Как? А бревна в казенном лесу? – ожесточался Йоханнес. – А разве за телегу я заплатил Анне Курвест? Я покойницу обокрал… Вот что вы все меня заставили!
И Йоханнес со злобной радостью смотрел на жену.
А Лийна уже рыдала и махала руками на мужа.
– Не лги, кто тебя заставлял?.. Это все жадность твоя… Почему ж ты не заплатил Анне?
Йоханнес тем временем хватал топор, кричал, что если уж дом валится, так и ему подавно наплевать, и что он хоть сейчас разрубит эту телегу и разнесет все к чертям. Выходил на двор, где поднимался великий шум. Возбужденно скакал на цепи пес, заливаясь радостным лаем, с кудахтаньем разлетались куры, плакала на пороге Лийна. Йоханнес подходил к телеге, но почему-то не рубил ее, а только с громом бил обухом по крепкому днищу.
Новые люди энергично проталкивались в жизнь Коорди, и об этом много говорили здесь. Взять хотя бы Пауля Рунге. Да его когда-то в волости многие вообще плохо или совсем не знали. А теперь он сельский уполномоченный; приходит на двор этот бывший батрак, здоровается – и невольно рука тянется к шляпе. Сказать об этом невысоком молчаливом кряже, что он новоземелец, хозяин Журавлиного хутора – это почти ничего не сказать о Рунге. Он теперь человек государственный. Когда он спрашивает вас, как вы справились с жатвой и как сохнет хлеб, это не просто болтовня соседа. Тут надо ему ответить точно, подробно и деловито, потому что Рунге надо знать, как регулировать маршрут молотилки. За спиной Рунге стоит сельсовет, волость, уезд, республика, наконец все государство… Вот какой человек Рунге…
И он, кажется, полезный человек – Рунге. Вместе с Каарелом Маасалу они как-то сумели снять с трактора этого мальчишку, ставленника Кянда, который никому не внушал доверия ни своим умением, ни добросовестностью. Теперь другой работает – деловой человек. Вот о свете в Коорди заговаривает Рунге, как бы организоваться да провести… Рунге может оказаться полезным человеком. От Вао, правду сказать, для волости пользы немного, только что фигура внушительная; он неповоротлив, при всем том почести любит.
Рунге говорит мало, раздумчиво, углубленно и коротко, словно из дерева слова свои вытесывает и вытачивает, – вложи в нужный паз, и ляжет каждое слово точно, устойчиво, скрепляюще. Недаром говорили, что он ученик великого сельского плотника Йоханнеса Уусталу. Такой человек нам в Коорди нужен…
Были и неприятные новости в Коорди: группа бандитов – «лесных братьев» – появилась в окрестностях. Крестьяне жаловались, что пропадают овцы и телята. Говорили, что якобы некоторые активисты в волости получили подметные письма с изображением черепа и скрещенных костей, говорили, что в парторга Муули на лесной дороге было произведено несколько выстрелов, к счастью неудачных. Связывали все это с именем Роберта Курвеста, бывшего фельдфебеля немецкой армии; его будто бы видели на лесных дорогах с автоматом на боку. Слух этот раздражал и тревожил и мешал спокойному и мирному ходу жатвы.
…Горячую пору переживали и на Журавлином хуторе. Целый день Пауль с Айно возили снопы с поля, укладывали на дворе. Большой получился омет! Уж он стоял готовый, плотно уложенный, ровно оглаженный со всех сторон вилами, а Пауль с Айно все не могли отойти от него. Что ж, тут в этом хлебном смете, было неистощимое упрямство Пауля, преодоленные за полгода жизни в Коорди огорчения и затруднения, и воловья, неутомимая работа их обоих, и будущее Журавлиного хутора.
– Центнеров по двенадцать будет с гектара, как думаешь? – спросил Пауль у Айно после долгого задумчивого созерцания омета.
– Наверное, будет… – уверенно, хотя и наугад, сказала Айно.
– Зерно тяжелое… – помолчав, сказал Пауль. – Может быть, и по четырнадцать будет, как думаешь?
– Очень может быть… – еще охотнее согласилась Айно. – Да и наверное… Зерно ведь тяжелое…
Они говорили о зерне, а думали о возведении нового хлева, о фундаменте под новый дом, о новой теплой жизни в нем. Каждый центнер нового урожая приближал к этой жизни…
С тревогой – сначала Пауль, а потом и Айно – посмотрели на небо. Багровое солнце – теперь на него можно было смотреть невооруженным глазом – садилось. Ущербленное снизу гребнем далекого холма, а сверху лезвием узкого длинного дымчато-голубого облака, багровое солнце в этот час было похоже на кусок раскаленного железного бруса, сплющенного на наковальне. Поднимался ветер.
– Только бы дождь не нагнало, – озабоченно сказал Пауль.
– Не нагонит, – успокоила Айно, хотя и ей закат не понравился. Но ей хотелось верить, что ветер не нагонит туч, а если и нагонит, что они пройдут стороной. Ведь хлеб на дворе!
Когда они при свете коптилки доужинали, на дворе стало совсем темно. Ветер усиливался, то здесь, то там трогал крышу.
Они хотели уже ложиться, когда послышались шаги; кто-то сильно нажал запертую дверь, а затем постучал.
Айно рванулась и схватила Пауля за руку, когда он медленно встал, собираясь итти к дверям.
– Не открывай… – одними губами прошептала она.
– Кто там? – громко спросил Пауль и тихо сказал Айно: – Иди в комнату… Полагайся на меня…
– Открывай… Из волости… – глухо ответил незнакомый мужской голос.
– Имя скажи… Кто? – Пауль снял со стены ружье.
– Из волости, открывай…
Стук требовательно повторился.
Пауль молча приник к двери, слухом стараясь угадать незнакомого человека, от которого его отделяла только дверь, запертая на засов. Стук у самого его лица – теперь уже кулаком – оглушительно бил в уши, пронизывал все тело и, казалось, сотрясал старые стены ветхого дома, весь Журавлиный хутор…
Стук прекратился, Пауль услышал отрывистый приглушенный говор совещающихся людей, что-то звякнуло, шаги пошли вдоль стены…
Пауль одним прыжком выскочил из сеней на кухню и задул лампу. Он сделал это во-время: ударившие на дворе выстрелы слились со звоном разбитых стекол; ветер ворвался в кухню…
Пауль бросился на пол к стенке. «Высоко взяли… цел…» – мелькнула радостная мысль.
– Ложись, – грозным шопотом приказал он Айно.
Другая очередь из автомата прошила окно в комнате. Потом смолкло. Пауль осторожно поставил дуло ружья на подоконник, усыпанный разбитым стеклом, и, стараясь целиться в сторону бревен, сложенных на дворе, где как будто ощущалось движение, нажал курки. Крупнокалиберный дробовик глуховато рявкнул два раза, выбросив снопы огня. Пауль снова бросился на пол и отполз в сторону. Снова очередь в окно…
– Тебя не тронуло, Айно? – хрипло спросил Пауль в темноту.
– Нет, – прозвучало в комнате.
Заглянув туда, он разглядел Айно, скорчившуюся у другого окна; в руках ее, как ему показалось, тускло блестел топор. Хотя все было очень скверно, он нашел в себе силы одобрительно усмехнуться.
Потекли томительные минуты неизвестности, ожидания, – что же бандиты предпримут дальше? Осторожно выглянул в окно, в тревожную темь, ничего не разглядел. Они были здесь, в этом он не сомневался, но что они замышляют? Только бы не было у них ручных гранат – не стали бы бросать в окна…
Зарядив ружье, он лежал на боку и, не выпуская из виду окна, напряженно думал, как выйти из положения. Уловчиться выскочить в заднее окно комнаты, скрыться в темноте, привести помощь… Но это невозможно, – Айно останется здесь… Может быть, услышат выстрелы в деревне – придут? До дома Кянда было полкилометра, но рискнет ли он притти, услышав выстрелы? Наверняка нет. До других хуторов дальше… Нет, одни, как есть одни… Плохо.
Пауль вздохнул и поднял голову; ему показалось, что в окне посветлело, красноватые квадраты света легли на пол. Так и есть, потянуло дымом…
«Хлеб! – болью пронзила мысль. – Поджигают скирду… Тут еще ветер этот проклятый!»
Зыбкие тени от пожарища заметались на дворе, ржаная груда ясно выступила в черноте ночи, освещенная красным трепетным светом; утоптанная солома разгоралась неохотно, но ветер помогал огню. Весь дым и искры несло на стоявший рядом хлев. Где-то уж затлела его сухая, как хворост, крыша.
Лежать здесь и не сметь не только выйти, но даже поднять голову над окном! Пауль скрипнул зубами.
– Наш скот… – с тоской сказала Айно.
Пауль наугад выстрелил в ночь. Ответные выстрелы не заставили себя ждать. Ждут, не выскочит ли он… Чорт возьми, неужели и пожарище не привлечет внимания деревни?.. Хотя что ж, хутора за лесом…
Из хлева донеслось протяжное, жалобное мычание коровы.
Айно пробежала над головой Пауля, ударилась об дверь; потеряв голову, слепыми руками шарила запор… Пауль, протянув руку, схватил ее за ногу и рывком стащил на пол.
– С ума сошла!.. – рявкнул он бешено.
Айно рыдала, царапала дверь.
ГЛАВA ПЯТНАДЦАТАЯ
Семидор яростно забарабанил кулаками в дверь хутора Яагу.
Открыл заспанный и недовольный Каарел Маасалу.
– Горит… – задыхаясь, пролепетал Семидор, схватил Каарела за рукав, потянул в комнату. – Посмотри из окна… Рунге горит!
– Где горит, чему гореть-то?.. – сердито оборвал его Маасалу, с трудом разлепив глаза. Он только что лег и тяжело заснул; спина одеревянела, ныла от дневной работы. Откинул занавеску от окна.
– Это совсем в стороне от Пауля, – ворчал он, разглядывая красноватое зарево, сиявшее над дальним лесом. – С чего Паулю гореть?.. Я тебе сейчас скажу, что горит… Это на лесном болоте Татриков сарай с сеном горит, а может быть и лес… Сушь и ветер…
Подошел босой Тааксалу со всклокоченной головой и тоже приник к стеклу.
– Скорее всего сарай… Татрика или Лаури… – поддержал он. – Ишь, как захватило… Это на добрым километр дальше от Журавлиного хутора.
В доме просыпались. Альвина разжигала лампу, не попадая от волнения стеклом в горелку. Мать Кристьяна, охая, засуетилась в комнате.
Семидор взглянул на Каарела и Кристьяна, беспомощно потоптался, как-то завял, остыл.
– Пожалуй, что и лес… развели костер и забыли… – забормотал Семидор. – Мох сухой, как порох… Сараи тоже могут быть… И скорее всего, что так…
Он уже готов был, как и всегда, принять сторону более авторитетную, согласиться с чужим мнением, высмеять собственные страхи, но… багровый свет за окном тревожно тянул, словно будил его, не давал успокоиться. Семидор снова приложился к стеклу, с минуту смотрел, и когда отвернулся от окна, всех поразило его искаженное лицо.
– Рунге горит! – закричал он с отчаянием. – Горит… Я вам говорю…
Схватившись за голову, он вдруг странно, тоненько, по-собачьи, заскулил, отчаянно взмахнул руками и заметался по комнате в тоскливом томлении – маленький, взъерошенный, совсем не смешной в эту минуту Семидор. Какие-то большие чувства вознесли его на гребень, владели им безраздельно, не оставляя места былой робости, недоверию самому себе, своим мыслям и чувствам. Он словно бы погибал снова, как там, на дне узкого колодца на Сааремаа, – догорал шнур под ногами… Словно бы горела его собственная халупа на острове; зловещие искры разлетались вокруг… Черными пустыми глазами смотрела ночь в лицо тому, кто был оставлен один на один с бедой…
– Журавлиный хутор горит… Пауль!.. – крикнул он на весь дом и топнул ногой в опорке, надетом второпях на босу ногу. – Слышите, я вам говорю… Едем!
Все это было так неожиданно, что с Маасалу соскочил последний сон; так и не закурив, он сунул обратно в карман кисет, который раскрыл было. Тааксалу, разинув рот, не мигая, дико уставился на беснующегося Семидора.
Каарел распахнул обе створки окна и высунулся на подоконник. Его резко обдало сухим, прохладным ветром. И все в комнате услышали донесшиеся со стороны леса два приглушенных ветром и расстоянием выстрела, и сразу же – автоматную очередь. Словно горох просыпался на сковородку…
Маасалу с хмурым лицом отпрянул от окна.
– Семидор, телегу запрягай, быстро… – приказал он тоном, не терпящим возражений. – Кристьян, одевайся… Чтоб в три минуты все… Альвина – два ведра на воз… топор, багор…
Сам уже надевал на ноги тяжелые сапоги.
Семидор выбежал на двор. Скрипели ворота конюшни, сарая. Медвежьими шагами протопал в кухне Тааксалу, второпях свалил ведро…
И вот, завалившись на телегу, помчались в темноте по проселочной дороге навстречу ветру, рвавшему шляпы и полы пиджаков.
Молчаливый Маасалу нахлестывал лошадь, идущую вскачь. За ним, спина к спине с Тааксалу, трясся Семидор, судорожно схватившийся за края телеги; до боли выворачивая шею, косился на пожар.
Теперь, когда на облучке с дубовой прочностью восседал Маасалу, подобно пружине, пущенной в ход, Семидор ни за что не боялся. В руках Маасалу удастся все: он может одним верным ударом вбить гвоздь в дерево; березовый комель расколет смаху, – знает, как ударить, – коса, направленная им, скосит хоть ивовую поросль; дом, построенный им, будет вечен… У Маасалу все то, чего нет у него, Семидора, – умение и удача… Уж Каарел сумеет помочь! Семидор сейчас готов был молиться на Маасалу.

Каарел свернул к светлеющему окном волисполкому. Колеса прокатились по каменному щебню, круто стали. Бросив вожжи, Маасалу громыхнул по ступеням наверх.
Сквозь запертую дверь он спросил парторга Муули.
– Парторг в городе на семинаре, – сообщил дежурный, сонный инвалид, прижимая к себе дверь и недоверчиво оглядывая топчущихся на крыльце.
– Тогда к телефону, – решительно шагнул Маасалу мимо сутулого инвалида в желтый свет лампы, в канцелярские запахи, к письменным столам.
Инвалид уселся на широкой лавке, отполированной от долголетнего употребления, сник; ленью и сном веяло от складок громадного, явно с чужого плеча пиджака, придвинул ружье неизвестного образца, нечищенное, ржавое, как и его давно не бритая борода. Удивленно мигнул: и чего это, на ночь глядя, сорвались, – загорелось, что ли? Попросил у Семидора покурить. Семидор узнал в нем местного крестьянина, старого Виллу, мастера на всякие деревянные поделки, протянул табак.
Маасалу бешено закрутил ручку телефона.
Где-то далеко зашумело, пропела скрипка, равнодушно ответил далекий женский голос.
Каарел Маасалу не разжать было каменно сцепленных челюстей, молчал. Кого, ну кого спросить в эту темную ночь, в тихом свете лампы, озаряющем сонную рожу Виллу, когда человек в беде – Пауль Рунге, товарищ, друг, с кем пилили деревья в Водьясском лесу, ели вместе сухой ржаной хлеб, резали шпиг тоненькими пластинками? К кому воззвать?
Женский голос раздраженно переспросил. Тогда Каарел нашелся.
– Партию!.. – заорал он. – Партию дайте мне!..
Телефонистка все переспрашивала.
– Ну да, уком партии… – обрадованно, что нашлось настоящее слово, орал Маасалу. – Уком… Можно и дежурного…
Боясь дохнуть, сверлили его затылок взглядами Тааксалу и Семидор.
А Каарел, прирастая к трубке, кулаком рассекая воздух, кричал о нападении, о пожаре и выстрелах на Журавлином хуторе… Еще раз повторил кому-то другому, подошедшему…
– На машине выезжают… Через полчаса будут, – торжествующе сказал он, оборачиваясь к друзьям. – Ну… быстро.
В дверях Маасалу, спохватившись, оглянулся на инвалида, шагнул обратно, молча и деловито сгреб ружье.
Виллу, выпучив глаза, вцепился в него, забормотал, но тут Тааксалу локтем легонько отодвинул его на лавке и внушительно сказал:
– Сиди… Тут государственное дело… Патроны есть?..
Из кармана, вываливающегося из подкладки вислого пиджака, Виллу вынул патроны.
И снова – вскачь в темь, туда, к зареву… Держись, Пауль Рунге, держись, старина!
Приходилось ли доброй кобыле Хильде когда-нибудь скакать так, как в эту ночь?.. Хильде, наполовину принадлежавшей Маасалу, наполовину Семидору. Как-никак, эти два хозяина берегли ее, порой, случалось, ворчливо упрекали друг друга в нерадивости к ней. У них она раздобрела… А теперь к немилосердному железному понуканию одного согласно присоединялся визгливый, подзуживающий голос другого:
– Поддай жару ведьме!..
Искры летели от камней, попадавших под ноги Хильде.
Сумасшедшая была ночь…
Семидор потом много раз пересказывал эту историю. Увлекаясь, он показывал, как они, привязав Хильду в кустах, стали подползать к горевшему хутору. Там вокруг светло на километр, весь хутор виден как на ладони, до скворешника на березе… Горит скирда, горит хлев, уже угол дома занялся… Подползли близко по канаве к кустам, видят: за бревнами прячутся два человека с оружием в руках. Маасалу приложился, выстрелил. Заметались те двое, оглядываются, ничего не понимают. Маасалу еще выстрелил, а Тааксалу, заложив пальцы в рот, пронзительно засвистал… Те кинулись в поле, – трое их оказалось, – бегут пригибаясь, а один отстает заметно, прихрамывает, видно ранен… Пауль выскочил на двор с женой… Айно – подумать только – в горящий хлев кинулась, скот спасать, сумасшедшая совсем… Пауль за ней. Да где там, разве выведешь скотину из горящего хлева, – ни за что не выйдут. Только Анту, старый мерин, прах его побери, за Паулем вышел! В это время милиционеры подоспели. Куда, спрашивают, они побежали? Маасалу вместе с ними в облаву пошел. Тут еще народ стал сходиться из Коорди. Стали спасать что можно…
Люди встали в цепь от колодца до пожарища. Первой у колодца встала Айно, отпихнув кого-то локтем. Это было ее место – хозяйки Журавлиного хутора; она готова была отстаивать его до последнего снопа ржи, до последнего уголька.
Татрик проворно принимал от нее ведра; лицо у него было торжественное, словно он того и гляди скажет: «Вот когда мы поженились с Мари…»
Влился в цепь и угрюмоватый, нелюдимый, живший на отшибе Мейстерсон. Ну как не помочь честному человеку-хлеборобу в беде! «Вот сам попадешь в беду, и тебе никто не поможет…» – так он объяснил дома жене, не пускавшей его на пожар.
И Антс Лаури, и маленький, всегда такой незаметный Прийду Муруметс, живший на краю Змеиного болота, были здесь… Чорт бы побрал этих бандитов проклятых! Только человек от трудов своих выпрямляться стал, о полезных для всех делах заговорил, большое задумал, – свет в Коорди провести, – а его словно косой по ногам… Чорт бы их побрал!.. Подавай скорей, шевелись, шевелись, Прийду, не мешкай, спасем что можно!
Роози Рист встала в паре с Кристьяном; как это получилось – они и сами не разобрали. Самозабвенно работала Роози, передавая Кристьяну ведра, обильно плещущие спасительной водой. Спасти людей, которые решили вдвоем выстроить себе теплую крышу над головой, посеять хлеб, завести общую жизнь, семью – спасти, отстоять – о, как Роози это понимала!
Замыкающим стоял Кристьян. Принимая от Роози воду и могучими взмахами выливая ее на шипящие угли, он сшибал огонь, скашивал столбы едкого дыма. Молчанием своим, мерными своими движениями он как бы выражал согласие с мыслями Роози. Да, надо спасти человека, и спасем, если возьмемся дружно, зальем, затопчем огонь, поднимем дом снова, вознесем стены…
Всю эту живую цепь питал Семидор… Он безустали крутил и раскручивал ворот, весь мокрый от жаркого пота и холодной воды, взъерошенный, без шляпы. Все крутил и крутил… И победно бормотал, обращаясь не то к себе, не то к Паулю, затерявшемуся в сутолоке:
– Вот видишь… как хорошо, что воду открыли…
Над Журавлиным хутором встал легкий прозрачный предрассвет – тот миг, когда уж так светло, что землю можно увидеть до самого горизонта; само солнце еще не показалось, но уже ощущается близко, неминуемое, жданное, прекрасное. Вот-вот вспыхнут осиянные светом верхушки высочайших елей…
С восходом солнца все встало на свои места. В лесу вдали смолкли звуки погони и выстрелы. Осенний лес стал ярким, просвечивающим и радостным в своей багряно-желтой пестроте. Пожарище, такое грозное ночью, оказалось всего-навсего небольшим черным обгорелым пятном под несравненной глубины голубым небом. И не так уж страшен был вид выгоревшего хлева, ощетинившегося черными ребрами. Полуобгорелый омет, дымясь паром, еще живо напоминал о ночи. Но и его уже кто-то заботливо очесывал граблями – счищал черный пепел; уже раздавались утешительные голоса, что половина хлеба все же уцелела, вот только высушить, а там можно и в машину…
Пауль присел на бревно. За ночь он осунулся, на щеке горела ссадина, он не замечал ее, как не замечал своих черных, измазанных углем, обожженных рук; глаза воспалились и горели от бессонницы, волнения и усталости. Кружилась голова, словно легкий туман стоял перед глазами. Рассеянно, стараясь сосредоточиться, оглянулся вокруг.
Как много народу… Когда они только пришли сюда – люди из Коорди: Татрик и Лаури, и даже маленький Прийду Муруметс, приболотный житель, которого он и знал-то плохо, и Тааксалу, и Семидор – все больше из его участка. Однако Коора и Кянда нет… Но другие пришли помочь… Много ли добра он им сделал, но вот пришли…
Вот Маасалу, славный друг Маасалу. Что он говорит? Поймали. Двоих поймали. Кого? Роберта Курвеста… Ах да, ведь Маасалу ходил ловить бандитов и теперь вернулся; его тесно обступают.
– Весь лес прочесали… – рассказывает Маасалу. – Отстреливались, гады… Курвест в ногу ранен.
Ба!.. А это кто там степенно шагает, седоусый, с широкими вислыми плечами, с воловьей шеей; черная выгоревшая фетровая шляпа грибом надвинута на лоб. Неужто сам Йоханнес Вао?
Хотя и последним, но Йоханнес пришел.
Он обстоятельно осмотрелся, постоял у полусожженной скирды и вдруг суеверно стащил шляпу. Хотя он не терпел Пауля Рунге, но – жечь хлеб? Перед сожженным хлебом он снял шляпу. Три поколения семьи Вао поднялись в нем, сам прадед Давет разгневался, поднял голову – тот самый Давет, который, откупившись от барона, первым пришел на хутор Вао, где тогда был лес, болота и камни. И умер-то, надорвавшись над камнями, которые выдирал, расчищая поле под хлеб. Жизнь каждого последующего поколения семьи Вао уходила только на то, чтоб очистить, вспахать, возделать, прибавить к начатому Даветом несколько гектаров нового поля под хлеб… Он, хлеб, был дорог, как жизнь, и кто поднимал руку на него – тот был убийца. И Йоханнес Вао готов был проклясть его.
Пауль видел – не мог не видеть – явное сочувствие во взглядах, обращенных к нему. Паулю что-то советовали, кто-то предлагал одолжить телегу. Ах да, ведь телега и сани тоже сгорели…
Но странно – тяжесть потери как-то уж и не давила смертным грузом. Не потому ли, что здесь были Семидор, да Каарел с Кристьяном, и Роози вон там, и с ними другие люди из Коорди…