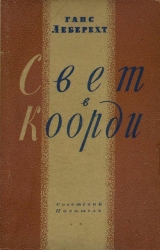
Текст книги "Свет в Коорди"
Автор книги: Ганс Леберехт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Спустя же неделю другой военнопленный и в самом деле сбежал от Марта; после этого Курвест, боясь мести, стал наглухо запирать на ночь все запоры. Однако свез свиную тушу к коменданту и попросил новых военнопленных. Ведь надо же было кому-то работать на полях Марта. Март запутывался…
Потом пришло известие, что младший сын Густав убит на фронте под Нарвой. Март принял известие как-то удивительно спокойно, словно предчувствовал несчастье. Мести он ожидал…
Трещины нее разрастались, вплоть до ночи, когда наступил конец.
Как он сказал уходя?
– Ты ответишь мне за целость всего…
Кажется, она была плохим сторожем… Потеряв веру в силу хутора Курвеста, она стала равнодушна к его судьбе.
Объявлялись мужнины родственники, о существовании которых Анна даже не подозревала, вспоминали о каких-то старых долгах. Увели несколько коров на содержание, – «Сааму, ведь теперь трудно одному управляться с хозяйством…»
Постепенно Анна привыкла к этому..
Да и соседи, в честности которых Анна никогда не сомневалась, растаскивали имущество Марта со спокойной душой. Люди не становились от этого хуже в ее глазах. Так делали в Коорди все, кто хотел разбогатеть, это Анна понимала. Так и Курвесты приобрели свое богатство – силу, в которую Анна когда-то свято верила.
Так поступала и сама Анна. Разве, рассчитываясь за работу с поденщиками, она не старалась вместо муки первого сорта, как было договорено, отделаться вторым сортом или же всучить и вовсе заплесневелую, а свинину и баранину выделить им потощее да попостнее и чтоб костей побольше?..
Прожив четверть века с Мартом Курвестом, она в конце концов перестала замечать мытарства брата Сааму, перестала видеть безропотный труд его и даже ворчала и покрикивала, когда он не успевал поворачиваться со своими ведрами. Жизнь на курвестовском хуторе незаметно для Анны сделала ее подобной мужу – Марту Курвесту.
И только теперь, когда болезнь съедала Анну и поздно было бы что-нибудь поправить, когда Анна готовилась уйти из этого дома, она вдруг впервые за многие, многие годы с острой болью заметила худые лапти на ногах брата и продранный на локтях пиджак, который разве нищему впору выбросить, заметила, как он состарился – Сааму, ссутулился. И, увидев, поняла с испугом, что виновата; может быть, не менее виновата в судьбе Сааму, чем и сам Март Курвест: сердцем хотела брату добра, а на деле помогла превратить его в пожизненного батрака. Подобно углю, вынутому из печи и тлеющему на ладони, жгло это сознание ее душу. Вот почему возня соседей вокруг ее хутора и добра оставляла теперь Анну равнодушной. Другие мысли занимали и мучили ее.
Беспокойной памятью она ворошила и ворошила прошлое. Так старая дева-вековуша с небогатого хутора под старость выворачивает из всех ящиков свои богатства и отряхивает от пыли, – копила всю жизнь, а вот ведь ни одной нужной вещи; не на чем остановиться глазу: все блекло, все убого, никому не нужно, и бедно, и никуда не годится…
Где же заветное сокровище, что оправдало бы прожитую жизнь?
Как же, как же случилось, что она, красавица Анна, способная принести радость людям, никому не принесла любви и радости и сама их не испытала, и никто ее не любил?
Из мутного тумана перед глазами Анны встает сморщенное розовое лицо старого регента Шютса. В плохо освещенном зале народного дома пахнет керосином. Какой-то праздник – столько румяных круглых девичьих лиц!.. В синих тройках парни с самых дальних хуторов. Сколько их сегодня набилось в зал!
Анна испуганными глазами следит за дирижерской палочкой учителя. Взмахнул! Чей это серебряный голос торжествующе взвился над другими голосами, забился в окна, как птица, залетевшая с воли. Неужели Анна? Да, конечно, это ее голос; она видит радость в восторженных глазах старого Шютса, одобрение на лицах людей, занявших все проходы в зале.
Странная песня – старинная, народная, сложенная во времена баронского владычества; легкий порхающий напев, а слова грустные:
Есть у нас птица Мидри,
Крылья у нее луженые,
Когти у нее медные,
Много нам зла она сделала —
Съела в саду всю смородину,
С корнем гвоздику повырвала.
Хор весело и грозно пел:
В лес улетела и скрылася,
Сети готовьте – ловить ее.
И Анна с сияющими глазами – словно готовая схватить птицу Мидри – ярко выделяясь в хоре своим прозрачным и сильным сопрано, с воодушевлением пела:
Ставьте силки, чтоб схватить ее!
Ведь любили же тогда Анну! Но она ушла из хора старого Шютса, ушла от людей и этим погубила себя.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Прекрасно возвращение в родной обжитый дом к прерванной работе. Но не менее радостно возвращение в родные края, когда вы едете возводить этот дом – строить его весь с начала, от первой ступеньки крыльца до последнего кирпича в трубе очага.
Пусть у вас сейчас нет ничего, даже праздничной сорочки, чтоб надеть ее в воскресенье, только самые необходимые вещи уложены в заплечный мешок. Но почему это не смущает вас, откуда такая беззаботность и радость сердца, словно вы счастливее всех на свете?
Вам тридцать два года, вы в расцвете сил, с Великой Отечественной войны возвращаетесь победителем. Жизнь научила вас верить в свои силы.
Мало кто из пассажиров на таллинском вокзале узкоколейной железной дороги в декабрьский холодный вечер обратил внимание на невысокого, плотно скроенного человека лет за тридцать, одетого в военную форму без погон, когда он вошел в узкий вагон, полный народа. Забросив вещевой мешок на полку, он попросил разрешения сесть рядом с толстой крестьянкой в пестрой шерстяной шали.
Когда человек снял солдатскую ушанку с отчетливо заметным следом от снятой звездочки и, не торопясь, расстегнул шинель, он как-то удивительно стал похож на сидевших в вагоне крестьян. Такое же грубоватое, но крепко вылепленное лицо со сдержанно нащупывающим взглядом; брови и густые волосы гораздо светлее обветренных красных скул и носа. И сидел он также по-крестьянски – прочно, чуть ссутулясь, и даже прикуривал, как и они, бережно заслоняя огонек ладонями, хотя ни снег, ни ветер тут не мешали.
Человека мало кто замечал, но он жадно смотрел на всех светлыми, словно оттаявшими и потеплевшими в многолюдном вагоне глазами.
Пауль Рунге с документами демобилизованного в кармане возвращался в родные края.
Маленький паровоз, извергая из трубы густой коричневый сланцевый дым, медленно полз от станции к станции, надсаживаясь упорно брал подъемы, быстро катился под уклон, и тогда людей, сидящих в узких вагонах, похожих на товарные, толкало как в трамвае.
На станциях поезд стоял долго – так долго, что на одной остановке гигантского роста крестьянин в полушубке и в нахлобученной на уши меховой шапке успел обойти все вагоны, не спеша обращая в раскрытые двери, в вагонное душное тепло все тот же вопрос:
– Нет ли здесь Юкку Лукка?
Дойдя до паровоза, удивленно сказал машинисту, вышедшему покурить:
– Не приехал Юкку Лукк…
На что машинист ответил:
– Да, что-то его не видать было на вокзале, – приедет завтра…
Пауль Рунге, наблюдавший это со стороны, усмехнулся. Он узнавал родные края. Ничего удивительного не было в том, что машинист знал Юкку Лукка, как и гиганта в меховой шапке. Здесь машинисты знали пассажиров, садящихся на полустанках. Деревенские старухи в пестрых шерстяных платках, подъехавшие к поезду санях, запряженных сытыми конями, знали в лицо машинисток.
Этих старух на ковровых санях, встречающих родственников, узнавал Рунге, как узнавал и маленькие опрятные станции и дальние сельские огни, по-домашнему приветливо мелькавшие между перелесками средь синих зимних полей.
Места родные…
Сосед Пауля Рунге, веселый толстяк-крестьянин, парившийся в своем меховом жилете, вытащил из недр туго набитого заплечного мешка бутылку и пустил вкруговую в группе мужчин. Он церемонно предложил ее сначала Паулю.
– С большой дороги, – благодушно сказал он.
Пауль отпил, и настроение его стало еще лучше.
Кто-то рассказывал о приключениях неизвестного Паулю лесника Юхана Килька. Как-то показалось леснику, что он напал на логово медведя: над снежным сугробом в чаще поднимался столбик пара. Сообщил об этом господину фабриканту, страстному охотнику. Тот внес сто крон в казну за право убить медведя. И повел Юхан Кильк охотника с его друзьями-собутыльниками добывать медвежью шкуру. Однако под снегом дышал не медведь, а ручей… С горя охотники выпили. А потом господин фабрикант, услышав треск в кустах, заметил там медведя и выстрелил картечью. А это был не медведь, а Юхан Кильк, который отошел по нужде. За беспокойство господин фабрикант извинился перед Кильком и подарил ему одну крону.
– …Все-таки штаны лесника при клике[1]1
Клика – буржуазное эстонское правительство.
[Закрыть] стоили в сто раз дешевле шкуры медведя… – подмигнул рассказчик, лысый старик с подвижным лицом и ехидным прищуром глаз.
Потом в вагоне кто-то затянул песню.
В Вяндраском лесу, в Пярнумаском уезде,
ухайди, ухайда.
Старого медведя застрелили,
ухайди, ухайда…
Соседи подхватили, и с ними вместе Пауль Рунге. Потом пели «Лодочника из Вильянди» и «Куста запряг белого копя». На большой станции кто-то принес еще бутылку вина. И каждый, отхлебнув из нее, рассказывал что-нибудь веселое и забавное из жизни, как и полагается в хорошей компании в пути. Но если вдуматься, то над каждым рассказанным пустяком стоило поразмыслить, ибо вместе с забавным крылось в нем и грустное, как это часто бывает в жизни.
Ехали всю ночь. На пути многие выходили, но в вагон входили новые пассажиры, и так как тут было много знакомых, компания не таяла.
Уже рассвело, когда поезд остановился у станции Пауля Рунге. Он застегнул шинель и надел шапку.
– Твой хутор здесь? – спросил его сосед.
– Да… – запнувшись, ответил Пауль Рунге.
Его не встретили ковровые сани, запряженные гладким сытым жеребцом, – некому было встретить, но это не могло испортить его настроения. Оно было ясное и радужное, как и этот солнечный и яркий декабрьский день. Рунге быстро шагал по широкому, гладко раскатанному шоссе, острым внимательным взглядом всматривался в окружающее. Знакомая дорога… Вот там на развилке старинный полуразрушенный трактир, грубо сложенный из плитняка. За ним крутой поворот с мостом через узенькую речку Коорди и с водяной мельницей у самой дороги. На эту мельницу он, Пауль Рунге, до войны приезжал молоть муку Курвеста.
Дальше путь Рунге лежал мимо каменного здания старинной помещичьей усадьбы, – белая колоннада его хорошо была видна из-за зимних деревьев парка. В парке с криками бегали дети. «Теперь там школа», – догадался Пауль. Недалеко от мызы помещалось здание волисполкома; красный флаг виднелся с дороги.
– Туда зайду завтра, – решил Пауль. – Раньше посмотрим…
Он свернул с дороги и минут через десять стоял у приземистого каменного дома, давно не покрывавшегося известкой. В таких одноэтажных, построенных из плитняка зданиях у помещиков когда-то жили ключницы, садовники и челядь. Вошел на широкий двор. Из раскрытых дверей сарая слышались звонкие удары по железу. Под окошком хлева дымился свежий конский навоз.
Пауль Рунге постучался в тяжелую дверь. Она неторопливо открылась. Среднего роста человек, стройный, весь словно сбитый из мускулов и жил, стоял на пороге и, держа в руках клещи, с минуту спокойно всматривался в Пауля.
– Пауль Рунге вернулся, – так же спокойно сказал он через плечо в комнату. – Входи, Пауль.
– Здравствуй, Каарел Маасалу, – поздоровался Пауль.
В большой темноватой кухне было немного дымно. В очаге трещал огонь; две женщины хлопотали около него. В одной из них Пауль узнал Альвину, жену Маасалу, в другой старуху Меету, мать Кристьяна Тааксалу.
Женщины пододвинули гостю стул.
– У меня подковы в огне, – кивнул Маасалу на клещи. – Лошадь подковываем. Я скоро освобожусь, не обращай внимания. Раздевайся, садись. Скоро будем обедать.
– Действуй… – засмеялся Пауль. – Я посижу, посмотрю…
Он узнавал Каарела. Не в привычках Маасалу было волноваться. Говорил он сейчас так, словно и не было долгой разлуки и они только что распилили гигантскую сосну там, в Водьясском лесу, где целую зиму работали на одной пиле, валили деревья в зимней белой чаще. В полдень, посмотрев на небо, Каарел хлопал рукавицей об рукавицу.
– Пора хлеб из мешка вынимать, – говорил он. – Будем обедать.
На скупо тлеющий костер ставили черный ячменный кофе, из холщевого мешка с провизией вынимали круглый крестьянский хлеб, соленую салаку и шпиг. Черствый, твердый, как полено, хлеб толсто нарезали острым финским ножом; шпиг, соленый как треска, резали тонкими пластинками. По-братски делили сухую батрацкую еду, запивая обжигающим кофе.
Пауль не без удовольствия осматривал жилистую фигуру Каарела, одетого в рабочую куртку из толстого сукна и в брюки, подхваченные у щиколоток. Забыв снять шинель, Пауль следил, как Каарел, запустив клещи в плиту, ловко вынул докрасна накаленную подкову и молниеносно заработал молотком. Ох, умел этот человек работать – пилить лес, пахать, сеять!..
– У кузнеца очереди не добьешься… – отрывисто говорил Маасалу, отбрасывая подогнанную подкову. – И зачем… Я и сам сумею – Тааксалу поможет. Он сейчас в конюшне у лошади. Я скоро… А ты молодцом выглядишь – молодцом, – сдержанно, по-мужски похвалил он Пауля.
Он вышел с подковами.
– Вы извините его, – смеялась Альвина, поспешно расчищая гостю стол, заставленный какими-то коробками с гвоздями и инструментами. – Вы знаете, Пауль, он и в день свадьбы рабочую куртку надел, – насос колодца испортился, – чинить пошел… А теперь в особенности работы много. Вы – насовсем в Коорди?
– Насовсем, – медленно ответил Рунге и задумался, разглядывая инструменты на столе.
Маасалу не задержался. За его крутыми плечами Пауль увидел смеющееся широкое лицо Кристьяна Тааксалу.
– Подковали, – сообщил Маасалу и со стуком бросил инструменты в ящик под столом. – А теперь пообедаем и поговорим. Вот и Тааксалу здесь, и Семидор придет. Хорошо…
Тааксалу, весь сияя доброжелательной улыбкой, долго не хотел выпустить руки Пауля из своей широкой лапы, распухшей и побагровевшей на морозе. Его низкий рокочущий бас сдержанно загудел на кухне.
– Ну вот, теперь и ты на месте, а? Хорошо, хорошо… Тысячи верст прошел, а волости Коорди не миновал, а? Хо-хо-хо…
Он оглушительно захохотал и шутливо подтолкнул Пауля локтем.
– Нет, это хорошо, что ты пришел, – успокоившись и усаживаясь на скрипнувший под ним табурет, говорил он. – Уж раз мы Семидора-неудачника пристроили к делу, так тебя подавно устроим.
Толстые щеки Кристьяна стали надуваться, и он снова захохотал.
– Куда же вы пристроили Семидора? – усмехнувшись, спросил Пауль.
– Как, ты не знаешь? – удивился Кристьян Тааксалу, словно все должны были быть в курсе событий в волости Коорди. – Землепашец. Его поля теперь с нашими граничат. Спроси Каарела.
– О, Семидор-неудачник землю пашет? – искренне удивился Пауль.
– Пашет, – кратко подтвердил Каарел Маасалу. – Осенью вместе пахали. Сначала у себя с Кристьяном, а потом у Семидора.
– У Семидора, брат, теперь пол-лошади имеется… – снова стал надуваться Кристьян. – Нет, ты спроси у Каарела…
– Ну, будет тебе, – нахмурился Каарел. – Эти мы с Семидором лошадь на двоих купили, – пояснил он Паулю. – У Тааксалу лошадь имеется, у меня с купленной выходит полторы лошади, а у Семидора – половина. На троих три лошади. Осенью пахали вместе, – два коня в плуге.
– Семидор пахал… – подхватил Кристьян. – Оставили мы его как-то на часок одного, ушли с Каарелом. Возвращаемся, – лошади стоят, а Семидор на камешке сидит. «Ну, – говорю Каарелу, – Семидору, как всегда, не повезло, наверное…» Подходим, а он обломок лемеха в руках вертит и в затылке чешет: «И откуда этот проклятый камень взялся на дороге. Словно из-под земли выскочил…»
Кристьян нахлобучил шляпу на уши, изобразил на толстом своем лице крайнее недоумение, сокрушенно поскреб в затылке, и Пауль, узнав Семидора, засмеялся.
– Ну что ж, наверное досталось бедняге? – спросил он.
– Да нет, что там, – сморщил нос Кристьян. – Ругать его – хуже теряется. Его всю жизнь ругали. Мы ему – ни слова… В тот же день сварили лемех в кузнице, и опять пошло дальше. Один бы Семидор, наверное, три дня камень этот там разглядывал.
Пауль вытащил из кармана папиросы и предложил. Закурили. Альвина пронесла дымящийся картофель на стол.
Пауль почувствовал голод.
– Как же вы живете? – спросил он, оглядев задымленный потолок кухни и пустые ее стены.
– Еще не успели побелить, пока черной работы много, – словно извиняясь, сказал Кристьян Тааксалу, проследив за его взглядом. – Первый год ведь только…
– Живем дружно, – сказал Каарел Маасалу. – Вот дом дали. Кристьян занял левую половину, я – правую. Сходимся на середине, на кухне, тут наш совет семейный. Семидор частенько наведывается.
– Поля осенью засеяли, на весну семена есть. Хлеб есть, – поддержал Тааксалу.
– Значит, идет дело? – жадно затянулся дымом Пауль.
– Идет, – кивнул головой Каарел. – Жить можно.
Кто-то зашаркал в передней, отряхивая снег с обуви, потом вежливо постучал.
– Вот и Семидор, – сказал Тааксалу. – Он и в свой дом всегда стучится. Не привык еще…
И все увидели Семидора таким, каким он был всегда. На большой голове старая смятая фетровая шляпчонка, на острых плечах обвисшее протертое пальто, когда-то черного, а теперь неопределенного цвета. С морщинистого кирпично-румяного маленького лица задорно и далеко не уныло смотрели голубоватые быстрые глаза. Лицом он не был похож на неудачника, хотя он и был им по общему признанию. Из-под шляпы обнажилось лысое темя и пучки волос на висках, тронутые сединой.
– Из дальнего плавания? – весело спросил он надтреснутым тенорком Пауля и проворно схватил его за руку. – Оснастка цела? Ну и хорошо…
И заговорил. В несколько минут он наговорил больше, чем Маасалу и Тааксалу за час. Он вмиг осмотрел Пауля всего, не только осмотрел, но и потрогал. Потрогал медали на груди и орден.
– Это что – Красная Звезда? Ну и ну… – Подивился толстым подметкам фронтовых сапог, пощупал их добротность. Даже алюминиевый портсигар Пауля на столе привлек его внимание. – Он что – алюминиевый? И сам гравировал? А это что за рубчики здесь?
– Рубчик – месяц войны, – сдержанно объяснил Пауль.
– Много, – вздохнул Семидор, – много рубчиков.
Затем, заметив выжидательный взгляд Маасалу, он спохватился и поспешил сказать ему:
– На мельнице я был сегодня, – все в порядке.
Видно, Маасалу среди этих людей задавал тон. Недаром Кристьян Тааксалу чуть ли не после каждой фразы повторял: «Спроси у Каарела, если я вру…»
– Прошу к столу… – попросила Альвина. И все – Пауль, как гость, впереди – проследовали на половину Маасалу, где на чистой скатерти дымилось громадное блюдо баранины, обложенное вареным картофелем, брюквой и капустой.
– Вина нет, – огорченно сказал Маасалу, – извини, Пауль. А пиво из будущего урожая сварим. Подождать придется.
– Минуту! – попросил Пауль.
Выйдя на кухню, он покопался в своем вещевом мешке и вынул бутылку, запечатанную сургучом. Альвина принесла стаканы. Все молча следили, как Пауль наполнял их вином, потом также молча посмотрели ему в лицо, когда он поднял руку со стаканом.
– На слова я не щедрее Каарела, – торжественно сказал Пауль. – Да и зачем их говорить много, надо искать самые нужные… Мы здесь все новоземельцы, правда? Так выпьем за то, чтоб мы все, здесь сидящие, стали хозяевами жизни в Коорди. Вы понимаете меня? Выпьем за советскую власть, что дала нам землю! Elagu![2]2
Elagu – да здравствует!
[Закрыть]
– Elagu! – сказали Каарел Маасалу, Тааксалу и Семидор, и все выпили, а потом заработали ножами и вилками.
– Как же ты решил, Пауль? – спросил наконец Маасалу после продолжительного молчания, отставив тарелку. И все за столом положили вилки, ибо это было сигналом к серьезному разговору.
– Я еще из армии подал заявление на хутор Курвеста, – сказал Пауль. – Не знаю, как волисполком на это смотрит…
– Хутор хороший, земля хорошая, – одобрил Каарел.
– Прекрасная земля, – восторженно подтвердил Семидор, – и какой колодец в этой земле я пробурил старому Курвесту. Только он мне остался порядочно должен, а потом вместо долга всучил шляпу, ту, что я донашиваю сейчас…
– Да, шляпа неказистая, – с презрением заметил Тааксалу.
– Но земля хорошая… – пробормотал Семидор.
– Что сейчас на хуторе делается? – с интересом спросил Пауль.
– Пустует… – коротко объяснил Каарел. – Анна Курвест умерла осенью, Сааму теперь за хутором присматривает. Поля не засеяны. Но слышно, что на хутор еще заявления есть, – кусок-то лакомый.
– Вот как, – удивился Пауль, неприятно пораженный. – Кто такой?
– Не знаю, не наш, говорят, из соседней волости. Председатель Янсон, кажется, к нему благоволит.
– Ну что ж, – помедлив, сказал Пауль. – На хуторе Курвеста двоим места хватит.
– Вполне, – согласился Маасалу. – Уживетесь, как мы с Кристьяном. На хуторе скот есть, семена. Все получишь. Вот тебе и начало. Ну, что ж тебе еще сказать? На помощь позовешь – не откажусь. Ты меня знаешь.
– Я тебя знаю, – кивнул головой Пауль. – Ты придешь.
– Не забудь позвать меня, – напомнил Кристьян Тааксалу.
– Мы все придем, – гордо сказал Мартин Семидор.
В голове у Пауля шумело, когда он, в отличном настроении, направлялся на хутор Курвеста. Думая о новых хозяевах хутора Яагу, он усмехался. Положительно нравились ему эти два друга – Маасалу и Тааксалу. Каарел Маасалу, – старый приятель, – это такой кремень, – из любого камня огонь добудет. Кристьян Тааксалу тоже славный мужик, правда – несколько рыхлее Каарела. И теперь к ним примкнул еще Семидор. Семидора Пауль знал меньше. Этот человек, родом с острова Сааремаа, появился в волости лет двадцать тому назад и стал бурить колодцы крестьянам. Все как-то очень быстро узнали, что он неудачник, прогорел на Сааремаа, плавал матросом, тонул, что дела, которые предпринимал, редко удавались ему. И жена ему досталась злая, и дети рано все поумирали. Крепкие мужички-хозяева любили поднять его насмех; он, кажется, не обижался. И вот теперь Семидор на земле? Странно… трудно поверить.
Хутор Курвеста, спрятавшийся за еловой изгородью, издали казался необитаемым. Только одни узкие и совсем свежие следы вели к нему по полузанесенной тропе.
– Кто бы это? – подумал Пауль, стараясь ступать по следам.
Он немного волновался, думая о том, что вот вступает в дом, который, вероятно, станет его домом. Пристально смотрел на живую зеленую стену, словно ожидая, что из-за елок, косолапо шагая, выйдет старый Март в высоких сапогах с твердыми офицерскими голенищами. Что сказал бы Март, увидев бывшего своего батрака входящим в его владения, да еще с такими мыслями в голове?
– Он бы лопнул со злости, – не без удовольствия усмехнулся Пауль.
На кажущемся нежилым хуторе все же была жизнь. Из трубы шел легкий дымок. Мало того – огибая угол дома, Пауль услышал за окном звонкий женский смех.
– Кто бы это? – еще раз подумал Пауль.
Дверь на стук быстро распахнулась, и он с удивлением увидел смеющееся круглое лицо молодой женщины, одетой скромно, но по-городскому, в легкое зеленое платье. Что-то в лице ее показалось ему очень знакомым. И в следующее мгновение он узнал… Ее присутствие здесь показалось ему добрым предзнаменованием.
– Айно Вао, – безошибочно сказал он, – дочь Йоханнеса Вао.
– Ой, смотрите, кто это! – весело закричала Айно. – Сааму, Сааму, ты знаешь, какой гость к тебе пришел?
– О, добрый гость? – посмеиваясь и вставая из-за широкого стола, спросил Сааму, поворачивая к вошедшему свое лицо.
– Здравствуй, Сааму, вечный труженик, – тихо сказал Пауль. – Ты узнаешь меня?
– Ты – Пауль Рунге… Голос изменился, но я узнаю, – заулыбался Сааму. – Сегодня радостный день для Сааму – день гостей. То-то сорока утром на дворе кричала.
Пауль обвел взглядом кухню. Мало что изменилось, только несколько потускнело все, словно слоем пыли покрылось, да паутинка кое-где повисла под потолком. Сааму не видит ее. Но там, где доставали руки Сааму, – пол, окна, стол, – все было чисто. Вот у этого стола он, Пауль, садился ужинать вместе с другим батраком Яаном, с девушкой Тильде и с Айно. Айно Вао тогда пасла коров Курвеста.
Пауль вслух вспомнил об этом.
– Как же, как же… – встрепенулся Сааму. – В том углу сидел, где сейчас сидишь… Ты на паре гнедых пахал, помню. Теперь только Анту остался, да и тому работы нет – нового хозяина ждет.
– Я пойду коров подою тебе, Сааму, – сказала Айно, хватая подойник и надевая полушубок.
Напевая, она вышла, бросив на ходу Паулю:
– Я тут сегодня за хозяйку.
Паулю показалось, что без ее веселого круглого лица и яркого зеленого платья на кухне стало сумрачнее и тише.
– Один и хозяйничаешь все? – спросил Пауль.
– Да, – просто ответил Сааму, – до будущего хозяина. Он приходил уже.
– О, – нахмурился Пауль. – Кто?
– Сказал, что имя его – Юхан. Ему из волости хутор обещали. Меня по плечу похлопал. Ничего, говорит, божья коровка, хутор еще заживет… Однако пригрозил мне, чтоб я здесь никому ничего не давал. Я, говорит, хозяин…
Пауль посмотрел в окно. Закинув назад голову. Айно стремительно и легко проносила в хлев ведра, полные воды, и Пауль подумал, что зеленое платье на ней сейчас выглядит самым радостным пятном на безрадостном этом хуторе и что она, Айно, за эти годы выросла в настоящую женщину. Тогда, перед войной, она была девятнадцатилетней неловкой деревенской девушкой. Он, Пауль, ведь танцовал с ней на деревенских вечеринках и даже провожал домой. Что она сейчас делает?
Он спросил у Сааму.
– Айно? Летает, ищет, где гнездо свить, – сказал Сааму. – В город ушла, поработала, вернулась теперь. К земле тянет. Вот навестила меня и сразу коров пошла кормить. Я, говорит, соскучилась. Да и понятно: в Коорди родилась… Хозяйка. Старый Йоханнес Вао плохо ее принял.
– Почему?
– Ну, не знаю… – замялся Сааму. – Да уж верно оттого, что с отцом не посчиталась: без разрешения ушла из семьи…
Айно вошла с подойником и стала процеживать молоко. Снова зазвенел ее голос.
– Ну, чем я вас буду кормить?
– Блинами, – торжественно сказал Сааму, поднимаясь, чтобы итти за мукой. – В такой день нужно варить суп с клецками или жарить блины.
Затрещал огонь в плите. На Айно появился белый передник. Быстро мелькали ее округлые локти.
Пауль, снедаемый беспокойством, прошелся по комнате. Заложив руки в карманы, он стал смотреть в окно. Большое все-таки хозяйство! Какой хлев! В нем хоть дюжину коров держи, скотная кухня при хлеве. Сарай, амбар, колодец… Конечно, сейчас это все запущено немного, но если взяться…
– Ты как новый хозяин осматриваешься… – услышал он голос Айно.
– Что?.. – вздрогнул он и нахмурился. – Нет, я так.
Она внимательно и лукаво смотрела на него, словно читая его мысли.
Сааму, хлопнув ладонями по коленкам, подхватил ее слова.
– А почему бы и нет? – захлопотал он. – Пауль пахать мастер. Анту в конюшне стоит. Зачем все чужому хозяину отдавать?
– Айно самой надо взяться, – усмехнулся Пауль.
– Я женщина, я одна, – серьезно сказала Айно. – Не справиться. Но если бы у меня было свое хозяйство, я бы так работала, что у меня бы грязь на дворе летела из-под ног.
И, глядя, как она энергично орудовала у плиты, Пауль подумал, что так оно и было бы.
Вошли сумерки, яркие пятна света из очага прыгали по стенам, вкусно запахло поджаренным маслом. От очага шло тепло.
С блаженством развалившись на стуле, Пауль смотрел на Сааму, зажигающего лампу, и на белого Микки, который в свете плиты стал розовым. Он смотрел на белые полные руки Айно, накрывающей на стол, и вдруг остро почувствовал, как же он все-таки за военные годы истосковался по дому, по теплому собственному углу, по мирной жизни на земле, – жизни, которая, должно быть, немыслима была бы без этих теплых и ласковых рук.
Сели за стол. Ели суп с клецками, потом Айно подала блины; их намазывали медом и запивали холодным, как лед, густым молоком.
Слушая оживленную болтовню Айно, глядя на спокойное, умиротворенное лицо Сааму, Пауль думал о том, что встреча эта не случайна. Нет, не случайна. Им всем троим у теплого очага в доме Курвеста было хорошо. Пусть все они пока гости здесь и ни у кого из них нет в этом доме твердой почвы под ногами, но все же они чувствовали себя в нем хозяевами.
И снова Айно почти угадала его мысли, когда спросила:
– Так ты решил взять себе землю в волости?
– Да, – ответил он, – я так решил. Буду искать.
– Я бы тоже хотела… – сказала она откровенно и задумалась.
Сааму ничего не сказал.
– Будем вместе искать, – пошутил Пауль. Но, почувствовав, что слова прозвучали не шуткой, испугался.
Ощутив на себе молчаливый тяжелый взгляд Пауля Рунге, Айно вопросительно подняла глаза. Он неподвижно и прямо смотрел на нее холодноватыми, слегка, прищуренными глазами и был, казалось, совершенно спокоен, только губы его странно дрогнули, выдавая волнение. И, заметив это, Айно не приняла за шутку его слова. Не принял их за шутку и Сааму. Он сидел молча, отвернув лицо в сторону, и губы его ласково улыбались, словно видел он что-то невидимое им.








