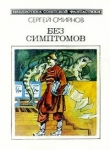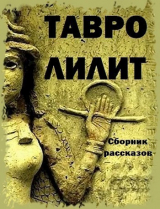
Текст книги "Тавро Лилит"
Автор книги: Галина Евдокимова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
А перед взором она… Лицо дивной красоты, точёная шея и дикие жёлтые глаза. Сердце наполнило острое, беспокойно сладостное чувство, которое рождается при созерцании мечты.
На лице Франчески блуждала улыбка, едва заметная, лукавая и двусмысленная. Она околдовала меня так, что смешанное чувство страха и вожделения, боровшихся во мне, уступило место безудержной страсти.
Необузданность желания, вызванная пением хелиса, подобная священной ярости, овладела мной. Специфическое звучание арпеджио пробуждали тревогу. В них явно слышалась нота дьявола.
Я смотрел на Франческу мутными от блаженства и ужаса глазами, безотчётно пытаясь отдалиться. Но её горячие ладони и лихорадочно блестящие глаза сожгли последние мосты. Разумеется, то, чему суждено совершиться, то совершится. Шатаясь от пьянящего восторга, я подошёл к ней.
Потом была ветреная ночь, неплотно закрытая поскрипывающая дверь, обращённая к морю, и вспыхнувшая ярко, как сигнальный костёр, страсть.
Франческа ничего не просила у меня, дрожа, как стрела, сорвавшаяся с тетивы. Казалось, она хочет только любви.
Блаженство затопило всё моё существо, и я вошёл в светозарную арку дворца сияющих грёз. Но на острие сладости ощущалась мука и предчувствие чего-то страшного. Эта девушка опутала мою душу сетями самых греховных желаний, сплела прочную нить, на которой держала мою волю. Одним жестом она превратила убогую лачугу в сказочный дворец.
Рассвет я встретил в объятиях Франчески.
С той ночи я не находил покоя ни во время церковной службы, ни посреди благочестивых занятий.
Началась странная, полусознательная, тайно-сладостная жизнь. Я всё время чувствовал близость Франчески, желал её до изнеможения, до невозможности дышать. Мечтая освободиться, словно предчувствуя беду, душа взывала: «Спаситель, или Ты не слышишь: не введи во искушение!»
Но вечером я снова спешил на берег, входил в хижину, и Франческа, играя на дьявольской арфе, пела древнюю песнь.
– Возьмем от любви всё, что она может дать, – шептала она.
Безумная страсть и жгучие объятия всю ночь. Утомленные, под утро мы засыпали, а вскоре нас будил монастырский колокол.
Бледный и обессиленный, возвращался я в свою келью.
Между тем, я стоял на краю бездны. Передо мной разверзлась пропасть. Как легко и соблазнительно было сорваться вниз. Между жизнью в монастыре и неистовствами в хижине Франчески лежала узкая, тоньше волоса тропинка, и пройти по ней я мог только сам.
Крошечный, едва заметный, в дидимову комму[7], диссонанс разрушал гармонию моей прежней жизни.
Днём в храме я внимал дивному благогласию псалмов, заставляющему взлетать к куполу священные энергии, а ночью слушал немыслимые созвучия древнего хелиса и стоны любовницы. Два мира сошлись яростной схватке за мою душу. Жуткая дисгармония. Волчья квинта.
Я находился на грани сумасшествия, не владел собой, не знал, чего желаю, о чём всесокрушающая тоска в сердце. Опьянение Франческой задёрнуло передо мной действительность. Жизнь приобрела вкус сладостного, но смертельного яда.
Никто не знал о моих ночных свиданиях. При одной мысли, что отец Северин мог догадаться о нашей с Франческой любви, я начинал трепетать от страха.
Днём, выполняя свои ежедневные обязанности в монастыре, я думал только о ней. Всё озарялось пламенем чувственности. Проходя под аркадами монастыря, я испытывал смятение, а моё тело нетерпеливо ожидало новой встречи. Я так сильно желал её, что, мысленно впадая в грех, я стонал, лёжа на каменных плитах. Я чувствовал стыд греха, но, приближалась ночь, и вновь, потворствуя тёмной силе, обольстительной и ужасной, я бежал по тропинке на берег, Франческа вела меня в хижину, брала в руки арфу, и тихие звуки погружали меня в сладостный сон. Мы снова и снова возобновляли наш тайный брак, предаваясь любви под светом углей в остывающем очаге.
Однажды, в миг чувственного восторга, я уловил на губах Франчески победную усмешку, которую она не успела скрыть. На дне моих глаз навсегда осталось её лицо в то мгновенье. В улыбке таилось что-то порочное, а в жёлтых глазах... предсмертная грусть. Тёмный страх сжал мне сердце. Потом она слегка отстранилась и произнесла какую-то фразу...
О, в ней жила ещё одна женщина! Женщина из породы иных существ. Моя сонная душа предчувствовала неизбежную гибель.
Проходила ночь за ночью, и борьба со сладким полубытием стоило мне всё больших усилий. Её любовь оказалась ароматным, но ядовитым зельем. Я жадно припал к этой чаше и выпил до дна. Я стыдился своей страсти, чувствуя, что в ней больше магии, чем любви. В голове постоянно слышались звуки хелиса и зов Франчески: «Приди ко мне!» Она гипнотизировала меня напряжением тёмной воли и загадочными звуками древней арфы. Даже туман под луною приобретал для меня очертания тел соединяющихся любовников.
Франческа, моя любовь, моя страсть, мой враг...
Так продолжалось несколько недель, пока я совершенно не обессилел и не превратился в тень, пустую оболочку.
Мой мудрый учитель отец Северин требовал объяснений, возможно, догадываясь о чём-то.
– Уж не богомерзский ли суккуб мучает тебя по ночам, мой мальчик?
Но я не решился открыть тайну нашей с Франческой блаженной обители.
Однажды утром я едва смог подняться, чтобы пойти к заутрене. Силы оставили меня, я не мог вернуться к прежней жизни.
Меня уложили в постель, позвали лекаря. Нервная горячка так глубоко потрясла мою душу, что она не знала, как освободиться от наваждения.
Я принял твёрдое решение принять постриг.
Отец Северин неустанно молился обо мне, и день ото дня исцеление неуклонно наступало. Я перестал бывать у Франчески, и постепенно возвращался в привычное состояние.
Но однажды после вечерни ко мне подошёл один из братьев и сказал, что меня ждут у монастырских ворот. Сердце в груди ёкнуло, но я бросился туда со всех ног.
За воротами стояла старуха, что я видел в таверне в день знакомства с Франческой. Устремив на меня повелительный гипнотизирующий взгляд, она кричала, указывая кривым пальцем в сторону моря.
– Франческа! Франческа! – повторяла она.
Предчувствуя недоброе, я бросился в церковь и упал на колени перед алтарём. Но слишком тусклый свет лампады не позволил мне видеть, как Архангел Михаил сражается с дьяволом.
Долго лежал я, простёртый ниц, словно в оцепенении, не в силах молиться.
Когда наступила ночь, и на небе зажглись огромные звёзды, вместе с братьями я вышел из церкви после полунощницы.
Вдруг среди безмолвия раздался странный звук, похожий на рыдание. Словно запели сразу несколько арф одновременно. Звук налетел, как волна на прибрежный песок, и растаял. Я перекрестился и с лёгкой дрожью подумал, что слышу звуки мира нездешнего.
– Дьявол свадьбу справляет, – сказал старый монах, осенив себя крестным знамением.
Сердце моё заныло, навалилась тоска. Схватив фонарь, я бросился к берегу.
Порывистый ветер прижимал к земле сухую траву, рвал на мне одежду, брызгал в лицо первыми каплями дождя.
Я едва успел добежать до хижины Франчески, как хлынул ливень. Шторм яростно трепал не затворённую дверь хибарки.
Я вошёл. Внутри пахло прахом и плесенью. На полу у порога брошенный платок, рядом хелис. Подняв фонарь повыше, я шагнул вперёд.
Она лежала на узком ложе, устремив на меня жёлтые глаза с сильно уменьшенными зрачками. Никогда не забыть мне этот жуткий взгляд – грозный, безжалостный, по-звериному жестокий.
В ту ночь Франческа умерла.
Она лежала передо мной на алтаре нашей любви, оплаканная только мною и дождём. С тоской глядя на прекрасное тело Франчески, я не мог поверить, что оно мертво.
Эта женщина, как грань зеркала, разделившая мою жизнь на две несогласуемые части, открывшая мне вселенную чувств и отнявшая покой.
Франческа, моя вакханка и моя невеста…
В часы бдения у тела усопшей царила невообразимая тишина. Свеча догорала, я зажигал новую, потом открывал ненадолго дверь, чтобы проветрить комнату, и возвращалась обратно.
Я сам выкопал могилу под молодым, насквозь промокшим кипарисом, и засыпал землёй свою возлюбленную.
Прислонившись щекой к сырой земле, я рыдал неутешающими рыданиями.
– Спи, моя любимая, пусть тебя убаюкивает ветер….
Всю ночь я провёл на могиле Франчески, слушая, как в завываниях ветра рождается полная скорби и отчаяния мелодия. К утру, совершенно окоченев, я вернулся в опустевший домик, и содрогнулся от страшной тишины.
Стоя на пороге полуразрушенной рыбацкой лачуги, я смотрел и не узнавал это место. Как я попал сюда? Дверь и окна хижины выломаны, пол давно сгнил, чёрные трещины зияли в облупившихся стенах. Злой ветер будто хотел смести эти жалкие развалины с лица земли.
В неярких бликах пасмурного утреннего света я увидел хелис, арфу дьявола, таинственную древнюю лиру, певшую мне о никогда не утоляемой страсти. Он валялся на полу возле ложа. Мой искуситель умер вместе с Франческой.
Дрожащими руками я потянулся к нему. Словно голос с небес провозгласил: «Уничтожь его!»
Той ночью я сжёг хелис вместе с развалинами дома.
По серому небу с бешеной скоростью мчались низкие тучи, сливаясь с бушующим морем и дымом пепелища.
Не помню, как я добрёл до монастыря.
Оставшись один, я наглухо закрылся в келье, ибо мне захотелось умереть, прекратить существование. Чувство вины мучило меня. Почему умерла Франческа? От любви ко мне, может быть, из-за того, что я её бросил? А если отец Северин прав, и мне являлся жуткий суккуб, порождение лукавого?
Весь день после похорон Франчески я мучил себя, но так и не нашёл ответа.
Глубоким вечером, когда свеча на аналое уже догорала, в окно возле самой постели, заглянула луна, и на пол легли белые пятна.
Спать не хотелось, но я задул свечу, лёг, силясь забыться. В бессоннице я обвинял лунный свет и даже попробовал найти что-нибудь, чем можно занавесить окно, но не нашёл.
Я долго читал молитвы, и, наконец, заснул.
Не помню, что я видел во сне, вероятно, что-то страшное, ибо вскоре в испуге проснулся от толчка в рёбра. Продолжая лежать, я разглядывал келью. Казалось, все предметы шевелятся.
Вдруг что-то мягкое сорвалось с подоконника и упало вниз. Через некоторое время я услышал шаги как будто животного и стон – не то звериный, не то человеческий.
– Человек или зверь, – воскликнул я, – повелеваю тебе именем Господа Иисуса Христа, скажи, кто ты.
За дверью послышался шорох. Потом кто-то тихонько запел.
Голос звучал как из-под земли, но я узнал его…
Затем дверь медленно, бесшумно отворилась... и в комнату вплыла она.
В тусклом лунном свете, в платье, измазанном землёй, стояла Франческа. Она подняла руку, то ли подзывая, то ли указывая на меня.
Та, что стояла передо мной, походила на Франческу, но не была ею. Она шагнула вперёд. Её лицо ушло из лунной полосы, и в темноте светились только глаза – жёлтые, дерзкие, холодные, хищные… Глаза волчицы.
Привидение улыбнулось бледными губами и прошептало:
– Джозефе, где мой хелис? Верни мне его, и спою тебе, как прежде пела.
Прекрасное лицо искажала смертная мука, глаза смотрели на меня, но не видели, вместо улыбки – судорога трупной агонии. Она следила за мной невидящими глазами.
– Мой возлюбленный, прибежище моих наслаждений! – простонала она и, склонившись, коснулась моих губ ледяными губами.
Мы слились в чудовищном поцелуе.
Всё исчезло в мучительном, ни с чем несравнимом страдании.
На рассвете меня разбудил протяжный звон монастырского колокола.
День прошёл в неустанных молитвах о несчастной грешнице. Я не знал, каким богам поклонялась Франческа, но просил Господа спасения для неё.
Следующей ночи я ждал. И Франческа снова явилась.
Когда луна заглянула в окно, меня одолел тяжкий сон. Но и сквозь него я почувствовал, что Франческа рядом. Послышался шорох платья, потом тихое пение…
Я открыл глаза. Она стояла у порога.
– Любовь моя, – шептала Франческа. – Ты мне дороже души! Тебя, одного тебя хочу!
Как ни пытался я отвести глаза, но ей всё-таки удалось перехватить мой взгляд, связав нас прочной алой нитью. Я испытывал невыразимый душевный гнёт. Ее жёлтые глаза – так мне почудилось – старались проникнуть в мои мысли. Она вновь и вновь звала: «Приди ко мне!..»
…порывы страсти сменялись приступами панического ужаса…
Я снова умирал, испытывая непередаваемые страдания, словно все атомы моего тела поменяли взаимоотношения. В глубине души трепетало жуткое желание, затаённая радость – войти в таинственный мир моей мёртвой возлюбленной, отдаться запредельной любви навсегда.
Прошёл ещё день. Но дневные занятия не возвращали мне ясности сознания. Надо мной тяготел чёрный морок. Я понял, что только и жду ночи, страшась и желая появления Франчески. Ко мне вернулось мучительное томление страсти.
Я снова жаждал её. Я знал, что она придёт.
…Ещё не начинало светать, и тьма казалась мёртвой, когда на лестнице раздались шаги. Затем дверь бесшумно отворилась, и в комнату вплыла Франческа. В одной руке она держала воображаемую арфу, другой трогала струны.
–Джозефе! Где мой хелис?! Я жду…
В ушах зазвучали дикие арпеджио, и некуда было спрятаться от всепроникающих безжалостных звуков. Надо мной раскинулась тонкая сеть из огненных нитей.
Я понимал, что гибну. Утром мне едва хватило сил, чтобы подняться и выйти из дома послушников.
Меня не пугала мысль об адских муках, я лишь сожалел о том, что сжёг хелис. Возможно, я смог бы откупиться. Но теперь её инструментом стал я сам. Она играла мною, она играла на мне!
Я должен был умереть или снять проклятье. Разгоняя морок пламенем искренней веры, мучимый виной перед умершей возлюбленной, я отправился на её могилу и обрызгал святой водой невысокий холмик ещё не успевшей затвердеть земли. Тотчас над ней поднялось белое облачко, в котором угадывались очертания обольстительного тела Франчески, и послышались её тихие стоны. Она проплыла между могил мимо меня и исчезла.
Я задыхался и плакал.
В ту ночь Франческа пришла в последний раз. Я начал уже дремать, когда она влетела в окно на лунном луче. Черты лица блистали гибельной красотой, но… её глазам уже открылись вечные муки.
– Что ты наделал, Джозефе! – крикнула она. – Я люблю тебя, ты – жених мой!
Совершенно обессиленный я сполз с ложа, а Франческа обволокла меня и страстно обнимала всю ночь.
Перед рассветом она низко наклонилась, коснулась ледяной рукой моей груди и, как мне показалось, вынула сердце.
Очнулся я при ярком свете дня, совершенно разбитый то ли падением, то ли неистовой любовью моей мёртвой суженой.
Я поднялся, мучимый жаждой и острой болью в груди, дотащился до монастырского колодца и долго пил. Вода горчила, как та, что омывает самое сердце земли, – подземная, чёрная, холодная.
С тех пор душа моя иссохла. Томление страсти навсегда покинуло тело, а любовь сердце. Ни одна, даже самая прекрасная женщина, больше никогда не пробуждала во мне чувств. Я освободился от Франчески и… от всех земных желаний. Даже в музыке я вижу лишь воплощение чисел и ищу гармонии не земные, но небесные.
Карлино тяжело облокотился на стол и обхватил голову руками. Лицо его осунулось, глаза померкли. Он выглядел очень измученным и… старым.
Джованни Д’Артузио потрясённо смотрел на учителя. Тот помолчал и продолжил, а вернее, завершил свою повесть:
– Тридцать лет прошло с той поры, Джованни. Но и по сей день я не могу сказать точно – существовала ли Франческа на самом деле, или богомерзкий суккуб мучил меня. Может быть, демоны туманили мне сознание, или лукавый искушал перед тем, как я совсем распрощался с мирским? И ещё…
Глаза Карлино наполнились ужасом.
–…странная страшная мысль иногда поднимается из тёмных глубин сознания: а что, если Франческа вернётся за мной?
Карлино поднялся по грязной лестнице с истёртыми ступенями и вошёл в отведённую ему комнату.
За окном холодный ветер гремел голыми почерневшими ветками тополей.
Джозефе помолился и лёг спать, а в тоскливой полутьме сырого пасмурного утра его разбудил звук, похожий на собачий вой. Карлино поднялся с кровати и подошёл к окну.
Остроухая серая собака стояла в воротах и исподлобья смотрела прямо на него жёлтыми глазами. Карлино пригляделся. Это был волк.
Зверь завыл. Слабо, тонко, с хрипотцой.
– Волчья квинта, – прошептал Карлино, чувствуя, как тоска стеснила сердце.
Он вернулся в постель.
Когда Джованни Д’Артузио постучался в дверь комнаты своего учителя, никто не ответил. Обеспокоившись, Джованни вошёл и обнаружил учителя в ужасном состоянии. Тот не отвечал на вопросы, только смотрел в дальний угол комнаты безумными глазами.
В то утро Джозефе Карлино отдал Богу душу, даже не успев приобщиться Святых Тайн.
Перед тем, как выдохнуть в последний раз, он крепко схватил руку ученика и произнёс:
– Говорят, в каждом человеке звучит своя нота. Что за нота звучала во мне?
[1] Волчья квинта (букв. пер. с нем. Wolfsquinte) – музыкальный интервал, название очень фальшивой квинты, которая возникала в различных музыкальных строях. Обращение «волчьей квинты» (перемещение нижнего звука на октаву вверх) даёт «волчью кварту». Иногда их называли просто «волками».
[2] Название diabolus in musica употреблялось по отношению к тритону. Тритон – интервал, содержащий три целых тона. Диссонирующий интервал. В музыке эпохи возрождения практически запрещалась использоваться в созвучии с тоникой (параллельно так и последовательно в любом порядке), так как образовывался диссонанс. Тритон называли нотой дьявола.
[3] Анииций Манлий Торкват Северин Боэций в исторических документах Аниций Манлий Северин (ок. 480 – 524, по др. св. 526) – римский государственный деятель, философ-неоплатоник, теоретик музыки, христианский теолог. В трактатах «Основы музыки», «Libri V de institutione musica» передал европейской цивилизации метод и базовые знания лучших греческих авторов (преимущественно пифагорейцев) в области «математических» наук.
[4] Адриан Вилларт (ок. 1490 – 1562), фламандский композитор и педагог, работал в Италии. Представитель франко-фламандской полифонической школы, основоположник венецианской школы.
[5] Итальянский композитор XVI века Никола Вичентино пытался вновь ввести в европейскую музыкальную теорию хроматизм и энгармонизм античной музыки. Результаты своих изысканий он изложил в трактате «Древняя музыка, сведенная к современной практике» (1555).
[6] Хелис – разновидность лиры, простейшая и самая лёгкая по весу, с корпусом из панциря черепахи, обтянутым воловьей кожей. Техника игры на всех античных лирах примерно одинакова: музыкант держал инструмент под углом примерно 45 градусов к корпусу, играя стоя или сидя.
[7]Дидимова комма – интервал менее малой секунды (80/81).
За тьму в ваших глазах
«В надежде, неведении и радости направлялись они к гаваням юга»
Хорхе Луис Борхес.
Предисловие к книге
Марселя Швоба «Крестовый поход детей»
«шли мужи и девы, юноши и старцы,
и всё это были простолюдины»
Монах-хронист
о Крестовом походе детей 1212 года
По дороге, вьющейся по заросшему хвойным лесом холму с пролысиной на верхушке, погромыхивая большой корчагой с пивом, поднималась повозка.
Осенний ветер, усиливающийся в это время года, нещадно трепал хламиду возницы. Тяжёлое пасмурное небо висело так низко над землей, что Галашу приходилось всматриваться, чтобы разглядеть путь. В такой пасмурный день и без того мрачный лес и тёмные каменные глыбы по обочинам смотрели ещё угрюмее. Галаш то и дело понукал чагравую лошадку, торопясь засветло взобраться на холм и увидеть, наконец, трёхъярусную колокольню монастыря Святой Девы Марии, служившую ориентиром в пути и конечной целью.
Вниз по холму к Оболони уходил овечий выгон, по которому бестолково разбрелось овечье стадо, а на дне долины, у лесистого берега Днепра, виднелась высокая звонница и ломаные изгибы монастырских построек.
За два года, что настоятель назначил его возницей, Галаш хорошо изучил каждый камень на этой дороге и отлично знал, когда надо свернуть, чтобы не сгинуть в глубоких яругах Киевских предместий. Время от времени Галаш поправлял охапку соломы под корчагой, опасаясь, как бы огромный сосуд не свалился с повозки, и улыбался, вспоминая дочку сельского пивовара.
За крутым поворотом возле старой надломленной молнией сосны, Галаш заметил путника. В прихрамывающей походке и в том, как он опирался на посох, чувствовалась усталость, дорога поднималась всё время в гору, и идти по ней было нелегко.
Когда повозка поравнялась с прохожим, Галаш придержал лошадь.
Остановился и путник.
Это был немолодой человек в потрёпанном плаще, накинутом на крепкие плечи. Он кивком приветствовал возницу.
– Куда идёшь, добрый человек? – спросил Галаш.
– В монастырь, – ответил путник, вставляя посох в землю и пряча руки в полы плаща. – Слыхал я о доминиканской обители на Оболони.
– За холмом она и есть. Помолиться или, может, остаться хочешь? Садись, подвезу. Туда еду, – радуясь попутчику, предложил Галаш.
– Там видно будет, – ответил странник, садясь в повозку и укладывая рядом посох.
– А звать тебя как? – приветливо поинтересовался Галаш, дёргая вожжи.
– Отец знает моё имя, – уклончиво ответил пришелец. – А ты называй Паломником.
На востоке горизонт угрожающе загородили тучи.
– Дождь, – сказал Галаш, когда ему на руку упала первая крупная капля…
…Смеркалось. Только что кончился ливень. Пряно пахло прелыми листьями.
Отец настоятель осторожно, боясь оступиться, шёл по тропинке, выложенной грубо обтёсанными серыми камнями, скользкими после дождя. В ветвях шумнул ветер, и на куполе церкви Святой Девы Марии жалобно заскрипел крест.
Отец Максимилиан поднял голову. На фоне бледного неба отчётливо выделялась тёмная осиновая крыша и две остроконечные башенки храма. В наступающих сумерках они приобрели странную причудливую форму, к тому же откуда-то появилась птица – чёрная, как сама башня, на которой она сидела, задрав к небу уродливую голову с огромным клювом и скрестив за спиной несоразмерно огромные крылья.
– Святая Дева Мария, Матерь Божия, пошли нам святых Ангелов, чтобы они нас защитили и отогнали бы от нас злого врага рода людского, – прошептал отец Максимилиан, безотчётно пугаясь странного существа.
Слова молитвы прервал горластый петух, вечерним криком возвестивший о чьей-то скорой смерти. Отец Максимилиан осенил себя крестным знамением, и торопливо ступил на порог храма. Он отворил дверь и шагнул внутрь.
На мгновенье задержавшись возле караульного помещения, он глянул вниз, где после пяти крутых ступенек находился вход в крипту. Дверь была приоткрыта. Настоятель покачал головой, отметив непорядок, но отвлекаться на его устранение не стал. Обхватив обеими руками наперсный крест, он направился прямиком к алтарю.
У аналоя отец Максимилиан преклонил колени, неуклюже опустив грузное тело, облачённое в белый хабит, на деревянный пол и, закрыв глаза, направил взор глубоко внутрь себя, туда, где он обычно видел Бога...
Тихая молитва полетела по храму:
– Deus coeli, Deus terrae, Deus Angelorum… Ты Создатель всего видимого и невидимого, и царствию Твоему не будет конца: смиренно пред величием славы Твоей молю, да благоволишь освободить меня властию Своею от всяческого обладания духов адских, от козней их, от обманов и нечестия….
Неожиданное и резкое круговое движение воздуха по наосу заставило настоятеля открыть глаза. Свечи ярко вспыхнули, язычки пламени задёргались и затрещали, «заплакал» воск. Чьи-то глухие шаги и шорох одежды заставили священника обернуться на потемневшую от копоти дверь исповедальни.
Позднее появление прихожанина вывело его из молитвенного состояния. Какому грешнику понадобилось срочно покаяться!
Отец Максимилиан тяжело поднялся.
Он вошёл в тесную кабинку и сел на скамью, сложив руки на животе. Свет от свечей проникал сквозь решётку и бледными пятнами ложился на его морщинистые ладони. Отец Максимилиан шумно вздохнул и смежил веки, снова погружаясь в себя.
– Сколько времени прошло со дня последней исповеди, дитя моё? – строго спросил он.
Но глубокий низкий голос и холодные страшные слова вывели священника из самосозерцания.
– Я принял демона, святой отец.
Настоятель открыл глаза. Холодная дрожь пробежала по спине.
– Которого из семи, сын мой? Был ли это Асмодей, разлагающий душу похотью, Валефор, подбивающий к воровству, Бельфегор – повелитель праздности, Велиар – демон лжи, или же гнев, очерняющий сердце…
– Вы не поняли, святой отец, – перебил гость. – Этот демон так же телесен, как вы или я.
– Какой бы грех ты ни совершил, Бог простит его, если ты пройдёшь обряд очищения, пропоёшь триста псалмов, будешь поститься и вернёшься в лоно церкви... – принялся наставлять отец Максимилиан.
Но грешник прервал заботливые речи старика:
– Вы не поняли, святой отец, для меня нет возвращения в лоно церкви. Слишком поздно.
С каждым словом, доносившимся из-за решётки, в душу старого исповедника проникал страх перед чем-то неведомым, необъяснимым, отличным от всего, что он знал, отличным от его Бога.
– Тогда зачем ты явился сюда, сын мой? – вымолвил священник, сдерживая дрожь в голосе.
– Я пришёл не исповедаться, а спросить! Спросить человека, некогда давшего мне кров и надежду, единственного, кто искренне любил меня...
От этих слов сердце отца Максимилиана тоскливо заныло.
– Я желаю помочь, сын мой. Ещё не поздно всё изменить. Усердная молитва творит чудеса…
– Не глупите, святой отец, – прошептал грешник. – Я старый крестоносец. Всю жизнь я носился по выжженной пустыне, защищая паломников, ел только хлеб, пил воду и каждый день усердно молился! Меч и плащ – это всё, чем я владел, и мне того хватало, ибо я был свободен духом. Но сегодня я спрашиваю вас: было это служением ближнему или служением себе? Я жертвовал собой во благо людей или приносил их в жертву? Все мы, так или иначе, до поры находимся между двумя служениями. Но рано или поздно наступает день, когда нам приходится выбирать.
Странный гость вздохнуло глубоко и прерывисто...
– Я сделал свой выбор. В благодарность за заслуги получил от моего покровителя землю, замок, власть и много денег. Я вкусил всё, что даёт богатство – грехи, страсти – и пресытился этим! Молитвы давно забыты, и осталось одно желание – продлить эту жизнь со всеми её пороками. Иногда голос Всевышнего пробивался сквозь иные голоса, грызла совесть, снились кошмары. Однажды мне стало страшно как никогда, но было уже поздно. Невозможно отказаться от клятвы. Она подчиняла моё тело через бешеную боль припадков. Я слышал, как трещат мои кости в объятиях зверя, а разум пылает от ледяного прикосновения скользкого раздвоенного языка. Он… душил меня в темноте. И одной страшной ночью я умер полусгнившим стариком на ложе со шлюхой…
Тот, кто сидел с другой стороны, приблизил к решётке лицо так близко, что из-под капюшона на отца Максимилиана глянули тёмные глаза без единого намёка на искру света.
– Посмотрите на меня, святой отец! Видите, чем я стал? Так послушайте, через что мне пришлось пройти!
Крестоносец скинул капюшон. Перед отцом Максимилианом застыло лицо – смуглое, с заострёнными чертами, широкими скулами и выдающимся вперед подбородком. Лоб пересекали четыре борозды, похожие на шрамы от когтей крупного хищника.
На решётку легла шестипалая ладонь.
Отец Максимилиан отпрянул назад.
– Какой бы порок ни осквернил твой взгляд, твоя боль очистила его…– пробормотал настоятель, желая поскорее выпроводить грешника.
Уголок рта пришельца чуть подергивался. В глубоко посаженных глазах под нависающими бровями мелькнуло нетерпение.
– Помните мальчика-сироту, которого вы приютили? Как и других сирот. А помните ли вы, что было потом? Как во имя Христа вы отправляли нас в ад…
…Тридцать тысяч детей под Вандомом, десять тысяч пришли из Германии. Холщевые рубахи поверх коротких штанов, босые, с непокрытыми головами. У каждого на рубахе нашит матерчатый крест. Пестрые флаги с ликом Спасителя или Девы Марии. Звонкие голоса юных крестоносцев, распевающих гимны во славу своего Бога! Мы были чисты и бескорыстны в отличие от многих взрослых рыцарей. Мне было одиннадцать. Стефану, нашему вождю, тринадцать. Кто-то погиб во время перехода через Альпы. Кому-то повезло, им удалось вернуться из Марселя домой. Но я дошёл до конца. Голод и жажда, болезни, сотни лиг пешком, все тяготы походной жизни и море… Море, которое не расступилось перед нами! Два марсельских купца, Гийом и Гуго, посадили нас на корабли. Семь кораблей, по семьсот человек на каждом, отчалили от французского берега. Два из них затонули вместе со всеми, кто плыл на них. Остальных купцы продали работорговцам в Египте. Я был там, под Дамиеттой, в 1219 году от Рождества Христова! Почти год мы осаждали крепость. Это случилось во время штурма башни, контролировавшей доступ в Нил. Мы стояли лагерем на левом берегу. Усталость, зной, орды сарацинов – это был настоящий ад, но я запер страх на дне сердца, представляя, как рыцари в сияющих доспехах встанут на страже Гроба Господня. И вот, когда суда крестоносцев уже вошли в дельту… Мгновенная вспышка! А потом всё померкло. И явился Он. Во всём ужасном блеске и великолепии, сверкая доспехами и рогатым шлемом, с холодной усмешкой на тёмном прекрасном лике. Это был Он, отец Максимилиан! Он посвятил меня огненным мечом, укоротив мою левую ногу. Это был Завет через адскую ослепляющую боль, это была моя клятва. А потом… озарение, когда в ужасном рогатом лике я узнал самого себя! И я принял! Опьянённый, предстал я перед новой судьбой, написанной Его сильной рукой во имя моего нового рождения. Я принял его со всей нежностью и любовью, с которой сын принимает отца. Как когда-то принял вас, отец Максимилиан. Но вы, мой отец, предали меня…
В голосе звучали боль и угроза.
– Любовь…Сладкая сказка, рассказанная любящими губами. Любовь, одна и та же, но такая разная. Сколько боли, сколько страданий! Мне предназначено было многократно умирать на алтаре чужого вожделения в руках адских бестий. Теперь я страшен и силен, потому что в моем сердце нет любви. И так намного легче. Вся моя любовь к ближним оказалась мартовским снегом, который, растаяв, превратился в мерзкую жижу. Злоба поселилась в сердце, и серой крысой прогрызла его. Слышите, как отвратительно она пищит, высунув окровавленную морду?!
Отец Максимилиан изо всех сил старался сдерживать подступившие слёзы:
– Отступник, еретик, противник, оставь дом Божий именем Христа…
– О нет! Я спрашиваю вас, святой отец: если носящий тьму в душе и печать демона на челе, чует, как из-за решётки исповедальни веет смрадом и разложением вместо святости? Если видит войну и бесчинство, порочность и вседозволенность животных, если в тёмной душе своей слышит крики и видит слёзы святых «грешников», похоть порочных «благодетелей» и при всём этом желает уничтожить заразу? Что же тогда зло, святой отец?! Если, делая шаг вниз, в пустоту, одновременно делаешь шаг вверх…