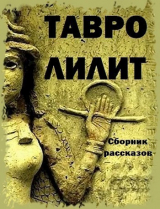
Текст книги "Тавро Лилит"
Автор книги: Галина Евдокимова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
– А может так и надо? Забыть и не вспоминать никогда о зле? Похоронить его, – возразил Юл.
– Тогда зачем же ты пришёл сюда, Юлий? – вмешалась Анна. – Мы ведь только этого и хотим, чтобы вы про нас забыли, и сами ничего не желаем знать о вас!
– Я пришёл, потому что вам хорошо знакомы эти места. Может, подскажете, где искать мальчика, может, где-то здесь есть пещеры, заброшенные шахты? – спросил Юл.
– Ты здесь вырос, – усмехнулась Анна. – Тебе не хуже нас эти места известны. Тем более, что это твоя работа. Вот и ищи!
Она сурово посмотрела на отца, не давая ему и рта раскрыть, и велела всем садиться за стол.
Перед едой никто не произнёс никаких молитв, не предложил взяться за руки, чтобы «обменяться энергией». В общем, всё было вполне заурядно: миска каши, чугунок картошки, кувшин с молоком.
Странные молчаливые женщины, даже имён не назвавшие, так и сидели за общей трапезой, молча пряча глаза под низко надвинутыми платками. Ужин походил, скорее, на тризну.
Но, удивительное дело, он ел варёную картошку, время от времени поглядывая на сотрапезников, и не чувствовал себя чужим.
Юл посмотрел в окно. Солнце опустилось к самому горизонту.
Перехватив его взгляд, Анна громко объявила:
– А теперь чай.
Вставая, она опрокинула стул, словно пьяная.
– Мне пора, – сказал Юл, вставая.
Но отец, усаживая его обратно, попросил:
– Куда ты на ночь глядя?
– Ну, хорошо, – неуверенно согласился Юл, взглянув на телефон.
Сигнала по-прежнему не было. Подумав немного, он решил остаться на ночь. Всё-таки отец просит.
Безмолвные женщины принялись убирать тарелки и ставить на стол чашки.
Отец придвинулся к Юлу поближе и, вынимая из полотняного мешочка трубку, предложил:
– Покурим?
Они вышли на крыльцо. Потемневшее небо на горизонте пересекала полоса, похожая на кровоточащую рану.
Юл достал сигареты, щёлкнул зажигалкой, предложил отцу, и, стараясь поддержать разговор, похвалил:
– Красивая у тебя трубка. Вересковая?
– Да-а, – протянул отец. – Вещь старинная. Вереск суеты не терпит. Сборщики месяцами бродят по верещатнику, со знакомыми кустами разговаривают. А как соберут, непременно его умертвят сначала.
Юл чуть не поперхнулся от таких слов.
– Вереск, он ведь живой, – продолжал отец. – Если комель разрезать, то увидишь в сердцевине красноватую жидкость. Это кровь его. Из живого-то вереска трубка не получится. Он сначала годок отлежаться должен. Потом выварить. Потом просушить. В идеальном случае, ещё как минимум год.
Отец выпустил облако дыма и спросил, держа трубку за чубук:
– Ну, что скажешь о нашей жизни?
Его глаза внимательно изучали лицо Юла.
Что он мог ответить? Он и не видел-то ничего. Да и можно ли в нескольких словах выразить странное тягостное впечатление.
– Всё не так, как мне представлялось, – неуверенно начал он. – Да и что можно представить за такое короткое время?
– А вы разве пытаетесь? Разве вам это важно? Мать твоя, покойница, всё хотела, чтоб ты уехал, в институт поступил и человеком стал, как она говорила. Считала, что на земле человек главный. Опасное заблуждение. Ведь земля-то эта непростая. Она не всякого примет и не всякого отпустит. Не каждый сумеет через Власовы Пастбища пройти. Вот ты думаешь, почему сюда приехал?
Он смотрел на сына, прищурившись.
– Ну, родня всё-таки, – неуверенно сказал Юл.
– Правильно, сынок, родня, – подтвердил отец, продолжая смотреть на него испытующим взглядом. – Только неспроста ты именно сегодня к нам явился. Ведь ночь-то эта – Велесова. В эту ночь такую силу можно обрести! Если, конечно, страх преодолеешь, не побоишься в подземелье спуститься.
Перехватив непонимающий взгляд Юла, отец покачал головой.
– Память, она ведь как погреб глубокий, как подземелье. Ты, поди, и не спускался туда не разу, – он снисходительно улыбнулся. – А вот мы сегодня дверь-то закрывать не станем. Пусть предки заходят и за стол садятся вместе с нами. Может, и ты вспомнишь…
– Ну, да, – поддакнул Юл, холодея, чувствуя, что впутался во что-то странное, неконтролируемое. – В этой деревне ведь одни Власовы живут, мне сказали.
Отец тихо засмеялся.
– Все мы здесь Власовы дети. И земли эти, – он широким жестом обвёл окрестности, – отцу нашему принадлежат.
Голос его был холоден и беспристрастен, в нём не чувствовалось упрёка.
– Отцу? – переспросил Юл, чувствуя, насколько бессмысленными кажутся здесь, в этом странном месте все его чаяния, мечты, да и вся его жизнь.
– Мы ждём, – игнорируя его вопрос, многозначительно произнёс отец. – Ждём часа, когда этот мир снова станет нашим.
От этих слов Юла передёрнуло.
– Мир давно изменился, – сбрасывая странное наваждение, ответил он и поискал глазами, обо что погасить сигарету.
– Зато здесь, – прервал его отец, убирая трубку в карман, – всё осталось по-прежнему.
Они вернулись на кухню в тот момент, когда одна из женщин ставила на стол самовар.
– Вот и чай, – облегчённо вздохнул отец.
Они снова уселись. Анна налила в чашку Юла какую-то густую пахучую жидкость.
Юл потянул носом терпкий запах и осторожно отхлебнул. Голова закружилась.
«Из чего они делают это пойло, – подумал он. – Это же невозможно пить».
Словно в ответ на его мысли Анна успокоила:
– Да не бойся ты, глупый, сурица это. Не слыхал? Правильно. Напиток-то древний, забытый, рецепт его никто, кроме нас, и не помнит уже. Если мудр, то на пользу, ну, а коли глуп….
И вдруг она улыбнулась ему так, что он чуть со стула не упал. Потом медленно встала и, перегнувшись через стол, погладила его по щеке. Прикосновение было приятным, волнующим, в нём было что-то запретное, неприличное.
Юл невольно покраснел.
Анна села, как ни в чём не бывало, продолжая смотреть на него без улыбки.
– Пей, – приказала она.
Её глаза лихорадочно блестели.
Юл сделал большой глоток. Жар хлынул в пищевод и стал быстро распространяться по всему телу. Юл запаниковал.
– Тише, тише, – проговорила Анна, медленно стягивая с головы платок. Каштановые волосы рассыпались по плечам. – Ты не бойся. Не страшно это... Обойдётся…
Юл дёрнулся, попытался встать, но понял, что не чувствует ног. Он даже посмотрел под стол – убедиться, что они есть.
– Проводи сына, – сквозь смех приказала Анна отцу.
Отец зажёг свечу, помог разомлевшему Юлу подняться и повёл по тёмному коридору. Юлу показалось, что идут они очень долго. Наконец, отец остановил его, открыл дверь в комнату, и, пожелав ему спокойной ночи, ушёл.
Юл остался один. Когда глаза немного привыкли к темноте, дошёл до кровати и лёг лицом вниз. Какое-то время лежал поверх одеяла, прислушиваясь к звукам чужого дома.
Часы на кухне пробили одиннадцать раз. В темноте что-то щёлкало, поскрипывало. Юл повернуться на бок, и вдруг заметил слабый свет, проникающий сквозь щели между дверными досками. Потом чьи-то когти царапнули стену.
– Кто здесь? – тихо позвал Юл. – Отец, ты?
В ответ – тишина.
Юл встал с кровати и пошёл к двери.
– Кто тут? – спросил он тишину.
Ни звука. Он приоткрыл дверь. Потянуло холодным сквозняком.
Юл выглянул из комнаты.
В конце коридора со свечой в руке стояла мачеха. В длинной белой рубахе она походила на привидение.
– Иди за мной, – велела она и дунула на пламя.
В коридоре стало темно. Только светилась рубаха Анны.
Юл пошёл за белым силуэтом. Под лестницей, возле двери, ведущей в хлев, Анна остановилась и, низко склонившись над корзиной и что-то пробормотала.
– Анна, что вы делаете? – окликнул он.
Мачеха отчётливо произнесла, не оборачиваясь:
– Дети… Приходят и уходят, когда им вздумается, я никак не могу их найти.
– Может, мне поискать? – с бешено бьющимся сердцем спросил Юл.
Продолжая что-то бессвязно бормотать, мачеха выпрямилась и направилась к двери. Когда она поравнялась с ним, Юл увидел, что глаза у неё закатились, и видны только блестящие белки.
– Анна, вам плохо? – спросил он.
Не обращая внимания на его вопрос, она толкнула дверь и вышла на улицу. Он пошёл следом.
На улице было морозно. Юл поёжился. Не потому что замёрз, а потому что увидел… их.
Они молча стояли, опустив вдоль тел непомерно длинные руки. Над ними то потухала, то зажигалась луна, когда на неё наползали и вновь уплывали облака.
«Вот они какие, Власовы дети», – подумал Юл.
Знал, его ждут.
Потом они стали звать его, медленно и широко размахивая руками. От этих движений воздух, густой и тёмный, как черничный кисель, закручивался в спираль, формируя посреди вересковой пустоши длинный туннель.
А потом они подхватили Юла под руки, и повели. Он пошёл с ними, не понимая, зачем, просто, чтобы быть там, где ему и положено.
Его привели в большую пещеру. Стены подземного зала покрывала копоть, въевшаяся в камень. На стенах охрой – силуэты животных. Высокие своды прятались в глубоких тенях, но где-то в трещине, разрезавшей скалу, пульсировал огонь, отчего казалось, что нарисованные животные бегут куда-то по чёрному базальту. Впереди на каменной плите алтарь с лежащими на ней остатками окаменевшей органики.
Рядом с алтарём стояла Анна. Она была абсолютно голой. Юл смотрел, но не мог переварить увиденное – красивые плечи, грудь, тёмный треугольник под животом, стройные бёдра, а дальше…
Ступни Анны были развёрнуты пятками вперёд.
Юл глупо улыбнулся, ощутив в голове жуткую пустоту. Его затрясло, и захваченный этой вибрацией, он перестал следить за происходящим. И тогда он начал расти и увидел свои ноги сверху, откуда-то из-под сводов пещеры. Они показались ему такими маленькими, короткими, как бывает, когда стоишь в воде, и… развёрнутыми пятками вперёд.
Свет дрожал, и в этой круговерти по полу сатанинским колесом вращались жуткие уродливые тени.
Тем временем Анна толкала к нему большую корзину. В ней лежало что-то, прикрытое тряпкой. Юл потянул за край, но почувствовал сопротивление. Кто-то держался за тряпку и мешал ему. Он почему-то рассердился и сдёрнул покров.
Из корзины на него смотрело существо, в котором он с трудом узнал…
– Ккооляаа! – закричал он.
Скрюченное тельце, большая голова, растрёпанные светлые волосы, бледное сморщенное личико...
Юл звал мальчика по имени, но изо рта вырвались нечленораздельные звуки вперемешку с присвистом и хрипом. Это была не человеческая речь, а рёв чудовища, древнего и беспощадного.
– Деды приходите, с нами пейте и ядите! – закричала Анна.
А потом Юл стал двигался назад. Не в пространстве, а во времени. Вспышки света, тьма, теснота, жар... Над головой бурлящее чёрное небо, под ногами выжженная красная равнина, багровые потоки раскалённой лавы, сплошная пелена пепла...
Он вращался в хаосе саморазрушения, стремительно теряя человеческий облик. Мышцы жгло, суставы выворачивало, желудок скрутило в рвотных спазмах, во рту отвратительный привкус. На коже проступали чёрные оплетья вен, череп трещал, словно из него что-то со скрежетом выламывалось.
Потрясение, злоба, боль… Что-то неведомое, мощное, скованное долгой неподвижностью, проснулось и захватило его волю. На свет выбиралось нечто страшно голодное…
Он протянул руку и подтащил корзину к себе...
…Очнулся посреди пещеры совершенно голый. Он ничего не помнил, и не испытывал ничего, кроме сытости и огромного удовлетворения. В уголке рта повисла слюна, он вытер её тыльной стороной ладони. Оставаться в пещере не хотелось, здесь жутко воняло и было слишком сыро. Он поднялся и пошёл.
Долго куда-то брёл. По камням, по траве, по земле. Остановился возле воды. Тяжёлая, жирная, она сочилась из-под круглого валуна.
Он наклонился. С поверхности воды смотрело невероятное уродливое существо: три чёрных дыры на черепе со скошенным лбом и длинными острыми ушами.
– Ыыыы! – застонал он, беспомощно падая вперёд.
Вода накрыла его. Захлёбываясь, он отчаянно барахтался, надеясь, что вынырнет уже в реальный мир. Бил руками и ногами, широко открывал рот, глотая ледяную воду, словно хотел выпить её всю, и она, наконец, вытолкнула его на берег.
Он лежал неподвижно, без мыслей и чувств. А потом пришла боль. И осталась надолго, только она – невыносимая, жгучая, адская – боль перекрученных судорогой мышц и искорёженных суставов.
Когда отпустило, и он почувствовал, что окончательно очнулся, открыл глаза.
В пасмурном небе кружили чёрные птицы.
Он лежал на спине, широко раскинув руки, дыша ровно и спокойно, наслаждаясь покоем и отсутствием боли. Потом встал.
Над вересковой пустошью висел туман.
Кажется, у него была какая-то жизнь? Раньше, давно… Такая же смутная, как дымка над верещатником.
И тогда он побежал. Легко, быстро, пружиня сильными ногами. Изо рта валил пар, но холода он не ощущал. Просто бежал, не разбирая дороги, ломая кусты, перепрыгивая через болотца и ручейки, напряженно всматриваясь в темноту черневшего на горизонте леса.
На опушке приостановил бег и с наслаждением потянул носом. Оттуда тянуло сыростью и кровью. Уши прослушивали всю прилегающую местность и даже небо над лесом.
Он тяжело перевёл дух и улыбнулся чему-то новому, мощному: он услышал, как под слоем чёрной почвы пульсирует кровь дикого вереска, её жар и силу он чувствовал и у себя внутри.
Он упал на четвереньки и завыл: громко, надсадно, до хрипоты.
Волчья квинта
Волчья квинта [1]
И арфу он взял, и на арфе играл.
И звуками скорби наполнился зал.
И вздохи той песни росли и росли,
И в царство печали меня унесли.
Мирра Лохвицкая. «Праздник Забвения»
Стояла одна их тех безветренных ночей, когда не слышны тоненькие свисты и шорохи, что пугают запоздалых путников, волею судьбы оказавшихся в густых богемских лесах. По еле приметной, вьющейся меж деревьев дороге, ехали двое всадников. Осторожно объезжая рытвины, камни и вымытые дождевыми потоками корни деревьев, они двигались на север.
–…на арфе играет сам дьявол на пирушках ведьм, когда они, наевшись досыта, кружатся в хороводе, – говорил тот, что постарше. – Уж поверь мне. Недаром считается, что этот инструмент изобрёл Каинов внук Иувал.
– О чём вы говорите, учитель! Через символику десяти струн Давидовой арфы святой Августин разъяснял смысл десяти заповедей, – отвечал его молодой товарищ.
– Голос, мой мальчик, только голос! Вот единственный совершенный инструмент, созданный Творцом. Всё остальное сделано рукой человека. Вначале возникла речь. Музыка появилась, когда к ней присоединили доставляющую удовольствие душе мелодию и гармонию, дабы возвыситься и искать в ней разнообразные ритмы и метры.
– Не хотите ли вы сказать, что музыку можно измерить?
– Конечно! Каждое число имеет своё звуковое воплощение. Если угодно, музыка – это звучащее число.
– Значит, любой, кто владеет музыкальной грамотой, может понять…
– О, нет, друг мой! Я сказал измерить, но не объяснить. Величайшее из творений Господа – человек – наделён разумом, и тем приближен к Богу, но постичь сие искусство дано не каждому. Не забывай, что над человеком довлеет плоть, а всё плотское в человеке связывает его с миром форм. Форма по отношению к звуку – это интервал.
– А как же быть с diabolus in musica[2] и «волчьей квинтой»? Неужели вы хотите сказать, что Господь, сотворивший вселенную совершенной, не смог создать равномерного музыкального строя?
– О, мой многознающий ученик! Всю жизнь я боролся с «волками» в музыке, и могу сказать тебе: Господь создал натуральный музыкальный строй, и в природе, сотворенной Им, нет никакой «волчьей» квинты. Гармония – душа мира. Однако после Боэция[3] кончился «золотой век музыки», и настали времена упадка. Только стараниями великого Вилларта[4] возродится былая слава музыки. Воистину говорю тебе, это новый Пифагор. Не в пример ужасному хроматисту Винчентино[5]! Ах, мой дорогой Джованни, ты ещё так молод…
Разговаривая таким образом, путники двигались вперёд по темнеющей дорожной колее. Подул холодный ветер, пригнав косматые тучи. Где-то в чаще завыл волк.
– Не пора ли устраиваться на ночлег, учитель? – поёжившись спросил Джованни.
– В такое полнолуние нельзя оставаться в лесу, – вторил ему учитель, показывая на жёлтый глаз луны.
Лес постепенно редел. На расстоянии четверти мили путники разглядели хутор и, пустив лошадей рысью, вскоре добрались до постоялого двора.
Это была большая усадьба – дом из тёсанных камней и несколько надворных построек. На черепичные крыши безмолвно лился лунный свет. Вокруг простиралась пустошь, уходившая к тёмной полосе леса.
У ворот их остановил мрачный сторож и потребовал, чтобы путники назвались.
– Джозефе Карлино, – ответил старший. – Органист кафедрального собора в Кьоджи со своим учеником Джованни Д’ Артузио. Мы едем в Анежский монастырь.
Однако, взгляд сторожа оставался угрюмым, пока спутник Джозефе не сунул ему несколько монет.
Вскоре Карлино и Джованни сидели за столом в полупустой харчевне. Хозяин поставил перед ними огромное блюдо плохо прожаренной свинины.
– Любезный, не найдётся другой пищи? – недовольно скривился Карлино. – Мы монахи и не вкушаем мясного.
И тут же поинтересовался:
– Не скажешь, далеко ли до Старого Места?
– Два дня пути, если Господь будет милостив к вам, – не слишком приветливо ответил хозяин.
Потом он кивнул слуге, и тот принёс гостям крутую кашу из варёной фасоли.
–Аббатиса возвращается через четыре дня, – придвинув ближе миску с едой, обратился Карлино к своему ученику. – Надеюсь, мы успеем настроить орган к её приезду.
Разговор за ужином не клеился. Они пили тёмное, чуть горьковатое на вкус пиво и молчали. На улице тоненькой флейтой посвистывал ветер. Безнадёжно серый, как облачение францисканского монаха, осенний день без единого светлого лучика, завершился.
Под монотонное бормотанье голосов немногочисленных постояльцев, а, скорее, под воздействием усталости, душу Карлино затопила печаль. Он сидел, склонив голову над кружкой, и думал о том, как можно пройти столь длинный путь так незаметно? О долгой ли дороге из Италии в Богемию он думал? Или о своей жизни?
Вдруг, словно по полу рассыпались орехи, зазвенели звуки цимбал. Это пробовал струны молодой цыган в белой рубахе и бархатной безрукавке. Музыка взвилась к потолку.
Удивление мгновенно вытеснило из сердца Карлино меланхолию. Он узнал эту мелодию.
…Ему вспомнилась изогнутая шея арфы и дерзкие глаза певицы, жёлтые от света лампы. И её альт, чуть хрипловатый, страстный…
Песни сильнее самой жизни…
–Что с вами, учитель? – забеспокоился Джованни. – Вы так побледнели.
–Я… просто вспомнил. Я слышал эту мелодию. Давно. Её играла одна девушка…
– О чём вы говорите? Это какой-то цыганский наигрыш.
– …я всегда любил прислушиваться к отголоскам таинственного и заглядывать на другую сторону мира. Моё увлечение музыкой в полной мере давало мне такую возможность. Да-да, мой мальчик, я не так уж стар, но волосы мои седы, а глаза впалы, ибо я приподнял край завесы и заглянул в мир сверхъестественного. Всё, что считают бреднями и выдумками, приобрело для меня характер страшной истины. Джованни, я должен рассказать тебе... Ты ещё так молод. Как я той осенью, когда мне исполнилось семнадцать…
Отец считал, что юноше негоже оставаться неучем, и по совету приходского священника отправил меня во францисканский монастырь, что на острове Сан Франческо дель Дезерто. Зная о моём увлечении музыкой, падре Агриций договорился с органистом кафедрального собора, чтобы тот обучил меня этому искусству.
Недолгие сборы, слёзное прощание с матушкой, и вскоре от берега Венецианской лагуны отчалила лодка, переправившая меня из Бурано на крошечный клочок суши, к которому два века назад прибило челн Франциска Ассизского, следовавшего на родину из Святой Земли.
Давно не случалось таких затяжных упрямых дождей. Волны, подгоняемые сирокко, перехлестывали через борт утлого судёнышка, и я истово молился Святому Франциску. А ещё изо всех сил старался не думать о доме, что оставлял, дабы постичь богословскую науку среди монахов францисканского ордена. Лишь иногда осмеливался я поднять глаза и бросить испуганный взгляд туда, где смыкались серый небосвод и серое море. Там смутно угадывались очертания святой обители.
Когда лодка пристала к пологому берегу, и моему взору открылась картина, поистине превосходящая мои представления о возможностях творения рук человеческих, меня поразили не мощные стены и не громадность постройки, но согласие, симметрия и гармония этого места, словно созданного для мирной молитвы и отречения от земного.
К монастырской двери вела аллея кипарисов.
Когда я вошёл в храм, братья молились. Павши ниц, монахи, мерно отсчитывали нужное количество псалмов. Огонь с треноги едва освещал их серые фигуры. Казалось, они придавлены к полу неизбывной скорбью, но уста непрерывно творили молитву:
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Братья не прервали молебен, даже когда из открытой мною двери по полу потянуло холодным, насыщенным влагой воздухом. Мне не оставалось ничего другого, как присоединиться к ним.
Когда вознеслось под купол нефа последнее «Amen», и в храме воцарилась тишина, ко мне подошёл келарь и велел идти с ним.
Направо от церкви тянулся ряд часовен, а чуть дальше располагались хозяйственные постройки. Мне отвели маленькую келью в доме послушников. Её убранство состояло из неширокого ложа, скамьи, высокого аналоя с двумя наклонными дощечками для писания и деревянной полки для книг. Узкое окно смотрело на монастырскую стену.
Как мечтал я тогда затвориться в этом мирном убежище и поскорей погрузиться в изучение строгих гармоний, призванных сопровождать обращённые к Господу молитвы. Органист кафедрального собора отец Северин начал обучать меня музыкальной грамоте с самых азов. О, сколько премудростей и тайн поведал мне мой многомудрый учитель! Я подолгу просиживал у аналоя, аккуратно обмакивая тростник в чернильницу, и старательно записывал числа, полные духовного смысла. Через эти символы Господь обращался к нам, призывая помнить о жизни вечной, заставляя таять тени и призраки в душе.
Но одной проклятой ночью прервалось моё путешествие в мир божественных созвучий. Это случилось в самом конце октября, в ту единственную в году ночь, когда стирается грань времён, а сны становятся вещими.
Отец настоятель направил моего учителя в небольшой городишко, расположенного неподалеку, для настройки органа в новом храме. Отец Северин одарил меня святым благословением, и я отправился с ним. С усердием выполнив то, что надлежало, мы двинулись в обратный путь. Однако к вечеру непогода разыгралась не на шутку. Лило как из ведра, и, опасаясь вымокнуть до нитки, мы решили переждать дождь в захудалой таверне на перекрёстке двух дорог.
Угрюмый хозяин, нерасторопные слуги... Но на ужин нам подали отменный сыр, изюм и бутылку вина. Я сидел напротив отца Северина, ел и думал…
О чём я думал? Теперь я и не вспомню, ибо в памяти осталось только мгновенье, когда моего слуха коснулись странные, подобные ветру гипнотизирующие звуки. Кто-то извлекал дивные арпеджио из какого-то струнного инструмента, по звучанию напоминавшего арфу.
И вдруг зазвенел красивый женский голос.
Она сидела в дальнем углу, небрежно положив руку на спинку скамьи, в платье, туго стянутом на талии ярким платком, красивая, с пламенными глазами. У неё на коленях лежала небольшая арфа. Отблески огня из очага прыгали по стенам и сверкали в её чуть раскосых глазах. О, эта девушка стоила всех чудес на свете – тонкая, стройная, изящная... Дерзкий взгляд, воодушевляемый какой-то дикой энергией, разбросанные по плечам волосы вместе являли нечто пленительное, даже обольстительное. Но что есть красота? Наружность всего мимолетней в человеке. Она вянет и пропадает, как луговой цвет.
Она играла на арфе и пела.
Её музыка не являла вдохновенной строгости церковной школы, на которой я воспитывался, но и простецкой мелодией площадного музыканта её нельзя было назвать. По сей день я не могу понять, как в условные формы она смогла влить дерзновенность новых звукосочетаний и роскошь необычных гармоний. Казалось, мелодия звучит впервые с сотворения мира, ибо такое не забудешь, услыхав однажды.
Она сразила меня.
Можно ли пробудить страсть при помощи музыки? Мне кажется, мой мальчик, что сама природа любви – это музыка. Мы слышим гармоничные аккорды и прекраснейшие мелодии, когда влюблены и счастливы. Когда же ненавидим, нас преследуют диссонансы.
Инструмент, что она держала в руках, походил на арфу – изогнутая шея, прозрачная сетка струн – но резонатор более узкий, а струны разной длины натянуты по диагонали. Это было что-то более древнее, похожее на инструмент библейского царя Давида. Я внимал дивным созвучиям и гармониям неизреченной сладости.
Наверное, так говорили боги… Она играла, и я из деревенского паренька превращался в древнего воина, которому впервые спела натянутая тетива боевого лука. В тот день молодой лучник поднял оружие не для того, чтобы убить, ибо сердце его наполняла любовь. Он натянул четыре тетивы, и создал первую арфу.
Мистическая звуковая лестница уводила меня в иные миры. Передо мной стояла не кружка с кислым вином, а золотая чаша, полная фимиама. В струнах арфы пел Эол, а в жёлтых глазах певицы мне улыбалась сама Луна.
И вдруг… завораживающий мрак, вызванный дьявольским тоном, пронзительный звук, похожий на завывание волка.
Я вздрогнул. Девушка играла какие-то дикие интервалы. Шире кварты, но уже квинты, ровно три тона... Diabolus in musica! Квинта дьявола! Мной овладело предчувствие и страх. Сейчас я понимаю, это мне ангел-хранитель посылал мне знаки.
В тот же миг дверь таверны распахнулась, и показалась безобразная старуха. Не переступая порога, она обратилась к девушке. Старуха сыпала какими-то обрубками слов, адской смесью древних языков, отголоски которых я слышал однажды. Я не знал, что она выкрикивает. Из тёмных речений ведьмы я понял только одно – девушку звали Франческой.
Франческа не ответила, только презрительно повела плечом, легко поднялась и направилась к двери, глядя на меня. Проходя мимо, она слегка дёрнула меня за рукав, как бы приглашая идти за ней.
Я выдержал всего несколько мгновений, так тянуло меня выйти следом.
Стояла глухая ночь – чёрная, разбойничья. Дождь кончился. Луна поднялась высоко, и воздух был так прозрачен, что я различал даже изгибы ветвей на деревьях. В конюшне тревожно заржали лошади. Я оглядел двор. В двух десятках шагов какое-то животное рылось в земле. Я присмотрелся – волк.
Похолодев, одними губами я прошептал молитву:
– Святой Франциск, заступись за нас грешных!
Лёгкий шорох за спиной заставил меня оглянуться.
Рядом стояла Франческа.
Её глаза горели в лунном блеске, как два жёлтых огня. Волчьи глаза.
Вблизи я рассмотрел, что она рыжеволоса, а лицо покрыто веснушками. Необычная, своеобразная красота Франчески сделала меня бессильным перед нею.
Не знаю, грехи ли её или прелесть, делали девушку такой притягательной? Ведь красота тела, в сущности, ограничена кожей. Но простое любопытство сменилось могучим чувством. Страсть, внезапная и непобедимая, овладела мной.
Почему так глупеет человек, когда влюблён?
Франческа приблизилась так, что её дыхание обожгло мне губы, и поцеловала.
Время словно остановилось и падало на нас с небес, подобно каплям таинственного вещества.
Потом Франческа прошептала:
– Джозефе, приходи завтра после заката…
Она махнула рукой в сторону моря.
–… туда ведёт левая тропинка от развилки, что у пинии.
Глупец, тогда я даже не удивился, что она знала моё имя, хотя мы виделись впервые.
Весь следующий день мне не сиделось в келье, и я бесцельно рыскал по монастырю. Назначенная встреча с Франческой не давала мне покоя. Что-то грызло и угнетало мой дух.
Солнце уже клонилось к западу, когда послышалось пение монахов, сопровождаемое звоном колокольчиков, и длинный ряд францисканцев потянулся вдоль монастырской стены, останавливаясь возле каждой часовни и вполголоса читая молитвы.
«Придите, воспоем Господу!»
Обойдя все до одной, братья вошли в церковь.
Я не пошёл с ними. Какое-то время всматривался я в вечерние облака и прислушивался к звону струн, доносившемуся издалека, и представлял, как Франческа сидит на прибрежном песке, глядя на море, и играет на арфе. Меня непреодолимо влекло туда.
Когда монастырские часы пробили восемь, я отправился на берег.
Выйдя тем вечером за пределы обители, я невольно вступил в таинственные запретные области. Мог ли я вообразить, что существует иной мир, волшебная страна, где цветы и растения источают мёд и амброзию, где зреют сочные плоды. Но она уже ждала меня, эта ловушка для молодой необузданной плоти.
Неподалёку от монастыря, у старого колодца росла вечнозелёная пиния. От неё расходились в стороны две узкие тропы. Одна из них уводила к морю. Странная, заросшая по краям репейником и мареною дорожка. Будто никто по ней и не ходил. Ветер уныло качал лиловые соцветия чертополоха. Чем дальше уходил я по тропе, тем более уставшим себя ощущал.
Вдруг из зарослей, прямо у меня из-под ног, оставляя за собой дорожку в пыли, выполз крупный уж. Так по змеиному следу я и вышел к берегу.
Франческа стояла спиной ко мне у небольшого костра и смотрела на море. Волны с шумом накатывали на песок. Тучи постепенно затягивали небо. Не знаю, как, но она, даже не обернувшись, поняла, что это я.
– Пойдём, – сказала Франческа. – Скоро будет дождь.
Она привела меня в покосившуюся рыбацкую хижину. Но внутри оказалось уютно и хорошо натоплено, что удивило меня – как можно удержать тепло защититься от сырости в столь ветхих стенах,
Хозяйство Франчески состояло из узкого ложа, покрытого тканью с ярким орнаментом, стола со скамьёй у крошечного окошка, маленького котелка и кружки.
Она поняла мой взгляд и сказала с улыбкой:
– Здесь найдётся всё: вода, немного хлеба и вино.
Она повернулась к полке и достала несколько оливок. Мы поужинали размоченным в кипятке хлебом, выпили вина.
Небрежный наряд и чудесные распущенные волосы делали Франческу неотразимой. Она заигрывала со мной, и я не мог не отвечать ей. Но тёмное предчувствие не оставляло меня.
– Хочешь, сыграю тебе на хелисе[6]? – спросила она, беря в руки инструмент.
Пальцы коснулись струн. Сначала она играла какую-то тихую монотонную мелодию, похожую на завывание ветра. Она вызывала леденящий душу страх. А потом она запела на каком-то древнем наречии. Я не знал языка Франчески, но…
…на меня обрушились рёв урагана, бушующего над морем, быстрый топот ног невидимых преследователей, спор тысячи гневных голосов…
Музыка достигла странного вибрирующего тона, будто хотела достичь недосягаемой высоты. И уже невозможно было определить, звук ли это струнного инструмента или высокий человеческий голос. Дрожь волнами пробегала по моему телу вместе с тем, как звучали то приятные, то диссонирующие звуки. Гармония менялась крайней дисгармонией, и я переходил от эйфории к раздражению, от наслаждения к щемящей душевной боли.








