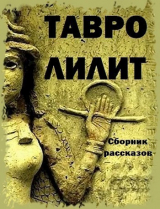
Текст книги "Тавро Лилит"
Автор книги: Галина Евдокимова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Нагайя повернулась на спину. Улыбаясь чему-то своему, лежала на белой простыне тонкая, гибкая, как стебелек экзотического растения. Находясь рядом с ним, она по-прежнему оставалась наедине со своей тайной.
Марк отчего-то вдруг застеснялся своей наготы, схватил одежду, никак не мог попасть ногами в штанины, а когда, наконец, оделся, то не оглядываясь, выбежал прочь.
Долго бродил по двору, чтобы успокоиться.
Потом вдруг решил – спрятаться! Шмыгнул в большой прохладный сарай. Невидимка-ветер ломился в дверь, тряс стёкла окон; казалось, они не выдержат, впустят ужасное…
С того дня, как Нагайя поселилась в его доме, она никуда не выходила и не интересовалась, куда уходит он. Когда Марк что-то делал, она тихо сидела в старом кресле в дальнем углу комнаты, но он чувствовал, следит за ним. Порой пытался вести себя непринуждённо, вёл бессмысленные разговоры – не с ней, скорее, с самим собой, – только для того, чтобы немного оживить обстановку, но встретив её уничтожающий взгляд, умолкал на полуслове.
Двигалась Нагайя почти бесшумно. Услыхав шорох, он оглядывался на пустое кресло, и вздрагивал, когда она неожиданно прикасалась к нему.
Нагайя становилась вроде бы ещё тоньше, как-то вытягивалась, бледнела, глаза у неё постоянно слезились. Жестикуляцией, поворотами туловища она напомнила диковинную змейку, свернувшуюся кольцом в тёмном сыром углу. Ночами она бродила по дому, едва слышно поскуливая, как неупокоенный, неотмоленный дух. Марк лежал, затаив дыхание, прислушивался. Ждал, когда подойдет к нему…
Подходила. Наклонялась, водила носом, принюхиваясь, и шептала:
– Человек с водою в жилах и не человек вовсе…
Зачем, зачем он с ней связался! День за днём он будто постигал какую-то невероятно сложную материю. Можно было убежать, просить помощи, но почему-то он не делал этого, словно загипнотизированный. Она забирала его силы, сокрушала своей неведомой властью. Иногда ему снилось, как он накидывает ей на шею веревку и держит крепко-крепко, пока не перестанет биться. Он надеялся, что когда-нибудь ей надоест домогаться его, и она отстанет.
Однажды он с ужасом и горечью понял, что не может припомнить лица Натки. В памяти не осталось ни следа, ни пятнышка той Натки, какой она была когда-то, светлой и нежной, как березовый сок. Словно её и никогда и не существовало. Душа его истончилась, превратившись в какой-то полуистлевший лоскуток. Прежняя жизнь ещё припоминалась, но уже без лиц, без имён.
Каждый день он старался уходить куда-нибудь, всё равно куда. Но вне дома страшно тосковал по Нагайе. Черты её всплывали в памяти – чарующие, навевающие грёзы об иных мирах и временах, слышалось невыносимо тонкое пение свирели и бряцание бубнов, снова и снова пробуждающее в его крови ту особую реакцию, которая всегда приводила его назад, к Нагайе, и он готов был последовать за ней, куда она прикажет, легко подпрыгивая на козлиных копытах, как сатир.
Не проходило ни дня, в продолжение которого он не бывал одинаково счастлив и несчастлив. Это от неумения пренебречь желаниями, подняться над ними, оправдывался Марк.
Он боялся встречи с Нагайей, самой Нагайи, испытывал к ней странное враждебное чувство, но свирели и бубны влекли неотвратимо. Это был гипнотический транс. Особенно ощутимым он становился в сумерках. А когда приходила ночь, в дом вползал страх, неизвестность и гнетущее ощущение приближающейся опасности…
В тот вечер он вернулся чуть раньше десяти, как обычно ободрённый водкой. Было тихо. Тишина словно въелась в стены дома. Густая, холодная и мутная, как слизь, она сочилась из всех щелей.
Нагайя, как всегда, сидела в старом, покрытом плюшевым пледом кресле. Ему не хотелось подходить, снова заглядывать в мертвенно-бледное лицо. Неподвижные зрачки, полупрозрачные веки. Выдержать её взгляд невозможно. Марк и не пытался.
– Нагайя, – позвал он, зная, что не ответит. – Может, музыку послушаем?
Спросил, скорее, у себя. Да и музыка ему нужна только для того, чтобы заглушить проклятый стон свирелей.
Когда раздались первые звуки, он заметил, как напряглось её лицо, как вся она сжалась в кресле. Потрескавшиеся губы впервые за много дней приоткрылись.
– Выключи эту шарманку, – хрипло приказала она.
И куда только девался проникновенный голос и взгляд обольстительницы?! Он не понимал, что её смутило, но в её голосе явно слышалась неуверенность.
– Тебе не нравится музыка? – спросил Марк, дрожащими пальцами коснувшись её щеки.
Жест неуместный, даже глупый.
Она молчала, словно безуспешно стараясь что-то припомнить.
Марк наклонился.
То, что он увидел, показалось ему абсурдным и страшным. В неподвижных, широко раскрытых глазах Нагайи застыли чёрные узкие вертикальные зрачки.
Марк замер. Он не мог отвести взгляд.
Внезапно она дважды моргнула, одновременно высунув отвратительно длинный язык, и, облизнув растрескавшиеся губы, тихонько зашипела.
– Выключ-чи… эту ш-шарманку…
– Ты не в своем уме! – выпалил Марк и бросился к двери.
Он побежал на чердак, нашёл молоток – тяжёлый, с почерневшей ручкой – и сел спиной к стене напротив входа.
Ужасные звуки, в которых мешались звон бубнов и шипении змеи, видения одно ужаснее другого мерещились ему: вот она – мокрая, липкая, страшная – разбухает, как густая студенистая масса, становится огромной бесформенной гигантской гусеницей и ползёт к нему. Он умирал от страха, но не мог ни подавить его, ни обуздать, ни найти мало-мальски разумные доводы, чтобы успокоиться. Вот сейчас… Стоит оглянуться, и встретишь страшный взгляд.
Это она, Нагайя, заставляет его поверить в то, что всё это происходит на самом деле! Казалось, он слышит рядом шуршание змеиного тела и приглушенный настойчивый шепот:
– Выкачаю всю соль из крови твоей, и станет она водой… Сам придёшь ко мне…
Марк просидел на чердаке до утра. Часам к восьми взял себя в руки и спустился вниз. Долго стоял под горячим душем, но и это не принесло успокоения. Оделся дрожащими руками, путаясь в рукавах.
В доме стояла тишина. К оконному стеклу никло пасмурное утро.
Войти сейчас в комнату – всё равно что упасть в глубокую чёрную яму. Нагайи в комнате не было. Он долго смотрел на пустое кресло.
Произошло что-то ужасное, выходящее за рамки разумного. Неожиданное, мучительное её отсутствие не шло ни в какое сравнение с тем, что он увидел – ворох бесформенных лохмотьев возле кресла. Что-то похожее на полуистлевшие остатки одежды, какие-то белёсые ошметки, струпья, кожа, кровь…
Но ему уже некогда было раздумывать об этом. Потому что в комнате возникла она.
В дверях стояло отвратительное существо со слепыми, затянутыми плёнкой глазами, дикой улыбкой и длинным, постоянно двигающимся языком. Тонкая шея, увядшие щеки, ввалившаяся грудь. Отделившийся от плоти слой кожи цеплялся за шероховатые предметы, оставаясь висеть на них полупрозрачными лоскутами. Она выползала из своего человеческого облика, оставляя его тонким чехлом, вывернутым наизнанку.
Тошнотворное зрелище. Ужасный выползок – мокрая, липкая, разбухшая, как густая студенистая масса, бесформенной гигантской гусеницей ползла к нему.
Она пыталась что-то сказать, брызгая слюной, выплёвывая бессвязные звуки. Ни одного зуба, ни единого волоска на крошечной головке.
Издав протяжный стон, она повалилась на пол и поползла.
Возле его ног гадина неуклюже поднялась на хвост и потянулась к нему, как будто желая обнять, но вместо этого толкнула.
Уж падая, Марк увидел, как она открывает рот. Челюсти разомкнулись.
Он таял. Распадался. Подгружался в неведомую чёрной дремоту, изо всех сил стараясь ухватить разбегающиеся линии и формы... Что-то скользкое и холодное коснулось его лица.
…Сознание всё ещё продолжало работать, и сквозь безмерный ужас и ощущение вселенского одиночества слух обожгли слова, пахнущие полуразложившейся, плохо переваренной плотью, палёные, обожжённые жаром самого сердца земного, видавшие чёрный камень-гранит и чёрную подземную воду:
– В мрак, к Маре!
3.
С вершины холма Нагайя оглянулась. Внизу, в долине, горели высокие костры. Пахло остывающей землёй.
Они поднимались по тропинке среди папоротников. Каждый сам по себе, не касаясь друг друга. Гай вёл коня под уздцы. Нагайя шагала впереди, с развевающимися волосами, прижимая к груди заветный цветок, не оборачиваясь, не глядя на Гая. Сегодня она неистово любила жизнь. Хотелось просто идти среди трав, не испытывая ни мучительных противоречий, ни угрызений. Поддаться колдовству любви, жить в нём…
Впервые увидев Гая, она поняла – этот человек погубит её.
Нагайя вспомнила, как очнулась лежащей поперёк седла, как качалась степь в такт лошадиному топоту, мелькали перед глазами алые цветы. Она до сих пор не понимала, почему не умерла тогда, почему позволила увезти себя. Но она словно заблудилось в душистой дрёме луговых трав.
Всё сильнее терзала её любовь, сильнее становилось отчаяние.
Гай привязал коня к колючему кусту. Нагайя принесла охапку сушняка. Гай достал кресало и высек огонь.
Они сели возле костра напротив друг друга.
Освещённое пламенем высоколобое лицо Гая было прекрасно и неподвижно. В тишине, нарушаемой лишь потрескиванием огня, ей захотелось поговорить о чём-то сердечном.
Она простила его. Но что-то тлело и тлело внутри, плакало, ныло, болело тихонько. Она обнимала его взглядом, зная, как смертоносен её взгляд, что сладкий грех её – дитя другого, бОльшего греха.
Гай вытащил чепрак из-под седла и постелил на землю. Они упали в молодую сладко пахнущую сон-траву. Она лежала навзничь, замирая от поцелуев, но не смела отвечать.
Потому что у неё уже не было сердца…
…Во взгляде Гая смешались испуг и удивление, в расширенных зрачках вспыхнули огоньки и медленно стали опускаться в чёрную глубину.
Кровь из перерезанного горла брызнула на каменный алтарь.
Нагайя чувствовала, как змеями шевелятся на голове волосы. Она медленно закрыла глаза, думая, что делает всё во сне…
– …в царстве Дыя тучи хмурые, стаи воронья чёрного! Приходите, огнём меченые, скверны сподручницы! Приходите, слуги Чернобога! Сползайтесь, змеи, Суровая Ламия и Великий Змей-держатель мира!
Вдруг пронёсся вихрь. И пала тьма. Неведомая могучая сила – жар самого сердца земли – бушевала, плыла сквозь яростные вспышки...
…Нагайя очнулась, когда уже светало. В погасшем костре мерцала зола. Ветер разносил острые запахи. Жар разгорячённого тела постепенно выходил, и так упоительно было чувствовать его остывание.
Гай лежал рядом, спиной к ней.
Она прогнала прочь обрывки страшного сна, стараясь не думать, что будет потом. Когда сквозь клубы утреннего тумана блеснуло солнце. Нагайя поняла – пора.
Встала. Натягивая платье, сказала Гаю:
– Пойдём. Нельзя, чтобы люди твоего отца застали нас вместе.
Гай не ответил.
Нагайя подошла ближе. Наклонилась, коснулась его плеча. Гай не шевелился.
Нагайя тронула его голову рукой, заглянула в лицо. Открытые глаза был бесцветными, напряжёнными, мёртвыми.
Заметив на ладони кровь, она медленно опустилась на землю рядом с Гаем.
Долго сидела, размышляя, – любила-не-любила – а когда до вершины холма долетели первые звуки просыпающегося селенья, она закрыла потухшие глаза Гая и прошептала:
– Ибо гнев мой сильнее сострадания.
Поднялась и, перешагнув через мёртвое тело, пошла прочь по тропинке, вьющейся среди папоротников.
Ночная стража, или Кто убил капитана Хассельбурга?
С самого утра он сидит у окна чердачной комнаты, глядя на площадь, выложенную булыжниками в виде восьмиконечной звезды, и ждёт.
Это случится ближе к ночи, когда вода в амстердамских каналах почернеет и загустеет, как смола. Если выглянет луна, то ещё издали удастся разглядеть большой, похожий на гроб баркас, плывущий со стороны ратуши. Когда судно будет проходить через шлюзовые ворота Святого Антония, старик-шкипер ударит о палубу длинной острогой и крикнет:
– Ночная стража!
Вот тогда и явятся они. Из тёмного двора через арку, выстроенную в честь визита в Амстердам Марии Медичи, на площадь выйдут кловениры стрелковой роты капитана Кока.
Впереди, как всегда, Франс Банинг Кок. Весь в чёрном – шляпа, жакет, чулки, туфли... Красная перевязь через плечо. Правая рука в перчатке слегка на отлёте. А левая… будто чужая, будто не ему и принадлежит, без перчатки, без ногтей, такая бледная в ярком свете фонаря, она тянется к человеку в золотистом камзоле с белой перевязью – лейтенанту Рёйтенбургу.
Только провокаторы и сплетники предлагают к пожатию левую руку!
И ещё мертвецы…
Так кто же такой, этот Франс Банинг Кок?
– Вы убийца, господин капитан, – шепчет он. – И скоро об этом узнает весь Амстердам. Я разоблачу вас. Я, Рембрандт Харменс ван Рейн.
1.
Небо в чёрно-белых тучах. Ранние сумерки ветреного дня, грязного от копоти, дождя и слякоти.
За обедом в таверне он съел отбивную с капустой, выпил рюмку «Голландской храбрости»1, и вот уже целый час стоит на мостике, перекинутом через канал, и наблюдает, как редкие снежинки тают, так и не долетев до воды.
Ледяной ветер больно жалит лицо и руки. Сангина исписана настолько, что кончики пальцев касаются листа. Истрачена почти вся бумага. Но сегодня, двадцать четвёртого ноября тысяча шестьсот сорок второго года от трёх до четырёх часов дня он понял, почему не замерзает вода в амстердамских каналах. Такая чёрная и густая – настоящая смола – что кажется, будто она направляется прямо в адские котлы.
Внезапно ветер изменил направление. Над головой резко взметнулась чайка, шквал пригнал её с моря. Несколько быстрых штрихов сангиной, и птица навсегда застывает в правом верхнем углу изрисованного листа.
Саския как эта чайка. Северный ветер пригнал её в Амстердам из Фрисландии.
Она настоящая патрицианка, дочь бургомистра Леувардена. А он мужлан, сын лейденского мельника.
У отца была хорошая мельница на берегу Рейна. Шагая под ледяным дождем вдоль Принсенхофского канала, мимо домов с тяжёлыми фронтонами он вспоминал тёплую полутьму, пахнущую бродящим зерном и солодом. Вспоминал, как сидя на мешке с мукой, рисовал под монотонный звук вертящегося колеса лущильной машины маленькое Евангелие в красном переплёте, лежащее на обдирочном камне; паутинку, свисающую с потолка, и чью-то сгорбленную тень, дрожащую в углу.
Поговаривали, что на отцовской мельнице водиться всякая нечисть. Чепуха! Отец не знался с чёртом.
А вот ему пришлось…
Рембрандт шагал по улице, насквозь продуваемой шквалистым ветром. Струи дождя летели к земле то отвесно, то косо, как будто старались выбить стекла. В одном из окон мелькнул белый накрахмаленный чепец: какая-то матрона выглянула на улицу. Повеяло домашним уютом, славно растопленной печью, и на душе стало немного теплее.
Дом на Йоденбрестрат у моста Святого Антония он присмотрел для них с Саскией восемь лет назад. Прекрасный вид на порт, до Амстела рукой подать, летом можно прогуливаться вдоль реки. Дом хороший – три этажа, мансарда, полуподвальное помещение. Очень дорогой. Но он выплатит.
Рембрандт пересёк мост, с которого открывался отличный вид на Чокнутого Якоба, миновал шлюзовые ворота с кольцевым перекрестком Мейстер-Виссерплейн, повернул на Йоденбрестрат и вышел к дому.
Восемь лет назад он перевёз сюда Саскию…
Сегодня дом смотрелся невесело. Впрочем, в ноябре у любого амстердамского дома вид мрачноватый. А это был один из самых унылых осенних вечеров.
Он поднялся по крутой лестнице, на ходу срывая с себя куртку и шарф. Долго расхаживал по мастерской. Какое-то время бесцельно сидел, глядя в пространство, пока не застыли спина и ноги. Дыхание вырывалось изо рта тающими облачками пара. Он поёжился.
Нет, это не просто озноб. Значит, она уже здесь. Явилась и сидит за спиной по ту сторону стола, глядя на него через зеркало, одновременно рядом и в отдалении, отстранённая и такая близкая.
Саския… Один на один с наброском её посмертного портрета. Из углубления подушки на него смотрело лицо девочки-подростка. Странным образом отразилась на ней болезнь, неумолимое время словно повернуло вспять.
Он поёрзал на стуле. Надо бы работать, но из угла послышались тихие всхлипывания.
Зачем она снова пришла…
– Уходи, – тихо попросил он. – Не плачь, пожалуйста, и уходи. Мне надо работать. Ты же знаешь, я ещё не выплатил долг. А нашему сыну нужен собственный дом…
Рембрандт оглянулся. В углу никого не было, только слабое свечение.
Работать, надо работать, вот только руки совсем окоченели.
Рембрандт спустился вниз. Огонь в камине отлично горел, но он зачем-то схватил кочергу и разворошил поленья так, что искры разлетелись красными снопами.
Чистый алый, слегка пронизанный оранжевым… Шафрановые одеяния наложницы на пиру Валтасара… Мерцающее изнутри красное платье Эсфири…
Где, чёрт возьми, он видел эти краски?!
Почтенным амстердамским бюргерам, этим упитанным пожирателям сыра, не по вкусу драматические и горестные сцены, они хотят любоваться на прекрасных молодых женщин, сине-зеленые реки, мирные стада, пасущиеся на лугу…
Правда? Да кому она нужна! В этом-то городе, прославленном лёгкостью нравов, и, тем не менее, полном предрассудков, условностей и крайней регламентации.
Искры вспыхнули и исчезли в глубине камина, а Рембрандт внезапно понял, что после завершения картины ему останется только одно – оглядываться на прошлое, на дорогой сердцу Лейден.
Работать, работать!
Рембрандт вернулся в мастерскую. Взял мастихин, покрыл поверхность холста клеем, затем тонким слоем мела – просвечивая сквозь краску, он придаст загадочное сияние всему, что будет написано поверх него.
Поле готово.
Для художника холст подобен полю брани, на котором развернётся бой света и тени, добра и зла. Победоносные атаки, отступления, гибель. Среди пульсирующих яростью пунцовых тонов вдруг ослепительно вспыхнет золотой… Девочка будет в золотом. Маленькая девочка среди мужчин.
Душа истекает кровью…
Нет-нет, кровоточить способно только телесное. А душа? Даже доктор Тюльп не объяснит, почему его душа истекает кровью, ведь он знает всё, но лишь о человеческом теле.
Рано или поздно простонародью придётся расстаться с суевериями, мол, доктора ковыряются в мертвецах. Недавно муниципалитет дал разрешение на вскрытие трупов, и теперь вскрытие практикуют на медицинских факультетах, а среди просвещённой публики анатомия признана модной наукой. Вся процедура обставляется наподобие театрального представления. Но это всё равно не даёт ответа на его вопрос. Даже доктор Тюльп, автор знаменитых «Медицинских наблюдений», не объяснит, почему его сердце истекает кровью.
Когда это началось? Около года назад, с одного разговора…
…В тот день над Амстердамом висела прозрачная голубоватая дымка. Никаких контрастов. Багровая краска черепичных крыш в белёсом свете северного неба и матовое мерцание воды.
Рембрандт стоял у самого края заключённого в камень потока и смотрел на воду, покрытую мелкой рябью. Он думал о том, как не похожи мутные Амстердамские каналы на величественные чистые воды Рейна. Он мысленно проникал в глубину – донный ил, ракушки, водоросли и что-то ещё, бесформенное, неопределимое, завораживающее.
Его размышления нарушил стук колёс. У въезда на мост Святого Антония остановилась карета. Из-за двери, украшенной гербом с тюльпаном, показался доктор Николас Питерс по прозвищу Тюльп.
Доктор очень богат и объезжает своих больных на карете.
– Доброе утро, господин ван Рейн, что вы здесь делаете? – приветствовал художника Тульп, подходя к нему.
Спокойное лицо, льдисто-голубые глаза, холёные руки…
– Просто смотрю на воду, – ответил ван Рейн. – Мне бы хотелось написать воду, уходящую вдаль, и тяжёлый чёрный баркас, поблёскивающий в лунном свете…
– Баркас? – удивился Тюльп, его брови поползли вверх. – Помилуйте, господин ван Рейн! Достоин ли подобный сюжет кисти такого живописца как вы? А между тем, скоро в Голландию прибывает английская королева Генриетта-Мария Стюарт со старшей дочерью. Брак со Стюартами весьма престижен для Оранской династии, и чтобы предстать в выгодном свете, королевский двор намерен ввести в сопровождение мушкетеров, когда в столицу приедет англичанка.
Всё это так мало волновало Рембрандта, но благодаря протекции этого почтенного амстердамца, четырежды избиравшегося бургомистром, он принят в гильдию Святого Луки и теперь имеет патент на продажу своих картин.
Рембрандт кивнул, а доктор продолжил:
– После визита в Голландию Марии Медичи очень возрос престиж рот ополчения, – доверительно сказал он. – Гильдия решила украсить картинами три стены Большого зала для мушкетерских собраний. Люди капрала Бикера наняли фон Зандрарта, офицеры синдики Стрелковой гильдии Говарда Флинка, а вот Хассельбургу я хочу рекомендовать вас, мой друг. Вот вам достойный сюжет! Они теперь готовятся к большому приёму в честь Марии-Генриетты и собираются заказать групповой портрет роты для помещения в Синдике. Это неплохой заработок. А престиж! Что скажете, господин ван Рейн? Хассельбург вскоре едет на переговоры в Ультрехт, а вот по возвращении…
Да-да… Капитану Хассельбургу в те дни предстояло отправиться в Ультрехт, но ему помешали. Произошло то, что потом назовут «несчастным случаем». Тот самый «случай» произошёл незадолго до визита английской принцессы во время стрельб. Пуля, выпущенная из мушкета юным Горацием Айкеном, одним из воспитанников богадельни сержанта Кемпа, угодила Пирсу Хассельбургу аккурат в правый глаз. Капитану снесло полголовы. Ужасно. Море крови.
Кровь… Киноварь? Нет, пожалуй, охра, усиленная красным лаком.
Таким образом, Хассельбург был устранён. Охрана королевских особ во время визита, а, значит, и доходы, и привилегии достались Баннингу Коку.
О! Он помнил его глаза – тёмные, мутные, злые. Древесный уголь или жжёная кость?
2.
Чем нужно писать, чтобы все поняли?! Расплавленным железом? Кровью?
Но он сделает так, что поймут – лицо убийцы напишет в полумраке, покрытым umbra mortis – тенью смерти. Так он изобразил лицо Малыша Ариса, повешенного за грабежи и убийства. Инспектор Амстердамской Медицинской коллегии едва успел снять труп с виселицы, чтобы упредить кражу костей и крови осуждённого, которым легенда приписывала целебную силу. Труп спешно передали в хирургическую гильдию для публичной аутопсии. За этим занятием Рембрандт и запечатлел доктора Тюльпа и семерых амстердамских хирургов. Memento mori – вот о чём он хотел сказать этой картиной. Посеревшее лицо трупа напоминает зрителям о смерти. Передний план картины затенён, и чем дальше в глубину, влево и вправо, тем слабее освещение и мягче соотношение светлого и тёмного.
Он и теперь напишет так, как считает нужным, и ему безразлично, что скажут на это простые кловениры, помешанные на лошадях и кеглях!
Нет, он абсолютно спокоен, если не обращать внимания на тупую боль в висках и на предательски дрожащие руки.
Он не устал, просто слишком взволнован.
Рембрандт положил мастихин и палитру на стол. Взял мальшток в левую руку и опустил на него правую. Кожаный шарик упёрся в левое плечо капитана Кока. Рембрандт осторожно коснулся кистью его лица.
Рисовать бравых солдат? Льстить? Нет, слишком просто, скучно и утомительно. Лесть и похвала – законное оружие художника, но не для него. И не в этом случае.
Ну, может быть, чуть-чуть кобальта на ленты, чтобы выглядели серебристыми. Щёголи и позёры! Он бросит обвинение прямо в их самодовольные лица.
Обвинение? Да, чёрт возьми! Двоежёнцы, торговцы паршивым оружием и детьми! Вон тот, с алебардой в руке, сержант Ромбаут Кемп, он владелец приюта для сирот, где готовят товар на продажу в «весёлые дома» и наёмных убийц.
Нет, работать в таком состоянии невозможно! Он бросил мальшток на палитру…
Когда ван Рейн перестал греметь кистями, из-за закрытых дверей послышались шаги.
Входя в мастерскую, рэбе Менаше бен Исраэль опрокинул табуретку, уставленную фарфоровыми банками для красок.
– Недаром пасторы-кальвинисты запрещали допускать иудеев в город, – шутливо возмутился он собственной неловкостью.
– Амстердам не Венеция, – в тон ему ответил Рембрандт. – И, если горожанин славен достойной репутацией, он с радостью будет принят в любом доме.
Ему нравилось принимать у себя главного раввина Амстердама, ученого, автора тёмной и запутанной книги «Славный камень и статуя Навуходоносера»2. Рембрандт собственноручно сделал к ней четыре офорта. А сколько вечеров они со старым сефардом скоротали в увлекательных беседах! Рембрандту была по душе роль ученика. Взамен он получал то, чего не могли дать алчущие портретов нувориши, разбогатевшие на дивидендах от Ост-Индской компании и покупавшие титулы за деньги.
Рэбе остановился напротив холста. Несколько минут внимательно изучал картину, затем, коснувшись ладонью лба, произнес:
– Воистину всё есть свет и тень.
– Да, но это не просто тень, – возразил Рембрандт, охотно начиная беседу. – Не просто тень от руки на костюме или от древка копья на земле. Моя цель – показать сияние, скрывающееся за физическим несовершенством. Или наоборот, моральное уродство, спрятанное под внешней красотой тела.
– Это так, – согласился рэбе. – Вы рисуете тело, но воспеваете душу. Ведь тело лишь одежда для души. Плоть стареет, умирает, разлагается, переходя из живого в неживое состояние, а душа переносится из старого тела в новое через материальный разрыв, называемый смертью. Эти перерождения всего лишь постоянное облачение душ в новые тела. Более с телами не происходит ничего. Работа художника сродни алхимическому деланию. С чем бы вы ни работали, господин ван Рейн, вы превращаете сырую, «мёртвую» материю в нечто живое, говорящее с нами…
…Рембрандту как никогда были нужны невероятные превращения, нечто сверхъестественное. А в самом центре картины он напишет её, Саскию! Вернее, её пылкий дух, облачённый в другое тело, которого отныне будет касаться только свет, золотой, божественный…
– …Господь постоянно говорит с нами, – продолжал рэбе. – Через обстоятельства, через природу. Тот, кто живёт в соответствии с законами, свят и получит свою награду. Допотопное поколение подогревало себя огнём зла, и тем наносило ущерб Высшим Водам. Поэтому и было осуждено водой – получило меру за меру. Так написано: и рассеклись источники большой Бездны – и нижние Воды, и каналы Неба раскрылись. И вода была кипящей и сходила с них кожа. Весь мир есть сфера действия таинственных сил, то враждебных человеку, то благосклонных к нему. Все мы ходим под богом, и дни наши сочтены. Мене, текел, упарсин!
Благосклонны ли к нему эти таинственные силы? Когда умер их с Саскией третий ребенок, Рембрандт понял, что это злой рок! Девочка, Корнелия, как и первенец Ромберт, умерла от непонятной болезни. На одной из гравюр он увековечил маленькую надгробную плиту.
Лучше бы он изобразил смеющихся детей. Или улыбку Саскии.
Бедная Саския…
Она бесстрашно отправлялась с ним в самые опасные картины. Она была для него и Вавилонской блудницей, и цветущей Флорой. Возможно, именно портрет с Саскией на коленях, где он изобразил себя в образе распутного сына, растрачивающего отцовские богатства, и стал началом конца. Вероятно, для беременной в ту пору Саскии это представляло настоящую угрозу: ведь напряжение искусства так велико, что не всякая жизнь в состоянии его вынести.
Со смертью первенца в каждом углу их большого дома навсегда поселился холод, словно на Амстердам пала вечная зима.
Только в каналах текли никогда не замерзающие воды.
И воды были кипящими…
…Так пусть же смерть принимает вызов! Пропитав полотно светом, он рассеет тень, притаившуюся в углах.
Рембрандт схватил кисти, палитру, подошёл к холсту.
Знамёна, барабаны, полосы света на пиках и на стволах мушкетов, на скошенных лезвиях шпаг, на сверкающих ботфортах…
Он писал, как одержимый. От напряжения глаза болели так, что казалось, что во всё видимое подмешивался красный цвет.
О, немного красного совсем не помешает! Кровавое пятно на полотне – свидетельство преступления – это красный камзол Яна ван дер Хеде, заряжающего мушкет. Не эта ли пуля убила Хассельбурга?
Итак, огромное полотно перед ним –пламенеющее, как огненная завеса, отделяющая свет от тьмы, ложь от правды.
Ничего, кроме света и цвета… Ничего, кроме истины.
Золото. И она…
…Как-то за обедом Саския спросила:
– Сколько человек будет на картине?
В её голосе слышалось волнение. Но, возможно, это только показалось – ясные глаза жены были холодны и походили на два новеньких гульдена.
Рембрандт поднёс бокал к губам и ответил:
– Человек двадцать во главе с капитаном Банингом Коком… и лейтенантом Рёйтенбюргом.
Саския, одетая в тёмно-синее платье, сидела за столом напротив него. В комнате сумрачно, только за спиной жены окно пылало золотом. Белое вино при таком освещении начинает золотиться.
Он высоко поднял бокал. Да, жёлтый – это, пожалуй, вино.
Или яд змеи?
Жёлтый тоньше красного, подвижнее, он текуч и «гаснет» от света. Укрывистый жёлтый ложится густо, делая нижний слой невидимым, а прозрачный, наоборот, позволяет ему просвечивать. Красный же статичен, он затвердевает как запёкшаяся кровь.
Рембрандт сделал глоток.
Саския потупилась. Её голос слегка дрожал:
– И как долго это продлится?
Глаза тоже выдают. Поэтому она и прячет их.
– От одного часа до двух месяцев, – ответил Рембрандт, стараясь оставаться приветливым. – Что же ты не пьёшь? Доктор сказал, глоток хорошего вина пойдёт тебе на пользу.
– Ты, конечно, шутишь, – глухо сказала она и пригубила из бокала.
Она пила его, этот свет – ядовито-жёлтый, золотой…
Рёйтенбурга он напишет в золотом. Как и девочку с лицом Саскии. Они будут в центре.
И обязательно кто-то в чёрном...
3.
Одетый в чёрный бархат, почти неразличимый в полутьме, капитан Кок и сверкающий золотом камзола лейтенант Рёйтенбург, они явились передать плату за работу.
– Прошу вас, господа! – пригласил Рембрандт.
Он в упор смотрел на Виллема Рёйтенбурга: широкая грудь, крепкие руки. Ничего не скажешь – бравый лейтенант. Как он несет своё тело! С лёгкостью, непринужденностью. Но на фоне шелковистых каштановых волос лицо казалось слишком жёстким.
Банинг Кок надменно обратился к Рембрандту:
– Вы заключали контракт на картину с капитаном Хассельбургом? Я его преемник, мне и платить. Вот остаток денег.
Да, он взял эти деньги! Тысяча шестьсот флоринов сумма немалая, а ему нужно выплачивать за дом.
Немного смущённая торопливая болтовня жены, её порозовевшее лицо. Он перехватил быстрый взгляд Саскии, адресованный Рёйтенбургу. Тот лишь кивнул в ответ, лицо застыло, как маска. Считает, теперь достаточно скупого приветствия?
«Да что вы возомнили о себе, лейтенант?» – думал Рембрандт. – «Ваш протазан не так велик, как вам кажется».
Но, чёрт возьми, ему пришлось взять эти проклятые деньги!
Роскошь огромного дома – всё едва различимо и кажется далёким, словно переместилось куда-то на неосвещённую сторону.








