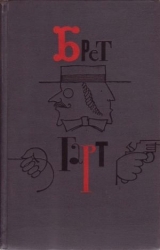
Текст книги "Брет Гарт. Том 6"
Автор книги: Фрэнсис Брет Гарт
Жанр:
Вестерны
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
С изумлением и тревогой он посмотрел на смеющуюся девушку.
– Когда это случилось? – спросил он.
Она перестала смеяться – скорее из вежливости и из уважения к нему, нежели от страха, – и спокойно ответила:
– Чего не знаю – того не знаю! Два часа назад, когда женщины уходили, все было в порядке. Готовить вам завтрак было рано, ну я, кажется, уснула и вдруг слышу какой-то шум и чувствую толчок. – Тут Хеммингвей вспомнил свое собственное смутное ощущение. – Тогда я встала и вижу – мы в воде. Я подумала, что это просто волна, которая сейчас схлынет, и не стала вас будить. И только когда я увидела, что мы плывем и что гора уже далеко, я решила вас позвать.
Хеммингвей подумал о лавке, оставшейся далеко позади, об отце Джей, о рабочих на берегу, о беспомощных женщинах, ушедших в Рэтлснейк Бар, и в ярости повернулся к ней.
– А все остальные, где они? – возмущенно спросил он. – Это, по-вашему, смешно?
От его слов Джей вздрогнула, как от пощечины, лицо у нее словно окаменело, и, нарочито растягивая слова, совсем как ее отец, она проговорила:
– Женщины сейчас высоко наверху. А наших ребят уже не раз заливало, и они выбирались из воды на корытах для промывки или на бревнах, но никто еще ни разу не хныкал. Том Флин однажды проплыл на двух бочках целых десять миль – до самого Сойера, но я не слыхала, чтоб он плакал, когда его вытащили.
Хеммингвей покраснел и сразу все понял. Ну, конечно, их начало заливать раньше, а всякого хлама там довольно, есть за что ухватиться. Они наверняка уже в безопасности. А хижину они бросили на произвол судьбы только потому, что не сомневались в ее прочности, а может быть, даже видели, как она спокойно поплыла по воде.
– А у вас такое уже бывало? – спросил он, вспомнив о своеобразном фундаменте хижины.
– Нет, ни разу.
Он снова взглянул на воду. На ней было явственно заметно течение. Это какой-то новый разлив, а не продолжение прежнего. Он опустил руку в воду. Вода была холодная, как лед. Да, теперь все ясно. Снег на вершинах Сьерры внезапно растаял, и вода устремилась вниз по каньону. Но будет ли она прибывать и дальше?
– Нет ли у вас тут шеста или палки подлиннее?
– Нет, – отвечала девушка, широко открыв глаза и качая головой с притворным отчаянием, но губы ее дрожали от смеха.
– Тогда, может быть, найдется какая-нибудь веревка или шнурок? – продолжал он.
Она протянула ему клубок грубой бечевки.
– Можно взять эти крюки? – спросил он, указывая на вбитые в балку грубые железные крючья, на которых висели окорока и вяленое мясо.
Она кивнула. Он выдернул крючья, смазал их салом от окорока и привязал к ним бечевку.
– Рыбу ловить хотите? – с притворной застенчивостью спросила она.
– Вот именно, – мрачно отозвался он.
Он бросил конец в воду. Бечевка ушла вглубь футов на шесть, потом выпрямилась и туго натянулась: крюки зацепили дно. Несколькими рывками он вытащил их. На крюках торчали листья и пучки травы. Он принялся внимательно их рассматривать.
– Мы не в Змеином ручье, – сказал он, – и не там, где было наводнение. На крюках нет ни глины, ни песка, а эта трава не растет у воды.
– Какой вы умный! – с восхищением сказала она, опускаясь на колени рядом с ним у края помоста. – Давайте поглядим, что вы там поймали. Смотрите! – воскликнула она вдруг, взяв в руки сломанный стебель. – Ведь это же «старикашка», он ближе Спринджерс Райза не растет. А это в четырех милях от дома.
– Вы уверены? – быстро спросил он.
– Еще бы! Ведь я им одеколонюсь.
– Что? – с недоумением переспросил он.
– А вот что!
Она сунула листья ему под нос, потом поднесла их к своим розовым ноздрям.
– Это… это… – Джей помедлила, а потом, с подчеркнутой старательностью выговаривая слова, произнесла: – Вместо духов.
Он с восхищением взглянул на нее. Совсем еще дитя, несмотря на свои пять футов и десять дюймов роста! Что за идиот он был, когда возмущался ее поведением! Как прелестно и грациозно стоит она на коленях с ним рядом!
– Послушайте, – проговорил он уже мягче, – ну а теперь вы над чем смеетесь?
Ее карие глаза на мгновение затуманились, но тут же снова засверкали весельем. Она наклонилась в сторону, оперлась на одну руку, теребя другой завязку от фартука, и с притворной застенчивостью промолвила:
– Понимаете, ведь можно лопнуть со смеху, как подумаешь, что вы совсем не хотели со мной разговаривать, просто готовы были все на свете отдать, лишь бы поскорей отсюда убраться, а теперь вам волей-неволей придется торчать тут вместе со мной неизвестно сколько времени!
– Но ведь то было вчера, – шутливо возразил он. – Я устал, вы же сами знаете. А теперь я не прочь поболтать. Что вам рассказать?
– Что хотите, – со смехом отвечала девушка.
– Сказать, о чем я думаю? – спросил он, глядя на нее с откровенным восхищением.
– Скажите.
– Все сказать?
– Да, все. – Она умолкла, наклонилась вперед, неожиданно нахлобучила шляпу молодого человека на его дерзкие глаза и добавила: – Все, да только без этого.
Пока он с трудом, изрядно смущенный, водворял шляпу на прежнее место, девушка встала и ушла в хижину. Несмотря на досаду, он все же с облегчением заметил, что она по-прежнему в веселом настроении. Был ли ее поступок проявлением провинциального кокетства, или же ее рассердили его заигрывания? Слова ее никак не рассеяли его недоумение.
– Придется нам отложить милые разговоры и ухаживания, пока мы не узнаем, где находимся, куда нас несет и что с нами будет дальше. А сейчас похоже, что только эти бревна и отделяют нас от царствия небесного. Возьмите-ка вы лучше парочку гвоздей да приколотите пол к ним покрепче, – сказала она, протягивая ему молоток и гвозди.
Хеммингвей послушно принялся за работу, хотя совсем не был уверен, что доски пола будут крепко держаться. В доме не было ни каната, ни цепи, чтобы связать бревна, и, если течение усилится, а хижина наткнется под водой на какой-нибудь пень или на груду обломков, бревна разойдутся, и она развалится. Однако он ничего не сказал. Молчание нарушила девушка:
– Как вас зовут?
– Майлс.
– Майлс… Знаете, Майлс, вчера вы показались мне таким чужим и далеким…
Мистер Хеммингвей счел это замечание чрезвычайно интересным.
– Однако, – сказал он, – стоило мне только попытаться подойти к вам поближе, вы меня сразу же осадили.
– Это все оттого, что вы двигались еще быстрее, чем хижина. Небось, со своими приятельницами в Сакраменто вы не такой прыткий. Ну да ладно, теперь можете рассказывать.
– Но ведь я еще не знаю, «где мы находимся» и «что с нами будет дальше».
– Зато я знаю, – спокойно возразила она. – Часа через два нас отсюда снимут и вы освободитесь.
Ее уверенность заставила его еще раз подойти к дверям и выглянуть наружу. Теперь течение совсем ослабело, и хижина казалась неподвижной. Не было даже ветра, который бы ее подгонял. Очевидно, они стояли на прежнем месте, но, измерив глубину, Хеммингвей убедился, что уровень воды начал понижаться. Он вернулся в хижину и сообщил ей об этом довольно самоуверенно – ведь она сама сказала, что он так много знает. К его удивлению, Джей только засмеялась и нехотя проговорила:
– Все будет хорошо, часа через два вы освободитесь.
– Не вижу никаких признаков этого, – возразил он, снова выглянув за дверь.
– А все потому, что вы ищете их в воде, на небе и в грязи, – со смехом отвечала она. – Вы, наверно, разбираетесь в таких вещах лучше, чем в здешних людях.
– Может быть, вы и правы, – весело согласился Хеммингвей, – но только мне не совсем ясно, при чем тут здешние люди.
– Вот увидите, – отвечала она, таинственно улыбаясь. Потом в глазах ее появилось нежное, но в то же время лукавое выражение, и она добавила: – Впрочем, вы, пожалуй, тоже по-своему правы.
Если бы всего час назад ему пришло в голову, что от одного лишь взгляда этой девушки, от нескольких ее слов сердце его будет биться быстрее, он бы только посмеялся.
– Значит, я могу рассказывать дальше?
Она только улыбнулась, но в глазах ее он ясно прочел «да».
Хеммингвей повернулся, чтобы сесть на стул с нею рядом. В эту минуту хижина вдруг задрожала, послышался треск, глухой удар, потом все сооружение накренилось, и обоих резко отбросило в угол, а в раскрытые двери стремительным потоком хлынула вода. Хеммингвей быстро обхватил девушку за талию и потащил ее в поднявшийся кверху угол хижины, что сразу восстановило равновесие, а она, все еще смеясь, невольно прижалась к нему. На миг у обоих перехватило дыхание, и в этот миг он повернул ее к себе и поцеловал.
Она мягко высвободилась, не выказывая ни волнения, ни замешательства, и, указав на открытую дверь, воскликнула:
– Глядите!
Два бревна из фундамента, на котором держался пол, преспокойно уплывали вперед! Очевидно, они наткнулись на какое-то подводное препятствие, бревна оторвались, а хижина зацепилась и застряла. Хеммингвей мгновенно оценил опасность. Он ринулся по узкому краю фундамента туда, где было препятствие, и, не задумываясь, прыгнул в ледяную воду. Он погрузился по грудь, прежде чем успел нащупать его ногами. Это оказался большой пень с торчащим кверху суком. Упершись в него, Хеммингвей оттолкнул хижину и хотел было влезть на ближайшее бревно, но увидел, что оно еле держится и сразу же оторвется под его тяжестью. В тот же миг у него над головой мелькнул розовый ситцевый рукав и сильная рука схватила его за воротник. Когда девушка втащила его в открытую дверь, хижину развернуло.
– Эх вы, сорвиголова! – со смехом воскликнула Джей. – Почему вы не дали мне это сделать? Я же выше вас ростом! Правда, мне так быстро не обсушиться, – добавила она и, поглядев на его промокшую одежду, достала из угла одеяло.
Однако, к ее величайшему изумлению, Хеммингвей отшвырнул одеяло в сторону, показал ей на пол, покрывшийся тонким слоем воды, бросился к еще не успевшей остыть печке и, сорвав с нее трубу, выбросил за борт. Вслед за печкой отправились мешки с мукой, окорок, кувшин с патокой, сахар и все более или менее тяжелые предметы. Освободившись от лишнего груза, хижина поднялась на несколько дюймов. Тогда Хеммингвей уселся и сказал:
– Ну вот! Теперь мы сможем продержаться на плаву те два часа, о которых вы говорите. А пока что можно поболтать!
– Нет, теперь уж не придется, – возразила она более серьезным тоном. – Осталось гораздо меньше двух часов. Гляньте-ка вон туда.
Посмотрев в ту сторону, куда она показывала, молодой человек сначала не увидел ничего, а потом на серой водной глади показалась какая-то точка, которая иногда вытягивалась в узкую черную полоску.
– Это просто бревно, – сказал он.
– Нет не бревно. Это индейская пирога. Она идет за мной.
– Это ваш отец? – живо спросил он.
Она грустно улыбнулась.
– Это Том Флин. У отца другие дела есть. А у Тома нету.
– А кто такой Том Флин? – спросил он с каким-то странным чувством.
– Мой жених, – серьезно сказала она, слегка краснея.
Девушка расцвела, словно роза, а Хеммингвей побледнел. На минуту воцарилось молчание. Потом он с искренним чувством проговорил:
– Я должен просить у вас прощения за свой глупый и дерзкий поступок. Но откуда мне было знать?
– Вы получили по заслугам, и Том ничего не может иметь против, – усмехнувшись, сказала она. – Вы были очень любезны и действовали довольно ловко.
Она протянула ему руку, и пальцы их сплелись в крепком пожатии. Затем мысли Хеммингвея вновь обратились к делу, о котором он совсем забыл; он вспомнил свое первое впечатление от лагеря и от этой девушки. Они молча стояли у двери, пристально глядя на пирогу и на гребца, которые теперь были ясно видны. Оба чувствовали, что их сосредоточенность совсем не искренняя.
– Боюсь, что я напрасно поспешил выбросить за борт ваши пожитки, – с натянутым смешком заметил он. – Мы могли бы еще некоторое время продержаться па плаву.
– Неважно, – усмехнулась она в ответ. – Пусть видит, что нам тут не очень-то сладко пришлось.
Он ничего не ответил. Он не смел поднять на нее глаза. Да! Перед ним та самая кокетка, которую он видел накануне. Его первое впечатление было верным.
Пирога, направляемая сильной рукой, быстро приближалась. Через несколько минут она поравнялась с хижиной, и гребец вскочил на помост. Брюки у него были заправлены в сапоги – оказалось, что это тот самый человек, который накануне в лавке вторым вступил в их мрачную беседу. Молча кивнув девушке, он тепло пожал руку Хеммингвею.
Затем он стал торопливо извиняться за свое опоздание: было очень трудно определить «курс» хижины. Он решил первым делом плыть на самое опасное место – к старой вырубке на правом берегу, где так много пней и молодой поросли, и был прав. Все остальные в безопасности, никто не пострадал.
– И все же, Том, – сказала девушка, когда они сели в пирогу и отчалили, – ты и не знаешь, что чуть меня не потерял.
С этими словами она подняла свои прекрасные глаза и многозначительно посмотрела – не на него, а на Хеммингвея.
На следующий день, когда «у Джулса» спала вода, в долине обнаружились некоторые любопытные перемены, а также золото, и письмоводитель мог сделать вполне благоприятный доклад. Однако он ни словом не обмолвился о своих первых впечатлениях в тот день, когда «у Джулса» разлилась вода, хотя впоследствии частенько думал, что они были совершенно справедливы.
Перевод М. Беккер
ЭСМЕРАЛЬДА СКАЛИСТОГО КАНЬОНА
Боюсь, что главный герой этого повествования начал свою жизнь как самозванец. Он был подсунут одному доверчивому и сердобольному семейству из Сан-Франциско под видом овечки, которой неминуемо грозило попасть под нож мясника, если она не будет приобретена для забавы детям. Утонченная чувствительность в соединении с чисто городским невежеством в области явлений природы помешали этим добрым людям заметить бросающиеся в глаза особенности, выдававшие козье происхождение животного. В соответствии с этим на шею ему был, как положено овечке, повязан бант, и простосердечные дети повели его в школу в подражание легендарной «Мэри». Но здесь – увы! – обман обнаружился, и козленок был с позором изгнан учителем из школы, как «не агнец, а самозванец», после чего его жизнь потекла по другому руслу. Впрочем, добросердечная мать семейства настояла на том, чтобы он остался в доме, утверждая, что и такое животное может оказаться полезным. На робкий намек супруга насчет перчаток она ответила презрительным отказом и напомнила о рахитичном младенце соседки, которого можно будет подкармливать молоком этого ниспосланного судьбой животного. Но и эта надежда рухнула, когда случайно был обнаружен его пол. Тут уж не оставалось ничего другого, как примириться с тем, что он обыкновенный козленок, и довольствоваться теми его качествами, в которых он достиг совершенства: умением поглощать пищу, прыгать и бодаться. Надо признать, что тут он побил все рекорды. Способность пожирать любые предметы – от батистового платка до предвыборного плаката, необычайное проворство, с каким он возносился даже на крыши домов, и умение одним толчком опрокидывать навзничь любого ставшего на его пути ребенка, сколь бы ни был тот толст и увесист, сделали его радостью и грозой всех детских игр. Развитию этой его способности неосмотрительно содействовал прислуживавший в доме мальчишка-негр, которого его не в меру талантливый ученик вскоре заставил кубарем слететь с лестницы. Вкусив однажды от плодов своего триумфа, козел Билли в дальнейшем уже не нуждался в поощрении. Небольшая тележка, в которую дети запрягали его порой, чтобы покататься на нем, ни разу не помешала ему боднуть кого-нибудь из прохожих. Наоборот, используя хорошо известный закон физики, он не ограничивался ударом рогов, а еще усиливал эффект, опрокидывая на незадачливого пешехода целый детский выводок, вылетавший из тележки в момент внезапного толчка.
Развлечение это, казавшееся восхитительным детворе, представляло известную опасность для лиц более зрелого возраста. Возмущение и протесты привели к тому, что Билли нельзя было долее оставаться в доме, и его пагубная страсть к боданию изгнала его из-под гостеприимного семейного крова в жестокий, бесчувственный мир. Однажды поутру он сорвался с привязи во дворе за домом, после чего несколько дней безнаказанно наслаждался недозволенной свободой, красуясь на крышах соседних домов и на заборах. Окраина Сан-Франциско, где проживали его доверчивые покровители, находилась в ту пору еще в состоянии разрушения, подобного землетрясению или извержению вулкана и происшедшего в результате того, что среди песчаных холмов и скал прокладывались новые улицы, отчего крыши одних домов оказывались вровень с порогами других и тем самым представляли простор для Биллиных упражнений.
Как-то вечером взволнованные и восхищенные взоры ребятишек обнаружили Билли на верхушке новой печной трубы соседского дома, только что выложенной в елизаветинском стиле: уместившись на пространстве величиной с тулью обыкновенной шляпы, он меланхолично взирал на распростертый у его ног мир. Тщетно взывали к нему звонкие ребячьи голоса, тщетно простирались с мольбой детские ручонки; вознесенный собственными силами на столь ужасающую высоту, он, подобно мильтоновскому герою, был в своем величии слеп и глух. И в самом деле, что-то сатанинское уже проступало в его облике – в этих маленьких рожках и остроконечной бородке, окутанных медленно плывущими из трубы завитками дыма. После этого он, как и следовало ожидать, сгинул с глаз, и в Сан-Франциско больше не было о нем ни слуху, ни духу.
Однако в это же самое время некто Оуэн Мак-Гиннис – один из скваттеров, осевших среди окрестных песчаных холмов, тоже покинул Сан-Франциско, дабы попытать счастья на южных рудниках, и, как говорили, прихватил с собой козла, по-видимому, единственно ради компании. Так или иначе, но это стало поворотным пунктом в дальнейшей судьбе Билли. Всякое сдерживающее начало, каким могли бы послужить для него людская доброта, цивилизация или на худой конец блюстители закона, было утрачено. Боюсь, что он сохранил лишь некоторую коварную изощренность ума, усвоенную в Сан-Франциско вместе с газетами, театральными афишами и агитационными предвыборными плакатами, которые он там поглощал. Когда Билли появился среди золотоискателей Скалистого Каньона, он был быстр, как серна, и коварно-хитер, как сатир. Вот что принесла ему цивилизация!
Если мистер Мак-Гиннис наивно полагал, что, помимо дружеского общения с Билли, ему удастся еще извлечь из него какую-либо пользу, он горько заблуждался. Лошади и мулы были в Скалистом Каньоне наперечет, и Мак-Гиннис попробовал использовать Билли, заставив его возить небольшую тележку с золотоносным песком от его участка к ручью. Билли, заметно окрепший, вполне годился для этой цели, но – увы! – ей никак не соответствовали его врожденные наклонности. Неосторожный жест случайно проходившего мимо старателя Билли истолковал как привычный для него вызов. Наклонив голову с крохотными рожками, предусмотрительно подпиленными хозяином, он внезапно бросился на своего обидчика, увлекая за собой тележку. Упоминавшийся выше физический закон восторжествовал снова. От внезапного толчка тележка опрокинулась, и ошеломленный старатель был погребен под ее содержимым. В любом другом старательском лагере, кроме Калифорнийского, подобные склонности упряжной скотины подверглись бы единодушному осуждению ввиду причиняемых ими неприятностей и убытков, но в Скалистом Каньоне их находили забавными, хотя и разорительными для хозяина. Старатели часто, подкараулив Билли, подстрекали какого-нибудь «зеленого новичка» подразнить животное тем или иным недостойным способом. В результате ни одна тележка драгоценного песка не достигала в целости места своего назначения, и несчастному Мак-Гиннису пришлось отстранить Билли от извоза. Поговаривали, что вследствие непрестанных провокаций эти склонности Билли начали достигать таких размеров, что уже сам Мак-Гиннис не чувствовал себя больше в безопасности. Однажды, когда он наклонился, чтобы убрать валявшийся на дороге сук, Билли воспринял это действие как шаловливый вызов со стороны хозяина… и неизбежное, разумеется, произошло.
На следующий день Мак-Гиннис появился с тачкой, но без Билли. С этого дня Билли был изгнан на скалистые утесы, окружавшие лагерь, откуда его лишь изредка заманивал вниз какой-нибудь особенно озорной старатель, желавший продемонстрировать его замечательные способности. Козел же, находя для себя в изобилии пропитание среди скал, продолжал вместе с тем испытывать непреодолимую тягу к цивилизации, воплощенной в афишах и плакатах, и стоило только появиться в поселке объявлению о предстоящем концерте, цирковом представлении или политическом митинге, как он был уже тут как тут, раньше чем клей успевал высохнуть и утратить сочность. Так, например, утверждали, что Билли сорвал однажды огромную театральную афишу, оповещавшую о высоких достоинствах очаровательной «Любимицы Сакраменто», и, будучи пойман рекламным агентом на месте преступления, помчался, преследуемый им, по главной улице, с непросохшей афишей на рогах и укрепил ее своим собственным, неповторимым способом на спине судьи Бумпойнтера, стоявшего на крыльце суда.
Гастроли этой молодой особы знаменуют собой еще одно событие из жизни Билли, увековеченное в преданиях Скалистого Каньона. В это самое время в поселке проездом остановился полковник Старботтл, совершавший предвыборную поездку; как истый рыцарь, он почел своим долгом нанести визит прелестной актрисе. Дверь единственной гостиной небольшого отеля выходила на веранду, расположенную на одном уровне с улицей. После краткой, но изысканной беседы полковник Старботтл торжественно выразил актрисе благодарность от лица всего поселка, со старомодной галантностью южанина поднес ее пухленькую ручку к губам и с низким поклоном попятился к двери на веранду. Однако, к изумлению «Любимицы», он тут же стремительно влетел обратно и с невероятной поспешностью плюхнулся к ее ногам! Стоит ли говорить, что следом за ним тотчас появился Билли, который, прогуливаясь по улице, случайно заметил полковника и усмотрел в его необычном способе ретироваться недостойный джентльмена вызов.
Но мало-помалу Биллины набеги становились все реже, а в Скалистом Каньоне жизнь шла своим чередом со всеми перипетиями, обычными для старательского поселка. Понаехало много семей с Юго-Запада, и среди различных менее бурных и щекотливых развлечений о Билли начали забывать. Болтали, что кто-то видел его в одичалом состоянии на уединенных тропах среди неприступных скал, и наиболее предприимчивые даже высказывали предположение, что он мог теперь стать съедобным и неплохо бы на него поохотиться. Один чужак, забредший в Скалистый Каньон через Верхний перевал, рассказал, что ему довелось видеть какое-то странное с виду косматое животное, величиной с небольшого лося, появлявшееся то тут, то там на вершинах недоступных скал и всегда – вне выстрела.
И тут совершенно неожиданное происшествие сделало несущественными эти и все прочие россказни и заставило позабыть о них.
Почтовая карета с новоселами взбиралась по отлогому склону Охотничьего перевала. Внезапно Юба Билл резко осадил лошадей, надавив ногой на тормоз.
– Вот те на! – ахнул он, разинув от удивления рот.
Пассажир, сидевший рядом с ним на козлах, обернулся и с недоумением поглядел в ту сторону, куда был направлен взгляд Билла. В двух-трех сотнях шагов от дороги склон холма образовывал небольшую, похожую на чашу впадину, ярко зеленевшую в просвете между соснами. И посреди этой зеленой лужайки танцевала девушка лет шестнадцати. Высоко подняв руки над головой, она отбивала такт самодельными кастаньетами, вроде тех, какими пользуются бродячие негритянские певицы. Но что самое удивительное – рядом с девушкой прыгал довольно большой козел с венком из полевых цветов и виноградных листьев на шее. Он выкидывал неуклюжие антраша, словно подражая своей партнерше. Эта буколическая лужайка и две странные фигуры на фоне диких скал Сьерры – козел и девушка в ярко-красной нижней юбке, видневшейся из-под ситцевого платья, подол которого был подоткнут у пояса, – представляли столь необычное зрелище, что тотчас приковали к себе взгляды всех пассажиров. Быть может, картина больше напоминала негритянскую вакханалию, чем танец лесной нимфы, но, смягченная, так же как и треск кастаньет, расстоянием, она производила чарующее впечатление.
– Эсмеральда! Чтобы мне пропасть! – взволнованно воскликнул пассажир, сидевший на козлах.
Юба Билл снял ногу с тормоза, шевельнул вожжами и окинул говорившего взглядом, исполненным глубочайшего презрения.
– Да это же тот самый окаянный козел из Скалистого Каньона, а девчонка – Полли Харкнесс! Как это она его приручила?
Не успела карета остановиться у Скалистого Каньона, как новость при содействии пассажиров уже облетела весь поселок, получив подтверждение от Юбы Билла и живописные подробности – от господина, ехавшего на козлах. Харкнесс, как известно, был пришлый человек, живший с женой и единственной дочерью по ту сторону Охотничьего перевала. Он валил лес и обжигал уголь и прорубил целую просеку, пробившись сквозь сомкнутые ряды сосен у перевала, в результате чего создал вокруг своей бревенчатой хижины непроходимый кордон из поваленных деревьев, содранной коры и ям для обжига угля и сделал свое уединение полным и незыблемым. Про него говорили, что он какой-то полудикий горец из Джорджии, что там, в первобытной глуши, он, нарушая закон, гнал виски и что его образ жизни и замашки делают его неприемлемым в цивилизованном обществе. Жена его курила и жевала табак. Он же, по слухам, изготовлял из желудей и кедровых орешков огненный напиток. В Скалистый Каньон он наведывался редко – главным образом за провизией; лес свой спускал по деревянному желобу к реке и раз в месяц сплавлял на лесопилку, но сам при этом всегда оставался дома. Дочка его – еще совсем подросток, – смуглая, как осенний папоротник, с диковатыми глазами и растрепанными косами, в домотканой юбке, соломенной шляпке и мальчишечьих башмаках, тоже очень редко появлялась в Скалистом Каньоне. Таковы были простые, очевидные факты, которые скептически настроенные обыватели Скалистого Каньона не замедлили противопоставить легендам, распускаемым пассажирами почтовой кареты. Правда, кое-кто из старателей помоложе не почел за труд по дороге к реке перевалить за Охотничий перевал, но с каким результатом, оставалось неизвестным. Поговаривали также, что один знаменитый нью-йоркский художник, путешествовавший по Калифорнии и находившийся на империале, когда карета поднималась на перевал, увековечил для потомков свое воспоминание о том, что ему довелось там увидеть, в широко известном полотне, названном им «Пляшущая нимфа и сатир» и «изобличающем», по словам одного компетентного критика, «глубокое знание жизни древних греков». Это не произвело особенного впечатления в Скалистом Каньоне, где куда более удивительным событиям жизни обыкновенных людей из плоти и крови всегда отдавалось предпочтение перед мифологическими сюжетами, однако впоследствии об этом факте вспомнили – и не без причины.
В период различных, уже упоминавшихся выше городских благоустройств на главной улице была воздвигнута деревянная, крытая оцинкованным железом церквушка, и некий довольно популярный в тех краях проповедник, принадлежавший к одной из юго-западных сект, начал регулярно обращаться в ней с увещеваниями к своей пастве. Сила его грубого эмоционального воздействия на невежественные души единоверцев-сектантов была общеизвестна, остальных же привлекало на его проповеди любопытство. Женская часть паствы внимала его речам в истерическом экстазе. Женщины, состарившиеся раньше срока, рожая детей и терпя все невзгоды суровой жизни пионеров края, девушки, чья полуголодная, нищенская юность прошла в борьбе с жестокими законами жизни и природы, – все поддавались странному очарованию великолепного заоблачного царства, которое сулил им проповедник и с которым в цивилизованном обществе их познакомили бы сказки и легенды, рассказанные в детской. Внешность проповедника нельзя было назвать привлекательной: собственно говоря, его худое, продолговатое лицо, жесткие взлохмаченные волосы, торчавшие двумя космами по сторонам квадратного лба, и длинная, вечно спутанная остроконечная бородка, прикрывавшая жилистую шею над могучими плечами, были довольно характерными для Юго-Запада. Однако было в них что-то и не совсем обычное. Лучше всего это удалось выразить одному старателю, который впервые посетил церковь и при виде преподобного мистера Уизхолдера, поднявшегося на кафедру, громогласно воскликнул:
– Разрази меня гром! Да это же наш Билли!
А когда в следующее воскресенье перед входом в церковь, к изумлению всех молящихся, появилась Полли Харкнесс в новом белом муслиновом платьице, в широкополой шляпе и вместе с настоящим Билли и вступила в разговор с проповедником, вышеупомянутое сходство показалось многим просто сверхъестественным.
С огорчением должен признаться, что Скалистый Каньон тотчас дал козлу прозвище «преподобный Билли», а самого священнослужителя с этой минуты стали именовать «Биллиным братцем». Когда же кое-кто из пришлых людей сделал попытку раздразнить Билли, привязанного во время богослужения на церковном дворе, и заставить его снова впасть в соблазн боданья, а козел не обратил никакого внимания на все оскорбления и выпады, к его прозвищу прибавился еще эпитет «поганого лицемера».
В самом ли деле Билли переродился? Повлиял ли на него буколический образ жизни с подругой-нимфой, полностью излечив его от прежней драчливости, или он нашел такое поведение несовместимым с танцами и увидел в нем серьезную помеху для грациозных пируэтов? А, быть может, он сделал открытие, что церковные брошюры и молитвенники не менее съедобны, чем театральные афиши? Все эти вопросы весело обсуждались в Скалистом Каньоне, а таинственная связь, существовавшая между преподобным мистером Уизхолдером, Полли Харкнесс и козлом Билли, оставалась неразгаданной. Появление Полли в церкви, несомненно, говорило об энергии, с какой проповедник вербовал души в своем приходе. Но был ли он осведомлен о Поллиных танцах с козлом? Как могла простенькая, плохо одетая, неуклюжая Полли предстать в образе прекрасной танцующей нимфы, очаровавшей столь многих? И замечал ли кто-нибудь прежде или потом, чтобы козел Билли пользовался благосклонностью Терпсихоры? Можно ли было обнаружить в нем сейчас хоть какие-нибудь способности к танцам? Ни малейших! А значит, не проще ли предположить, что мистер Уизхолдер сам отплясывал вместе с Полли и был по ошибке принят за козла? Если пассажиры кареты могли так легко обмануться по части Поллиной красоты, значит, им ничего не стоило принять преподобного Уизхолдера за козла Билли. Во время этих дебатов произошло еще одно событие, и тайна сгустилась.








