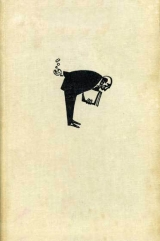
Текст книги "Власть без славы. Книга 1"
Автор книги: Фрэнк Харди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
И все-таки Барни продолжал служить у Джона Уэста. Ему шел пятидесятый год, и здесь были сосредоточены все его интересы: он полюбил боксерские состязания и испытывал радость творчества, сочиняя свои крикливые, цветистые рекламы. Но и его и Флорри терзало тайное разочарование, невысказанное сожаление о том, что он растратил свой талант по мелочам в империи Уэста. Впрочем, это дало ему возможность совершить кругосветное путешествие.
Заграничное турне с Бертом Сквирсом в финансовом отношении было успешным, но в смысле спортивном оказалось неудачным. Сквирс был просто плохим боксером. Согласно плану, Барни устроил для него матч на первенство мира. Сквирс был нокаутирован в первом же раунде.
Потом для Барни Робинсона началась приятная поездка вокруг света. Нью-Йорк, Лондон, Париж. Он встречался с людьми из мира боксеров и театрального мира, бывал на званых вечерах, посылал Флорри открытки, цитировал в своих речах латинские изречения, немилосердно перевирая их, и время от времени писал Джону Уэсту, обещая ему дополнительные доходы, в случае если тот разрешит ему еще немного задержаться за границей; иногда эти обещания сбывались, а иногда и нет. Сквирс победил всего несколько раз; но даже когда он терпел поражение от более искусных противников, кошелек его все равно бывал туго набит.
Наконец они выехали на пароходе домой. По возвращении Барни нашел много перемен: тотализатор и клуб были закрыты, прежняя шайка разбежалась кто куда, а Джон Уэст постепенно приобретал репутацию человека солидного, пользующегося уважением в обществе. Это вполне устраивало Барни. Теперь он мог заняться своими любимыми рекламами, копаться в томах Британской энциклопедии и других книгах и обеспечить себе и Флорри спокойное и вполне почтенное существование. Пора наладить жизнь и для Флорри – она, как и он сам, с годами не становилась моложе.
Покидая Европу, Барни устроил Томми Бернсу, чемпиону мира в тяжелом весе, поездку в Австралию. Бернс согласился потому, что хотел удрать от негра-боксера, грозного Джека Джонсона, с которым он отказывался драться якобы из нежелания «пачкать руки о черную кожу». Как Барни и предполагал, Джонсон последовал за Бернсом в Австралию, но сколько ни старался Джон Уэст свести их в Мельбурне, ему это не удалось, ибо Бернс заломил неслыханную сумму за выступление, после которого, по его твердому убеждению, он уже не будет чемпионом мира.
Барни нашел другого противника Джонсону – молодого австралийца Билла Лонга. Лонг был молод и силен, но еще неопытен. Он участвовал в матче с одним из местных чемпионов и показал себя смелым боксером, хотя дрался не по всем правилам искусства. Барни решил, что Лонг достаточно высок и силен, чтобы драться с Джонсоном, поэтому однажды он вышел на середину ринга и попросил публику приветствовать троекратным «ура» Билла Лонга, чемпиона Брокен-Хилла, будущего соперника Джонсона. Лонг никогда в жизни не бывал в Брокен-Хилле, но решил, что Барни знает, что делает.
Широко разрекламированный матч между Лонгом и Джонсоном состоялся в 1908 году на одном из ипподромов Джона Уэста. Матч происходил под проливным дождем. Джонсон согласился дать Лонгу продержаться несколько раундов. Он и не подозревал, что ему грозит предательство. Ренфри, засекавший время, получил указание сделать все возможное, чтобы негр потерпел поражение, а судье, питавшему ненависть к цветным, велели применить «ирландский счет» и сжульничать, в случае если у Джонсона будут шансы на победу.
Состязание было фарсом с начала до конца. Джонсон явно играл со своим неумелым противником: скользя по рингу, как большая черная пантера, он легко отбивал удары Лонга локтями, плечами и перчатками или, качнув головой, заставлял его промахнуться. Когда Джонсон поскользнулся на мокром брезенте, публика ахнула, решив, что он получил нокаут, но Джонсон тут же поднялся на ноги, и односторонний матч продолжался. Барни часто говорил потом, что Лонг проморгал матч – если б он наступил на грудь Джонсону, когда тот упал, судья засчитал бы негру поражение.
После шестого раунда публика, не желая больше мокнуть под дождем, стала расходиться. Перед десятым раундом, когда боксеры вышли из своих углов на середину ринга, Джонсон протянул Лонгу обе руки в перчатках и пожал ему руку.
– Ведь это еще не последний раунд, – удивленно сказал Лонг.
– Нет, Билл, это последний, – ответил Джонсон, и так оно и было: не прошло и двух минут, как Лонг уже лежал на спине.
К великому огорчению Джона Уэста, другому предпринимателю удалось свести Джонсона и Бернса в Сиднее, в матче на первенство. У чемпиона азартных игр не было никаких шансов против более сильного и искусного противника. Джонсон, издеваясь над Бернсом, совершенно измотал его, а тот только ругался и проклинал все на свете. Победил негр.
Много воды утекло с тех пор. Джон Уэст купил спортивный зал в Сиднее и открыл еще два – в Брисбэне и Мельбурне, но Барни не получил ожидаемого повышения. Его оттеснили на задний план. В ответ на его жалобы Джон Уэст заявил, что, для того чтобы заведовать стадионом, у Барни не хватает деловой сметки.
Мысли Барни были прерваны появлением щеголевато одетого молодого человека.
Барни быстро встал из-за стола.
– А, Лу! Проходи сюда, – понизив голос, сказал он.
Молодой человек, держа шляпу в руке, прошел в конец комнаты; Барни с видом заговорщика наклонился к нему через стойку.
– Здравствуй, Барни, – негромко сказал молодой человек, сразу сообразив, что разговаривать нужно тихо. Он был невысокого роста, но широкоплеч, волосы у него были черные, прямые и жесткие, а широкое ирландское лицо сияло добродушием. Звали его Лу Дарби. На лице его не было никаких отметин, которые указывали бы на то, что он боксер, и однако он был одним из сильнейших боксеров, каких приходилось видеть Барни. Дарби еще не исполнилось двадцати одного года, а он уже одерживал победы над всеми приезжими боксерами, включая двух американских чемпионов мира.
Барни оглянулся через плечо на закрытые двери других комнат и зашептал на ухо Дарби:
– Ты с ними осторожно. Они все тут патриоты, ты же знаешь. Настоящие империалисты – по крайней мере так они говорят, чтобы угодить хозяину. Он хочет, чтобы ты вступил в армию. Для того он тебя и вызвал. Его еще нет.
– Все требуют, чтобы я вступил в армию. Старухи останавливают меня на улице. Кто-то присылает мне по почте белые перья [10]10
В Англии и Австралии присылка белого пера означает обвинение в трусости; его обычно посылают людям, уклоняющимся от военной службы.
[Закрыть]. А почему, спрашивается, я должен идти на войну? Я же сказал Уэсту, что не пойду в армию. Он уговаривал меня, еще когда сам был в армии и зазывал добровольцев.
– Пусть сами воюют, если им так хочется. Джек просто помешался на новобранцах. Верит всему, что пишут в газетах. С ним прямо говорить невозможно. Он в лепешку расшибется, чтоб уговорить тебя вступить в армию, вот увидишь.
– Да пошел он к черту!
– Вот так и держись. Ты для них – золотое дно, им не так-то просто тебя вышвырнуть. Стой на своем. А Джек совсем спятил, ей-богу. Вчера спрашивает меня: «Сколько тебе лет, Барни?» А я ему: «Да уж для армии я стар, если ты это имеешь в виду. А кроме того, – говорю, – страдаю плоскоступием». – «Трусостью ты страдаешь», говорит. Будь я проклят, вот уж никогда не думал, что Джон Уэст станет таким. Должно быть, миллионы ударили ему в голову.
– Ну, так пусть сам воюет за свои миллионы. У меня на руках мать и сестра, и я не пойду на войну, пока не заработаю столько денег, чтобы я мог обеспечить их на всю жизнь.
– Верно, не иди в армию, пока не станешь чемпионом мира. Я так и сказал Фрэнку Лэмменсу и Лэму: «У вас в руках чемпион мира, а вы его гоните на войну!»
За окном, спиной к которому стоял Дарби, послышались крики «ура», пение и музыка. Дарби обернулся и поднял штору. Барни тоже подошел к окну – внизу, на улице, толпа шумно приветствовала длинную колонну марширующих солдат. Гремел военный оркестр – над толпою плыл бравурный мотив «Типперери».
Дверь из кабинета Лэма открылась, и оба быстро обернулись.
– Хэлло, мистер Лэм, – сказал Дарби. – Меня вызвал мистер Уэст.
– Хэлло, Дарби. Мистер Уэст скоро придет. Подождите у него в кабинете. Готово у вас объявление, Барни?
Барни метнул на Лэма сердитый взгляд и вернулся за стойку. – Да, вон оно, на столе.
– Давайте сюда, – резко сказал Лэм. Ему было под сорок, но он выглядел моложе. Глаза у него были жесткие, губы тонкие, подбородок воинственно выдавался вперед. Лэм редко улыбался.
Распахнулась дверь, и в контору энергичным шагом вошел Джон Уэст.
– Привет, Лу!
– Добрый день, мистер Уэст.
В кабинете Уэста было пусто и голо – стол, четыре стула и несколько фотографий. На выбеленных стенах виднелись образовавшиеся от сырости подтеки, а оконные стекла давно уже нуждались в том, чтобы их вымыли.
Джон Уэст повесил шляпу, потом выдвинул ящик стола, вынул маленький пузырек, высыпал из него на ладонь две таблетки и, закинув голову, проглотил их с ловкостью, приобретенной долгой практикой.
В соседней комнате Барни перегнулся через спинку стула и вытянул шею, стараясь подслушать разговор.
Джон Уэст сел за письменный стол. – Вы еще не записались в армию, Лу?
– Нет, мистер Уэст. – Дарби нервно вертел в руках шляпу.
– Вы понимаете, что этого требует общественное мнение?
– Да, пожалуй.
– Вы понимаете, что бокс сейчас будет в загоне?
– Похоже, что так.
– Он снова войдет в силу, когда кончится война. Главное сейчас – выиграть войну, это вы понимаете?
– Иначе говоря, вы хотите, чтобы я пошел в армию?
– Вот именно. Нельзя все время поступать как хочется. Вы знаете, сколько я для вас сделал.
– У меня были крупные победы и до вас, мистер Уэст. Но так или иначе, я не хочу идти на войну, пока не накоплю денег, чтобы обеспечить мать и сестру на всю жизнь, на случай если меня убьют.
– Вас не убьют.
– Во всяком случае, я пока не собираюсь записываться в армию. Это мое последнее слово. Пока не выиграю еще несколько матчей и не заработаю денег – не запишусь.
– У вас и так дела были неплохи – должно быть, вы отложили несколько сотен.
– Отложил, мистер Уэст, но мне нужны не сотни, а тысячи. И, скажите на милость, чего ради я должен воевать за Англию?
– Потому что, если Англия будет разбита, будем разбиты и мы. Если победит Германия, то наше имущество, наши деньги, дома и семьи – все погибнет! – Джон Уэст стукнул кулаком по столу.
– А по-моему, что Германия, что Англия – один черт.
– Не болтайте ерунды. Немцы – варвары. Они пытают пленных и сжигают их живьем. Они хотят завладеть всем миром.
– А Англия им уже завладела. Посмотрите, что она натворила в Ирландии. Моя бабушка была там как раз в то время, она мне много порассказала. Я не желаю сражаться за Англию, пока не обеспечу себя.
– Если вы не вступите в армию, то следующий ваш матч будет последним до конца войны.
– Что хотите, то и делайте, мне все равно, только на войну я сейчас не пойду. – Дарби выдержал взгляд Уэста, устремленный на него через стол. – Я непременно буду чемпионом мира, мистер Уэст, и вы мне помешать не можете. И я побью всех боксеров на свете, вот увидите, даже если б мне пришлось для этого ехать в Америку. – Он нахлобучил шляпу и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Когда он проходил мимо Барни, тот зашептал: «Молодец, парень. Подожди, я выйду с тобой. Выпьем по чашке чаю».
– Ты это серьезно насчет Америки? – спросил Барни, когда они спускались по лестнице.
– Да, я еду в Америку, Барни. Теперь я окончательно решил.
* * *
Во время политической кампании, предшествовавшей референдуму о всеобщей воинской повинности, Дэниел Мэлон дал волю своим «ирландским настроениям». На собраниях и митингах, церковных празднествах и благотворительных базарах, на официальных завтраках и во время обедни он всегда находил повод высказаться против войны, называя ее гнусной войной, ведущейся из-за корыстных целей, и доказывал, что в интересах всего австралийского народа следует голосовать против всеобщей воинской повинности.
И все же его мучило смутное беспокойство. Он примкнул к антивоенной кампании прежде всего для того, чтобы помочь Ирландии, но вскоре обнаружил, что захвачен борьбой против воинской повинности, что его, словно стремительным течением, несет к левому крылу лейбористской партии – к тому лагерю, с которым исстари враждовала католическая церковь и с которым враждовал он сам в те времена, когда жил в Ирландии. Впервые он почувствовал духовное родство с этими людьми. Выступая однажды с той же трибуны, с которой выступал один видный социалист, открыто объявивший себя атеистом, Мэлон вдруг поймал себя на том, что этот человек вызывает у него восхищение. Когда премьер-министр Хьюз подвергал строгой цензуре или запрещал какую-нибудь рабочую газету или брошюру, Мэлон, к собственному удивлению, начинал энергично протестовать. Когда двенадцать лидеров ИРМ были брошены в тюрьму по обвинению в поджоге, он, неожиданно для себя, присоединился к мнению тех, кто утверждал, что это обвинение – просто клевета. Известия об успехе кровопролитной борьбы ирландских повстанцев стали доставлять ему удовольствие. Он начал даже презирать архиепископа Пертского, который был сторонником всеобщей воинской повинности.
Кампания бурно развивалась, приближался день второго всенародного голосования, и Мэлон нисколько не раскаивался в своих действиях; богатые и привилегированные изливали на него в своих газетах потоки ненависти, а бедные и обездоленные выражали ему дружеские чувства и всячески превозносили его. Когда были опубликованы результаты референдума, Мэлон пришел в неистовый восторг. Победа! Всеобщая воинская повинность не будет введена в Австралии!
Однако внутренняя тревога не оставляла его. Что скажет Ватикан? Мэлон понимал, что если Ватикан станет вообще поддерживать какую-либо сторону в этой войне, то, конечно, он будет стоять за победу Германии; но тем не менее Мэлон знал, что многие его выступления противоречат политике Ватикана.
Во время затишья, наступившего после конца кампании, Мэлон ощутил в себе желание отступить, вернуться к своим планам и добиться политического влияния в союзе с Джоном Уэстом. Он стал обдумывать, с какой бы стороны подойти к этому загадочному маленькому человеку, обладающему властью, необходимой для осуществления планов архиепископа Мэлона.
Но судьба распорядилась по-своему. После провала референдума в лейбористской партии произошел раскол. Хьюз перешел к консерваторам с намерением сформировать правительство, которое поставило бы себе целью выиграть войну и провести в течение годичного срока еще один референдум по вопросу о воинской повинности. Борьба за самоуправление для Ирландии также продолжалась. Пока что Дэниелу Мэлону некуда было отступать: поражение сторонников воинской повинности еще больше разжигало их ненависть к архиепископу Мэлону; его уже подхватил и уносил с собою стремительный поток тех бурных лет.
Результаты референдума привели Джона Уэста в ярость. Зачем понадобилось Хьюзу вообще затевать этот референдум? Неужели он не мог сначала ввести воинскую повинность, а потом уж опрашивать народ?
Но однажды утром, месяца два спустя, его вывело из себя событие совсем другого рода. Он прочел в газетах о том, что Лу Дарби уехал в Америку на торговом судне.
Джон Уэст бушевал в своей конторе, тыча газетой в лицо Лэму, Фрэнку Лэмменсу и некоему Снежку Бэкону – человеку, который в прошлом году помог Уэсту забрать в свои руки сиднейский стадион.
– Он не будет выступать в Америке! Уж я об этом позабочусь. Он струсит и сбежит оттуда. Подумаешь, великий боксер! – кричал Джон Уэст.
– Я слышал, будто он обратился к импрессарио Тексу Рикарду. Этого Рикарда я хорошо знаю! Я ему напишу, – сказал Бэкон, высокий угловатый блондин лет сорока с небольшим; пожалуй, это был самый универсальный спортсмен во всей Австралии: он приобрел известность как боксер, борец, наездник, – словом, отличался во всех видах спорта. С таким же успехом он занимался и коммерческими предприятиями. Он заведовал стадионом Джона Уэста в Сиднее, он организовал матч Бернса против Джонсона, в свое время устроил несколько матчей для Дарби и сам исполнял должность судьи. Спорт был его богом – спорт, организованный коммерчески, но все же честный и справедливый. Однако у Бэкона были две черты, которые вряд ли могли способствовать успеху Дарби в Америке: он изо всех сил стремился угодить Джону Уэсту и был «ура-патриотом», принимавшим деятельное участие в вербовке новобранцев.
– Я напишу Тексу Рикарду, – повторил Бэкон. – Он меня послушает. Я могу сообщить ему, что Дарби увиливает от военной службы.
– Что ж, мысль неплохая! Я проучу этого негодяя. Я поговорю с одним человеком из федерального правительства – можно будет сделать так, чтобы наше правительство обратилось к американскому и потребовало запретить Дарби въезд в Америку, – сказал Джон Уэст.
– Если хотите, я сейчас позвоню в парламент, – предложил Лэмменс.
– Надо сделать так, чтоб он совсем не смог выступать в Америке, – сказал Лэм.
Когда Фрэнк Лэмменс кончил разговаривать по телефону, Джон Уэст сказал:
– Хотел бы я знать, кто замешан в отъезде Дарби. Ведь кто-то должен был ему помогать. – Он вдруг щелкнул пальцами. – Стойте! А ну-ка… Барни сейчас здесь?
– Здесь, – сказал Лэм.
– Пришлите его ко мне. И оставьте нас одних на минутку.
– Барни, вас зовет мистер Уэст, – сказал Лэмменс, выходя вместе с Лэмом и Бэконом из кабинета.
Барни, не говоря ни слова, направился в кабинет.
– Закрой дверь.
Барни кое-как прикрыл дверь – руки его не слушались, – потом остановился перед Уэстом, покручивая усы и переминаясь с ноги на ногу.
– Кому ты на днях звонил по телефону и спрашивал, когда отходит пароход? Какому-нибудь репортеру, а?
– Да, Джек. Одному своему приятелю.
– На этом пароходе Дарби отбыл в Америку, а?
– Не валяй дурака, Джек.
– А ты не ври! Это ты вбивал Дарби в голову всякие антивоенные идеи. И я уверен, что эта поездка в Америку не обошлась без твоего участия. Ладно, можешь не отвечать. После всего, что я для тебя сделал, ты за моей спиной устраиваешь такие штуки.
Барни густо покраснел, потеребил кончики усов, потом стал молча вертеть в пальцах часы и цепочку.
– Ты понимаешь, что Дарби хотел увильнуть от призыва? Вот почему он удрал в Америку.
– Да ведь его нельзя осуждать за это, Джек. Он – выдающийся боксер, а война оборвала его карьеру. Что ж тут плохого, если он хочет попытаться стать чемпионом мира, прежде чем идти на войну?
– На войну? Он и не собирается воевать! Почему это он должен быть освобожден от обязательного военного обучения, к которому наше правительство призывает всех до единого? Только потому, что он, видите ли, Лу Дарби! Во время войны все равны между собой.
– Я что-то не замечал, чтоб война велась по этому принципу!
– Знаю, знаю, ты из недовольных, что с тобой толковать. Но только запомни одно: Дарби в Америку все равно не пустят.
– Как знать!
– А если он туда и попадет, так выступать он не будет. Уж я об этом позабочусь. Ему не дадут выступать в Америке, а я постараюсь, чтобы его отправили обратно и послали в армию, где ему и следует быть. И не воображай, что ты очень умный. Не такое уж ты сокровище, чтобы я не мог обойтись без тебя, если б захотел. Перестань дергать свои дурацкие усы. Ступай вон! Если тебе нечего делать, так у меня работы хватит!
* * *
В это время Нелли отчаянно пыталась вырваться из тисков своего несчастного, неудавшегося замужества.
Нелли шел тридцать восьмой год, она родила четверых детей, но выглядела гораздо моложе своих лет, а в душе оставалась мечтательной молодой девушкой. Она давно уже замкнулась в своем внутреннем мирке, где еще жили несбывшиеся девичьи мечты о любви.
Джон Уэст сдержал свое обещание и обеспечил ей полное материальное благополучие, и все же она была глубоко разочарована в муже. Джон Уэст оказался человеком с такой репутацией, что так называемые «респектабельные» богачи задирали перед Нелли нос; человеком, больше всего в жизни любившим власть, которую можно купить за деньги; человеком, лишенным сердца и считавшим, что женщине нужны только дети, слуги, богатый дом, дорогие наряды да религия.
Джон Уэст убил в Нелли всю преданность, все нежные чувства, которые она старалась вызвать в себе. О делах мужа она знала не много, но вполне достаточно, чтобы представить себе окружающую его атмосферу цинизма, бессердечия и жестокости.
Нелли полагала, что он любил ее и детей. Они не нуждались ни в чем. Насколько она знала, Джон больше не изменял ей после той истории с актрисой, но она не могла простить ему эту неверность. Если не считать его вспыльчивости и деспотического утверждения своего авторитета в семье, он держал себя дома вполне прилично. Он не жалел средств на образование детей; поощрял желание Мэри играть на рояле, а Марджори – учиться танцам и игре на скрипке и с гордостью демонстрировал их успехи перед гостями. Дети в свою очередь выказывали ему уважение и почтительность, но не больше. Они тоже оставались по ту сторону непроницаемой стены, которой окружил себя Джон Уэст во время своего восхождения к власти.
Каждый человек, который считает жену частью своей собственности и отводит ей роль самки-производительницы, рискует, что она взбунтуется против него при первом же удобном случае. Нелли Уэст не думала о мести мужу, но она безотчетно искала нежности и любви, которой не нашла в нем. Она созрела для попытки вырваться из духовной тюрьмы, в которую ее заключил Джон Уэст.
Случай представился зимой 1917 года. Джон Уэст пришел к выводу, что теперь, когда дети подросли, дом стал тесен, и решил пристроить новое крыло с несколькими спальнями, музыкальной комнатой, бильярдной и помещением для прислуги.
В последнее время Нелли нашла для себя спасение в кино – в мелодраматических приключениях и картинах романтической любви. Герой каждого фильма был ее героем, каждый любовник на экране – ее любовником; но сильнее всех ее воображение поразил знаменитый герой первых ковбойских кинокартин, американский актер Уильям Харт. Он стал предметом ее любовных мечтаний – ее храбрым и нежным рыцарем.
Когда подрядчик прислал рабочих, принесших с собой скрежет пил и лопат, стук молотков, запах опилок и известки, Нелли, невольно вздрогнув от удивления, вдруг заметила, что десятник – вылитый её герой. Он даже и одет был точь-в-точь, как тот: широкополая шляпа с плоской тульей, свободная клетчатая рубашка, широкий кожаный пояс и аккуратные черные сапоги! Так, благодаря случайному совпадению, настоящая жизнь слилась с выдуманной, и Нелли Уэст потеряла голову.
Увидев десятника в первый раз, Нелли подумала, что ей, вероятно, все это чудится, но потом услышала, как рабочие называли его Уильямом. Нелли узнала его имя – Билл Эванс. Постепенно у нее вошло в привычку стоять в кухне у окна и наблюдать, как он проворно и ловко работает или отдает дружеским, но твердым тоном приказания рабочим. Вскоре она поняла, что мечтает уже не о герое кинофильмов, а об этом высоком светловолосом человеке, которого ее муж нанял класть кирпичи.
Сначала это открытие ее встревожило. Она даже собиралась рассказать о нем священнику на исповеди, но не смогла принудить себя к этому. Потом она уже начала мечтать о том, как Билл Эванс станет ее любовником. Нелли пользовалась каждым удобным случаем, чтобы заговорить с ним. Джон Уэст хотел прослыть хорошим хозяином, поэтому велел Нелли следить за тем, чтобы рабочих по утрам и вечерам поили чаем, а среди дня кормили обедом. Три раза в день несколько человек приходили в кухню с жестяными котелками; за едой для каменщиков иногда заходил и Билл Эванс.
Мало-помалу Нелли стала осуществлять свои мечты; она то бросала на Билла многозначительные взгляды, то обращалась к нему со словами, отнюдь не соответствующими разнице их положений, и постепенно Эвансу стало ясно, что он ей нравится.
Вскоре она совсем потеряла голову и, словно молоденькая влюбленная девушка, перестала заботиться о том, что о ней подумают. Слуги начали кое-что замечать, пошли толки, а рабочие принялись поддразнивать Билла.
Сначала его смущали авансы, которые делала ему Нелли, потом начали забавлять и наконец заинтересовали. Но когда наступила весна, его стало тяготить ее увлечение. Эванс был изрядным ловеласом и, как все люди такого склада, отличался тщеславием и гордился своим успехом у женщин. Он не случайно одевался под Уильяма Харта: он делал это с тех пор, как обнаружил свое сходство с лихим ковбоем. Эванс принадлежал к той редкой породе мужчин, которые умеют одновременно быть и волокитами и хорошими мужьями: временами он погуливал, но тщательно заботился, чтобы какое-нибудь случайное увлечение не разрушило его семейную жизнь. Ему было уже за тридцать, он был женат и по-своему счастлив с женою. Ему нравились женщины со смазливыми мордочками и пышными формами, но на этот раз дело обстояло не так просто: его жена вот-вот должна была родить второго ребенка.
Так или иначе, а крутить любовь с супругой Джона Уэста было слишком рискованно; наверное, сам Уильям Харт не пошел бы на это. Билл Эванс решил, что на этот раз, в виде исключения, не следует пользоваться представившейся возможностью, и все-таки, как мужчина, он не мог не признать, что Нелли – лакомый кусочек. У нее четверо детей, однако она не уступит другим женщинам, хотя бы те были моложе ее лет на десять и не рожали ни разу. Сколько ей может быть лет? Наверное, под сорок. Не меньше. И все же она лакомый кусочек!
Однажды утром, когда Эванс, ловко орудуя лопаткой, клал кирпичи, он увидел Нелли, которая вышла из кухни с черного хода. Да, ничего не скажешь, хороша – выхоленная, нарядная, из тех, с которыми надо обращаться осторожно и ласково, шептать им на ушко всякие нежности, и тогда они тают в твоих объятиях. Ах, черт, она идет сюда!
Он сделал вид, будто поглощен работой, но отлично видел перед собой развевающееся белое платье и ощущал близость ее надушенного тела.
– Будьте добры, мистер Эванс, одолжите мне спички. Я хочу зажечь кипятильник.
– Гм… пожалуйста. – Голос его стал хриплым и словно чужим.
– Спасибо. Какое чудесное утро, правда? Я обожаю весну. Чувствуешь в себе такую бодрость.
Он знал, что каменщики, работавшие поблизости, следят за ними и прислушиваются.
– Гм… да, – запинаясь, произнес он.
Продолжая работать, он украдкой смотрел ей вслед. Она вошла в один из флигелей и через минуту вышла. Опять идет сюда!
Билл почувствовал, что она стоит возле него, и обернулся. Нелли протянула правую руку – на ладони ее лежала спичечная коробка. Билл бросил лопатку на землю, и Нелли осторожно вложила коробок в его руку.
– Спасибо, мистер Эванс, – сказала она слабым и дрожащим голосом. Потом повернулась и быстро пошла к дому.
Что такое? В коробке записка! «Приходите за чаем сами – приходите раньше остальных. Ваша Нелли». Боже милостивый!
Через полчаса Нелли стояла в кухне у окна и смотрела во двор. Она вся дрожала, а в голове ее вертелась одна мысль: он должен прийти, он должен понять и прийти. Если он понял, то должен явиться сейчас – остается лишь десять минут до прихода всех остальных.
В кухню вошла кухарка, толстая румяная женщина.
– Давайте-ка я приготовлю чай, миссис Уэст.
– Не беспокойтесь. Я сама. Кончайте свое дело в кладовой.
– Какое же беспокойство, мэдэм!
– Я сказала, что сама управлюсь, Мэри. Делайте, что вам сказано.
Кухарка опешила от резкого тона хозяйки. – Хорошо, мэдэм, я только думала…
– Делайте, что вам велят.
Кухарка вышла, прикрыв за собой дверь. Нелли увидела в окно Билла Эванса – он появился из-за угла окруженной лесами постройки. В руках у него был большой жестяной котелок. Он шел, то и дело оглядываясь по сторонам.
Нелли отошла от окна и, прислонившись к столу, устремила взгляд на дверь. Казалось, кровь в ее жилах стала горячее и заструилась быстрей от нахлынувшей на нее неудержимой и никогда еще не изведанной страсти.
Послышались шаги, потом стук в дверь.
– Войдите, – сказала она свистящим шепотом, и в дверях появилась фигура Билла, темным силуэтом выделявшаяся в ярком солнечном свете.
Он прищурился, силясь разглядеть Нелли в полутемной кухне.
– Я знала, что вы придете, – сказала она, тяжело дыша и откинувшись назад, так что ее каштановые волосы отлетели со лба.
– Ну что вы стоите? – проговорила она тихим зовущим голосом.
Билл открыл рот, но ничего не сказал, потом вдруг поставил котелок на пол и, сделав два шага, очутился возле нее. Руки его сомкнулись на ее талии, губы жадно впились в ее губы, а она обвила руками его шею, нечаянно сбив при этом с него шляпу. Они чуть не задохнулись в неистовом поцелуе и оторвались друг от друга, чтобы перевести дух. Нелли провела пальцами по его светлым волосам.
– Я вас люблю! Что я могу поделать – я люблю вас.
Он схватил ее за плечи и поглядел ей в глаза. В нем тоже пробудилась страсть, но ему было неловко и немного стыдно. Внезапно он отодвинулся от нее, поднял с полу шляпу и котелок для чая и хрипло сказал: – Что мы делаем? Давайте, я лучше налью чаю.
Нелли раскраснелась, волосы ее растрепались, из пучка на затылке выбились пряди. Она взяла котелок и налила из кипятильника чай. Схватив котелок, Билл пошел к двери.
– Тут стыдного ничего нет! Ровно ничего! – Нелли вытащила из-за корсажа клочок бумаги и сунула ему в свободную руку. – Будьте здесь вечером, в восемь часов.
– Нет. Не сегодня. Это не годится. Нельзя… Это… Мистер Уэст… Что он…
– Пустяки. Все будет хорошо. Вы должны прийти. Сегодня вечером, в восемь часов, – решительно повторила она, поправляя волосы.
Он хотел было что-то ответить, но за дверью, ведущей из кухни в дом, послышались шаги.
– Уходите, – сказала Нелли. – Я люблю вас. Вы должны понять. Вечером в восемь. Мы поговорим.
Билл колебался. Не успел он ответить, как в кухню вошла кухарка. Постояв минуту в нерешительности, Билл вышел. «Боже милостивый! – повторял он про себя, обходя окруженную лесами постройку. – Боже милостивый!»
Джон Уэст был мрачен, но не роман Нелли с Биллом Эвансом являлся причиной его дурного настроения. Он не видел никакой перемены в Нелли. Он не замечал, что она раз или два в неделю уходит в кино, не беря с собой детей; не замечал он и ее нервности, и того, что она разговаривает с ним сквозь зубы. Он привык смотреть на Нелли как на вещь, которая всегда тут и никуда не денется, как на неодушевленную принадлежность того мира, где он был властелином. Мысль о том, что она может ему изменить, никогда не приходила ему в голову.
Война тоже не вызывала у него особой тревоги – наоборот, после недавнего известия о вступлении Америки в войну его надежды на победу союзников стали еще радужнее.
Его тревожили совсем другого рода известия из Америки: умер Лу Дарби!








