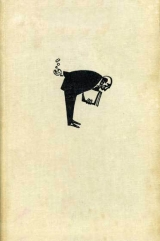
Текст книги "Власть без славы. Книга 1"
Автор книги: Фрэнк Харди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
Голос Нелли заставил Джона Уэста оторваться от газеты:
– Где ты пропадал всю ночь?
– Нигде я не пропадал. Запомни это! Я не выходил из дому.
В то же утро Арти явился в контору сам не свой от страха, что Брэдли умрет; Арти твердо решил во что бы то ни стало помочь ему выпутаться. Да, Брэдли выстрелил первым и убил полицейского, сказал Арти, но пусть за это отдувается не он, а кто-нибудь другой. Арти презрительно отверг предположение о том, что Тэннера, Ласситера, Джона Уэста или его самого могут заподозрить в соучастии. Тем не менее Джон Уэст не желал рисковать. Когда троим арестованным предъявили обвинение в убийстве и в намерении совершить уголовное преступление, он, чтобы заткнуть рот обвиняемым, обещал им свое покровительство и взялся оплатить адвокатов. С тех пор он оказывал влияние на дело через посредство Фрэнка Лэмменса и Артура. Дэвид Гарсайд умер четыре года назад, поэтому ведение дела было передано лучшему после него адвокату.
Защита превратилась в дьявольский заговор против Борова. На предварительном следствии Брэдли и Вуд отрицали свою причастность к убийству полицейского. Правда, все шесть гнезд барабана револьвера Брэдли оказались пустыми, но он заявил, что стрелял просто для того, чтобы отвлечь внимание. Боров, которого уверили, будто с присяжными «договорятся», признал, что, защищаясь, выстрелил в полицейского. Ввиду этого признания, на которое Борова вынудили «покровители», его судили отдельно.
Два состава присяжных никак не могли решить вопрос – виновны ли Брэдли и Вуд в убийстве или нет и кто из них стрелял. Поэтому суд признал их виновными в покушении на кражу со взломом и приговорил одного к пяти, другого к шести годам тюремного заключения. Спор по поводу виновности подсудимых в убийстве возник между присяжными по той причине, что трое из них получили солидные взятки.
Не успел Боров опомниться, как его признали виновным в убийстве и приговорили к смертной казни; его предупредили, чтобы он не беспокоился, если ему вынесут такой приговор – это сущие пустяки, ибо Джон Уэст уже договорился, что будет подана апелляция. Непоколебимая вера Борова в способность Уэста повернуть по-своему любое судебное дело на сей раз не оправдалась: в помиловании было отказано, и Боров угодил на виселицу, так и не поняв, что сыграл роль козла отпущения. Так окончилась карьера человека, который двадцать пять лет назад угрожал Джону Уэсту, что «переломает ему все кости». Смерть его вызвала у Джона Уэста только чувство облегчения.
Брэдли и Вуд сидели в Пентриджской тюрьме, куда Артур заботливо носил Брэдли передачу – сигареты и еду.
Через месяц после пасхи Нелли напомнила Джону Уэсту, что он до сих пор не сделал обычного пасхального пожертвования на церковь. Он проворчал что-то насчет того, что из него выжимают все соки, и неохотно выписал чек. Увидев сумму – пять фунтов, – Нелли запротестовала:
– Что ты, Джон! Мы же всегда даем не меньше пятидесяти!
– Хватит с них на этот раз. Что я – сам деньги делаю?
В следующее воскресенье Джон и Нелли с двумя старшими детьми отправились к обедне в фешенебельную церковь неподалеку от их дома. Джон Уэст ходил к обедне почти каждое воскресенье, но исповедовался и причащался только раз в год – таков был установленный церковью минимум. Он терпеть не мог исповедоваться: в темной исповедальне он утрачивал ощущение своего могущества.
– Благословите, отец, я грешен – не исповедовался целый год.
Для исповеди он всегда выбирал церковь подальше от дома – из страха, что священник может его узнать. Он признавался только в самых обычных прегрешениях – в нечистых помыслах, сквернословии, неаккуратном посещении церкви и употреблении мяса по пятницам. Он никогда не каялся в подкупах, в жестоких расправах или в мошеннических аферах – да он и не считал все это за грех.
Обедня началась. Священник в красном облачении и мальчики при алтаре в белых с красным одеждах, произнося полагающиеся слова и делая должные движения, совершали службу. Нелли следила за обедней по требнику. Марджори и Мэри ерзали на скамье; Джон Уэст слушал рассеянно, но вместе со всеми вставал, садился и опускался на колени. В конце службы молящиеся гуськом потянулись к решетке алтаря за причастием. Джон Уэст смотрел, как его жена благоговейно закинула голову и открыла рот, чтобы проглотить овальную облатку, в которой, по ее убеждению, были заключены плоть и кровь Христовы.
Кончилось причащение, и священник подошел к кафедре, держа в руках записную книжку. Джон Уэст услышал обычное вступление: «Сегодня, в такое-то воскресенье после пасхи, читается евангелие от такого-то». Священник был новый и, как заметил Джон Уэст, в отличие от своего предшественника говорил с сильным ирландским акцентом. Джона Уэста начинало клонить ко сну – накануне, как обычно, он до поздней ночи просидел на боксерском состязании.
– Возлюбленные братья, сейчас я оглашу список пасхальных пожертвований. С прискорбием должен заметить, что общая сумма гораздо меньше прошлогодней. – Священник быстро прочитал список жертвователей: сначала шли имена тех, кто пожертвовал по пятьдесят фунтов, потом тех, кто дал двадцать, пятнадцать и, наконец, десять фунтов. Затем священник сделал паузу и произнес:
– Мистер Джон Уэст…
Джон Уэст почти не слушал священника, но при упоминании своего имени вздрогнул и выпрямился.
– Джон Уэст – пять фунтов, – объявил священник. – А мог бы дать гораздо больше!
В церкви воцарилась напряженная тишина, от которой звенело в ушах. Джон Уэст вцепился обеими руками в скамью, хотел было что-то сказать, но запнулся. Он встал и пошел к выходу, даже не преклонив колен перед алтарем. Нелли залилась краской до самых ушей, а девочки опустили головы. Священник продолжал свою речь. Молящиеся подталкивали друг друга локтями и перешептывались.
Выходя из церкви, Нелли не смотрела по сторонам. Она была оскорблена и унижена. Подумать только, сказать такую вещь! Нелли играла видную роль в церковных благотворительных обществах, а Джон всегда был более чем щедр.
Когда Нелли подошла к белому особняку, чувство унижения сменилось предчувствием неизбежной ссоры с мужем. Она нашла Джона в гостиной; он сидел в кресле под портретом матери. Нелли подошла было к мужу, но, взглянув на него, прошла мимо. Она поняла, что ярость его улеглась и он успокоился. Сейчас лучше его не трогать – она это знала по опыту.
Они не обменялись ни словом до самого завтрака. Наконец Джон Уэст сказал:
– С нынешнего дня никто из моей семьи не переступит порога этой церкви.
– Но, Джон, должны же мы исполнять свой долг перед богом. Дети…
– Если тебе и детям нужно ходить к обедне, можете выбрать какую-нибудь другую церковь. В последнее время наши святые отцы просто взбесились. Этот поп – ирландец. Он оскорбил меня потому, что я стою за войну и за воинскую повинность. В этом все дело. Ладно, посмотрим, как-то они проживут без моих денег. От меня им больше не получить ни гроша. И никогда в жизни я не войду ни в одну католическую церковь!
Слухи об оскорблении, которому подвергся в церкви Джон Уэст, очень скоро дошли до Мэлона. Архиепископ Конн заявил ему, что этот случай – еще одно доказательство крамольных шинфейнерских настроений, начинающих распространяться в штате Виктория даже среди духовенства. Старый архиепископ встревожился, что католическая церковь может потерять своего виднейшего покровителя.
Мэлон также этого боялся, но инцидент, происшедший в церкви, не мог не затронуть его ирландского чувства юмора. Он даже позволял себе втихомолку посмеиваться над конфузом Джона Уэста. Но у него имелись свои политические соображения, и поэтому он все же досадовал, что Джону Уэсту нанесли оскорбление в церкви. Главным политическим принципом Дэниела Мэлона было самоуправление для Ирландии, но клерикальное воспитание и собственный опыт научили его, что церковь должна иметь политическое влияние; ему понадобилось не много времени, чтобы убедиться, что в Австралии католическая церковь должна идти в ногу с лейбористской партией. Мэлон уже составил обширный план, в котором Джон Уэст занимал главное место. Словом, священник-ирландец очень некстати вылез со своим критическим замечанием.
С тех пор как Мэлон приехал в Австралию, он вместе с духовенством других штатов участвовал в создании так называемой Католической федерации; эта организация ставила себе целью добиваться правительственных субсидий для католических школ. Федерация даже выставляла на выборах своих кандидатов против тех лейбористов, которые были противниками субсидий. С другими лейбористскими кандидатами федерация вступала в переговоры, убеждая их поддержать законопроект о субсидиях. Большинство отказывалось; тогда Мэлон сделал публичное заявление, о чем ему вскоре пришлось пожалеть: он предложил католикам голосовать только за тех кандидатов, которые стоят за субсидии католическим школам.
Несколько лейбористских лидеров в своих предвыборных речах резко выступали против католиков. В день выборов в парламент штата лейбористам не удалось сохранить свои позиции, которых они добились на федеральных выборах, и некатолическое большинство лейбористской партии считало, что причиной тому – сектантские разногласия. До этого Мэлон подумывал об учреждении ассоциации рабочих-католиков, но теперь понял, что это еще больше ухудшило бы положение. Он и так уже способствовал расколу в лейбористской партии, а цели своей не достиг. Австралийские католики – в большинстве своем рабочие – были верными сторонниками лейбористской партии. Они явно были недовольны политикой Мэлона. Он решил восстановить свое положение в лейбористской партии, и помочь ему в этом безусловно мог Джон Уэст. Поэтому Дэниел Мэлон в ближайшее воскресенье отправился в особняк Уэста. Мэлон кое-что слышал о прошлом Джона Уэста и его темных делах, но это его не остановило.
Идти ему было недалеко: он жил как раз напротив дома Джона Уэста. Переходя широкую мостовую, Мэлон думал о состоявшемся на днях собрании католиков-лейбористов, которое прошло очень удачно. На собрании обсуждались ирландская проблема, вопрос о воинской повинности и, разумеется, о субсидиях католическим школам. Было решено приложить все усилия, чтобы привлечь в лейбористскую партию как можно больше католиков. Если вдобавок они смогут заручиться поддержкой политической машины Джона Уэста (имеющего такую силу в Керрингбуше и других промышленных районах и такое влияние на многих лейбористов в парламенте), то требование субсидий скоро станет одним из пунктов лейбористской программы. Подгоняемый этой мыслью, Мэлон зашагал еще решительнее.
Он слышал, что миссис Уэст глубоко обижена и что мистер Уэст пригрозил совсем отойти от церкви. Этого нельзя было допустить. Не стоит задирать нос и показывать свою независимость, когда дело касается такого человека. Однако когда Мэлон, постучав молоточком в дверь, услышал шаги по длинному коридору, ему стало не по себе. Чего доброго, Уэст еще разозлится – говорят, у него бывают припадки бешеной ярости. Он может забыть, что перед ним помощник архиепископа, и сказать что-нибудь вовсе не подобающее. Уже много лет Дэниела Мэлона называли не иначе, как «ваше преподобие», и все без исключения выказывали ему глубочайшую почтительность. Перспектива выслушивать оскорбительные слова, даже от миллионера, ни в какой мере его не устраивала. Надо только ни при каких обстоятельствах не терять самообладания и не задевать его патриотических чувств, думал он.
Нелли встретила его суетливо, даже подобострастно.
– О, пожалуйте, ваше преподобие! Надеюсь, вам недолго пришлось ждать? Мы сегодня отпустили слуг.
– Добрый день, миссис Уэст. Как ваши дети?
– Спасибо, хорошо, ваше преподобие. Входите же, пожалуйста. Позвольте взять вашу шляпу.
Нелли провела его в гостиную.
– Присядьте, прошу вас. Мистер Уэст сейчас выйдет.
Нервно комкая носовой платок, она села в громоздкое кресло, какие были тогда в моде. Вошел Джон Уэст.
– Добрый день, ваше преподобие, – произнес он сквозь зубы и сел. Неловкость, которую он всегда ощущал в присутствии духовных лиц, на этот раз сменилась враждебным чувством. Знаю, зачем ты явился, подумал он, только ничего у тебя не выйдет.
Мэлон вежливо ответил на приветствие. Джон Уэст заметил, что его гость тоже нервничает.
– Я вышел прогуляться, – солгал Мэлон, – и решил кстати проведать вас.
– Мы очень вам рады, ваше преподобие, – сказала Нелли и еще энергичнее затеребила носовой платок.
Только бы Джон не устроил скандала, думала она.
Почти целую минуту все сидели молча. Джон Уэст не сводил глаз с Мэлона, которому эта пауза показалась бесконечной. Пожалуй, лучше сразу приступить к делу, подумал он.
– Я от души надеюсь, что вы не станете придавать значения маленькому инциденту, случившемуся в прошлое воскресенье, – это так досадно, мои добрые друзья, так досадно…
– Рад слышать, что вы считаете это маленьким инцидентом, ваше преподобие, – бесстрастно заметил Джон Уэст.
– Гм… пожалуй, наоборот. Я отношусь к этому весьма серьезно. Ведь я настоял, чтобы того священника перевели в провинцию.
– Переводите его хоть в Тимбукту, ваше преподобие, мне все равно. В прошлое воскресенье я последний раз в жизни слушал обедню.
– Помилуйте, мистер Уэст, неужели мы должны грешить только потому, что грешат другие. Если отец О’Коннелл будет гореть в аду, то вам вовсе не обязательно следовать за ним. Вся эта история скоро забудется.
– Я никогда не забываю обиды, ваше преподобие. Я знаю, что меня оскорбили из-за этой ирландской заварухи. Мне нанесли оскорбление потому, что я патриот и хочу, чтобы Англия выиграла войну.
Дэниел Мэлон поежился, а Нелли попыталась что-то сказать.
– Мне не нравится, как церковь в последнее время относится к войне, – продолжал Джон Уэст. – Вы и все духовенство должны помнить, что если Англия будет разбита, будем разбиты и мы. Любая попытка помешать деятельности в помощь войне – просто государственная измена.
– Слишком сильно сказано, мистер Уэст. В конце концов Англия тоже не безупречна. Но большинство духовных лиц и мирян вполне разделяют ваши убеждения. Они вольны поступать так, как подсказывает им совесть.
– Вам ясно, что из-за этого случая я прекращаю оказывать церкви какую-либо финансовую помощь, ваше преподобие?
– Деньги – еще не все, мистер Уэст, – сказал Мэлон. – Даю вам слово, что подобный случай никогда не повторится.
– Конечно не повторится. Уж я об этом позабочусь.
* * *
Английские войска подавили ирландское восстание, но отголоски его прокатились по всему миру. В Австралии ирландское национальное движение, в течение десятилетий бурлившее под спудом, прорвалось наружу, и лидером его оказался Дэниел Мэлон.
Громом аплодисментов была встречена его речь на митинге в мельбурнской ратуше, устроенном всеавстралийской организацией помощи Ирландии, имевшей отделения во всех городах страны.
«…Великодушие и щедрость, которую вы проявите сегодня и в дальнейшем, послужат утешением для несчастных, что ютятся среди обугленных развалин на О’Коннелл-стрит, а это многолюдное собрание и ваше безграничное сочувствие придадут мужества и бодрости всем тем ирландцам, живым или мертвым, – ибо жив патриотизм! – которые любят Ирландию и которые даже в самые мрачные для нее времена не отчаиваются и не утрачивают веры в будущее своей страны.
…Нашу лояльность часто ставят под сомнение. Мы отвечаем: ирландцы настолько лояльны по отношению к империи, к которой они имеют счастье или несчастье принадлежать, насколько в данных обстоятельствах может быть лоялен уважающий себя народ. Я по крайней мере открыто признаюсь, что в сердцах ирландцев живет такая преданность Британской империи, какой она никогда не заслуживала, да и никогда не стремилась заслужить. Не желая ничего утаивать, я – от своего имени и, думаю, от вашего тоже – прямо заявляю, что невозможно будет познать глубину преданности, живущую в сердцах ирландцев, и завоевать их любовь до тех пор, пока Англия не дарует нам самоуправления. К этому сводятся просьбы и требования нашего сегодняшнего собрания».
Глаза Дэниела Мэлона были полны слез… Огромная толпа рукоплескала, топала ногами, кричала «ура», а он стоял неподвижно, выпрямившись во весь рост. Это было его первое выступление на таком многолюдном митинге. Он не знал, чем это для него кончится, да и не желал думать об этом.
Архиепископ Конн вел против него закулисную борьбу. Джон Уэст, занимавший центральное место в планах Мэлона, публично объявил себя его противником. Мэлон понимал, что может навлечь на себя недовольство Ватикана; правда, Ватикан – не сторонник протестантской Англии, но не в его обычае поддерживать народные восстания. И все же Дэниел Мэлон делал то, что считал своим долгом, и не думал о последствиях. Даже убедившись в том, что ирландское движение постепенно смыкается с борьбой против воинской повинности, он не отступил.
Когда премьер-министр Хьюз, недавно вернувшийся из Англии, провел референдум по вопросу о всеобщей воинской повинности, страна разделилась на два лагеря.
В городах и сельских местностях возникло движение протеста. Не против войны вообще – такой точки зрения придерживались только небольшие группы социалистов и «Индустриальные рабочие мира», – а против повинности отбывать военную службу за океаном. Протестовали профсоюзы, которые на протяжении всей своей истории были против введения воинской повинности; протестовали некоторые видные лейбористы; фермеры, которые боялись, что их сыновей заберут в армию; лавочники, опасавшиеся, как бы не остаться без приказчиков; интеллигенция, видевшая в новом законе покушение на свободу личности; ирландское меньшинство и австралийцы ирландского происхождения.
Лагерь сторонников воинской повинности поддерживала ежедневная пресса. Кроме того, на их стороне были богачи и спекулянты, извлекавшие огромные прибыли из этой кровавой бойни, большинство видных консерваторов и либералов, светские дамы, вязавшие носки для солдат и работавшие в отделениях Красного Креста, сыновья рабочих и фермеров, стекавшиеся под знамена и готовые пролить свою кровь ради того, чтобы «спасти мир для демократии», оранжисты и воинствующие протестанты, называвшие противников воинской повинности «нечестивыми католиками», которые «в угоду иезуитам готовы предать империю».
В каждом лагере появлялись свои лидеры – события порождали людей. Лагерю сторонников воинской повинности был необходим лидер, пользующийся влиянием среди рабочих. Ни один из консерваторов не мог претендовать на эту роль, но лейбористский премьер-министр Хьюз имел на нее право и не преминул им воспользоваться. Еще до окончания войны он заслужил прозвище «Хьюз Вояка», но бывшие товарищи предпочитали называть его «Хьюзом Крысой».
В лагере противников закона нашлось немало лидеров – в лице социалистов и членов ИРМ, Дэниела Мэлона, возведенного в сан архиепископа после смерти Конна, профсоюзных деятелей и некоторых наиболее радикально настроенных деятелей лейбористской партии.
В 1916 году, накануне первого референдума, в лейбористской партии произошел раскол по вопросу о воинской повинности. Эштон вышел из состава правительства. Хьюз заполнил собой эту брешь и предложил компромиссное решение: во время политической кампании в связи с референдумом каждый волен поддерживать сторонников или противников воинской повинности, но все должны будут безоговорочно подчиниться решению народа.
Только во время сильных политических бурь принципы и идеалы Фрэнка Эштона могли восторжествовать над его личными слабостями. Он с радостью окунулся в борьбу, отбросив в сторону все личные проблемы.
Марта горько жаловалась на то, что он никогда не думает о ней и о детях. Надо же выдумать такое – уйти в отставку и лишиться министерского жалованья! Будто мало того, что он играет в азартные игры и пьет и готов отдать последние деньги любому бродяге, стоит только тому попросить. Эштон пытался объяснить ей, что его принципы не позволяют ему оставаться в правительстве Хьюза.
– Принципы! – всхлипывала Марта. – Провались они, твои принципы. Жена и дети – вот что должно быть твоим главным принципом.
– Ах, Марта, – сказал он, – почему ты не можешь меня понять!
– Понять? – истерически злобно взвизгнула она. – Зато Гарриет понимает твои принципы. Да, да! Ты это и хочешь сказать. Гарриет понимает! Пусть лучше заведет себе собственного мужа и не морочит чужих своими принципами!
Перед самой войной Фрэнк Эштон, которого Марта окончательно оттолкнула от себя холодностью, мещанской ограниченностью и полной неспособностью понять его политические убеждения, прибавил к своей и без того сложной жизни еще одно осложнение – женщину по имени Гарриет.
В отличие от Марты, Гарриет обладала приятной внешностью, сочувствовала Эштону и живо интересовалась политикой лейбористов. Они познакомились на собрании низовой организации лейбористской партии; между ними завязалась тесная дружба, которая, как он вскоре убедился, была основана не только на общих политических интересах. Гарриет, красивая и цветущая, привлекала его как женщина, а он был не из тех, кто может устоять перед искушением. Вскоре их связало глубокое чувство, и они поклялись друг другу в любви. Гарриет говорила, что никогда не покинет его, независимо от того, разведется он с Мартой или нет, и он знал, что это правда.
Развестись с Мартой? В том-то и загвоздка: чтобы доказать все нравственное величие своей любви к Гарриет, он должен нанести удар Марте и стать чужим для своих двух сыновей. Иного выхода не было: эту старую, как мир, проблему никому еще не удавалось разрешить, не причинив кому-нибудь боли. Эштон не выносил сцен и объяснений и знал, что если он бросит Марту, то ему не дадут покоя угрызения совести. Марта не понимает его, но ведь она делает для него все, что может, и как-никак – она мать его сыновей. Но отказаться от Гарриет он тоже не мог, поэтому оставил все, как есть. Однако подобные ситуации не бывают неизменными: они развиваются сами собой. Марта стала кое-что подозревать и вскоре все узнала. Она непрестанно сокрушалась о своей судьбе и злобно пилила мужа, пока атмосфера в доме не стала совершенно невыносимой, и даже дети были в подавленном настроении.
В день своего выступления на митинге, созванном социалистами перед референдумом, Фрэнк Эштон был радостно взволнован: социалисты охотно приняли его в свой круг, а Гарриет придет сегодня на собрание и будет сидеть в первом ряду.
Когда он вошел в переполненный зал, раздались крики:
– А вот и Фрэнк Эштон! Пропустите его! Желаю удачи, Фрэнк! Задай-ка им жару!
Эштон вспомнил старые времена, «времена Тома Манна», он снова был среди своих.
Фрэнк Эштон не избежал тлетворного влияния, которое оказывает парламент на депутатов-лейбористов. Он видел, как это влияние разлагало его коллег – сначала в парламенте штата Виктория, а потом и в федеральном парламенте, членом которого он состоял с 1910 года. Они принимали мандат, полные решимости отстаивать интересы рабочих, которые послали их в парламент. Там с ними носились, это им льстило, и в конце концов они начинали считать себя выше рабочих; Эштон не раз слышал от некоторых лейбористов, что капиталисты и консерваторы – «неплохие люди, когда узнаешь их поближе». Их революционный пыл постепенно угасал под влиянием новых знакомств, сложностей парламентской процедуры, а в некоторых случаях и возможности разбогатеть с помощью взяток. На глазах Эштона многие из них превращались в «светских радикалов»; они превозносили на словах цели лейбористского движения, чтобы сохранить за собой места в парламенте, и отгораживались стеной цинизма от своих прежних идеалов. Многие из них, особенно в штате Виктория, завязли в раскинутой Уэстом паутине, из которой Эштону удалось спастись в 1906 году, после введения закона о запрещении азартных игр.
Избежав сетей Уэста, он, однако, не сумел избежать всех ловушек, подстерегающих лейбористов в буржуазном парламенте. Много лет Эштона тяготило то, что его социалистические идеи не находили отклика в лейбористской партии, но жалованье было ему необходимо, а положение члена парламента доставляло немалое удовлетворение. Но теперь он расскажет рабочим всю правду о предательстве лейбористов! Хьюз и его клика окончательно продались милитаристам, а отношение других к воинской повинности целиком зависело от взглядов большинства их избирателей.
Он, Эштон, по крайней мере поступает как подлинный представитель рабочих; дело дошло до того, что Хьюз наложил запрещение на его последнюю брошюру. Зато теперь он волен писать что угодно, волен организовывать и бороться, волен говорить что хочет, как в былые времена. Эштон знал, что обладает природным ораторским талантом; он мог завладеть любой аудиторией – в университете, в парламенте, на собрании лейбористов, в закрытом помещении, на берегу Ярры или на уличном перекрестке, – а сегодня он будет говорить как никогда.
За все время своей бурной карьеры он не произносил лучшей речи. Он бичевал Хьюза и лейбористов-ренегатов, поджигателей войны и спекулянтов, консерваторов и либералов; он бичевал всех, кто стоял за воинскую повинность. Осуждая воззвание, выпущенное Хьюзом, он сказал: «Если все люди того же мнения, что и я, то ни один человек не откликнется на это воззвание».
Он искал глазами Гарриет. Да, она здесь! Вот она, в первом ряду, миловидная, со вздернутым носиком, машет затянутой в перчатку рукой и вместе со всеми шумно выражает свое одобрение. Он покорил слушателей с первых же слов, они разделяли все его чувства. Возмущаясь репрессивными мерами, принятыми против социалистов и ИРМ, он сказал:
«Революцию делают не агитаторы. Революции зарождаются в сердце народа, а эти люди – народные лидеры, потому-то враги народа так ненавидят и боятся их.
Требование о введении воинской повинности выдвинуто у нас потому, что наш рабочий класс более развит, более сознателен и спаян крепче, чем в любой другой стране. Рабочие Австралии стали примером для всего мира. Я от души надеюсь, что все рабочие поймут: незаконный призыв в армию и требование воинской повинности имеют одну цель – бросить людей в кровавую бойню ради наживы богачей. Эта война ведется из-за рынков сбыта и из-за прибылей, она ничего не может дать рабочему человеку. Хьюз может прийти к победе, только уничтожив профсоюзы, поставившие его у власти, шагая по трупам тех, с кем он работал и дружил много лет. К победе он может прийти только по трупам наших молодых рабочих. Но рабочий класс Австралии даст достойный ответ Хьюзу! Планы Хьюза будут сорваны!»
На митинге присутствовал и Барни Робинсон. На следующий день он отправился на службу, в штаб-квартиру Джона Уэста, помещавшуюся на третьем этаже большого здания. Барни был ярым противником воинской повинности, но, работая у Джона Уэста в качестве заведующего отделом рекламы и агента по найму боксеров для его стадиона, он всегда находился в окружении «ура-патриотов» и сторонников воинской повинности.
Барни сидел за маленьким столиком в первой комнате конторы, позади стойки. Он мало изменился, разве только чуть-чуть постарел и заметно потолстел, а на висках и в усах его появилась седина. Он по-прежнему много читал и все так же любил подпускать аллитерации в своих рекламных объявлениях – словом, остался прежним Барни Робинсоном.
Деревянная табличка на стене извещала о том, что здесь находится официальная контора Боксерской компании, Мельбурнского бегового клуба и Скакового клуба штата Виктория. Налево помещался скудно обставленный кабинет Джона Уэста с табличкой на дверях: «Вход посторонним воспрещается». Под этой надписью виднелись следы стертых слов: «Рядовой Уэст». Барни написал это чернилами во время краткого пребывания Джона Уэста в армии; когда хозяин вернулся, приписка эта вызвала у него раздражение, и Барни пришлось стереть ее, но следы остались.
Из конторы вела дверь в кабинет, где сидел Фрэнк Лэмменс, исполнявший многочисленные и разнообразные обязанности. Сюда приходили политические деятели, бандиты, боксеры, журналисты, велогонщики, жокеи, тренеры и другие нужные Джону Уэсту люди; тут с ними вели переговоры и платили им за услуги.
Комнату направо занимал некий Ричард Лэм, быстро зарекомендовавший себя энергичным и совершенно безжалостным к людям администратором. Еще год назад Лэм служил клерком в агентстве по продаже недвижимости. Узнав, что Джон Уэст намерен открыть постоянный спортивный зал в Мельбурне, Лэм принялся вести переговоры о продаже огромного склада под шерсть в западной части города, заключил сделку и таким образом создал для себя должность управляющего боксерскими предприятиями Джона Уэста в штате Виктория.
Барни Робинсон недолюбливал Ричарда Лэма. Барни считал, что он, а не Лэм должен был бы сидеть в этой комнате направо. К тому же Лэм был масоном – паршивый нечестивец, козлиный наездник [9]9
В Англии существует поверье, будто каждая масонская ложа держит козла, на котором новопосвященные должны проехаться верхом.
[Закрыть], как называл его про себя Барни. Сам Барни не помнил, когда он в последний раз был в церкви, но, как все католики, терпеть не мог масонов; однако Джон Уэст забывал об этой традиционной вражде, когда дело касалось дельных работников. Неприязнь, которую питал Барни к Лэму, усугублялась также различиями во взглядах и методах работы: Барни искренне увлекался спортом и заботился о благополучии своих боксеров, Лэм же точно придерживался принципов своего хозяина, сводившихся к безжалостному извлечению доходов любыми средствами.
Лэм и Барни были между собой на ножах. Лэм оказался круглым невеждой во всем, что касалось боксерских состязаний, но он очень быстро и без всякой помощи со стороны постигал все тайны этого спорта. Барни постоянно хлопотал о нововведениях, и почти всегда его хлопоты оказывались безуспешными. Он добивался повышения платы боксерам, участвующим в предварительных раундах и получающим по фунту за нокаут; он требовал увеличения процента выплаты боксерам, дерущимся в основных раундах, и, самое главное, более строгого медицинского надзора и запрещения допускать на ринг боксеров, перенесших сотрясение мозга.
Барни знал, что Лэм и Джон Уэст любят устраивать кровавые зрелища наподобие римских, поэтому предпочитают сводить боксеров, которые готовы разорвать друг друга в клочья. Травмированный боксер, получив удар по голове, начинает неистово молотить противника кулаками; это нравится публике, он слывет у нее «боевым парнем»; поэтому его то и дело выпускают в состязаниях, он очень быстро изнашивается и в конце концов бывает вынужден бросить бокс; всю остальную жизнь такой боксер ходит, волоча ноги, поматывает головой и размахивает кулаками, словно готовясь нанести удар воображаемому противнику. Барни утверждал, что скоро в Мельбурне таких живых развалин будет больше, чем в любом городе на земном шаре.








