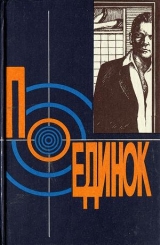
Текст книги "Поединок. Выпуск 18"
Автор книги: Франсуаза Саган
Соавторы: Эдуард Хруцкий,Анатолий Степанов,Анатолий Полянский,Кристиан Геерманн,Евгений Козловский,Владимир Савельев
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 57 страниц)
– Счастливо отдохнуть от сурового гранита науки в объятиях нежной черноморской волны!
– Того же и вам, чтобы дух перевести после дворовых интриг колхозного правления!
Отойдя от девушек подальше, Чудак безошибочно сориентировался и, валявшимся тут же жестяным обрезком выкопав неглубокую ямку, для начала набрал доверху в бумажный кулечек слепо ворочающихся розовато-коричневых червяков. Затем извлек из кармана донную удочку, насадил на крючок наживку, закинул, как бы победно огляделся, привязал шнур к торчащему тут же колышку и снова поглядел вокруг. Ничего настораживающего. И – никого в пределах метров ста. Тогда Чудак распрямился, отмерил, словно бы разминаясь, шесть шагов вправо от колышка и стал сначала ногами, а потом, присев на корточки, и ладонями, будто готовя хранилище для будущего улова, разгребать влажный на глубине песок.
Казалось, не вечность тому назад, а совсем еще недавно, за день до перехода границы, слушали они с господином Мантейфелем, стоя в укрытии, вбирали в себя, зябко поеживаясь, шуршание дождевых струй под мощные раскаты (словно здоровенные и насквозь промороженные поленья кто-то колол над головой) летнего грома. Сильный ветер мешал ливню падать отвесно, и сверкающие, частые, колеблемые яростными порывами нити влаги напоминали гигантскую метлу, не оставляющую на бескрайнем пространстве вокруг и одного сухого пятнышка. Крохотный рыбацкий поселок на том, на турецком берегу полнился гортанным гусиным гоготом, ошалевшие от восторга серо-белые птицы, Бог весть с чего проявляясь в этот раз по-мальчишечьи, с шумом рушились в лужи, били по ним крыльями и, то затейливо изгибая, то вновь вытягивая шеи, окатывали себя водой. Новые и новые стаи по природе в общем-то спокойных гусей сполошно выбегали из дворов, тяжело разгонялись, в помощь себе размахивая крыльями под уже затихающим дождем, срывались даже на низкий полет, но, правда, тут же поочередно падали на воду. «Возможно, тебе придется там контактировать еще с кем-нибудь из наших, но подчиняться ты обязан только Говоруну, – наставлял воспитанника доктор философии, следя, как задиристые гусаки хватали друг друга багровыми клювами и долго бились могучими, но, похоже, навсегда забывшими о высоте крыльями. – Работать ключом, естественно, придется тебе, но зашифровывать ваши ответы оттуда Говорун будет лично. Такова инструкция, призванная исключить возможность радиоигры в случае провала. По этой же не слишком благородной инструкции Говорун, полагаю, будет проверять тебя и на той стороне. Причем в принципе допускается, что не только он…» Старые и молодые гуси, то низко опуская, то запрокидывая головы на длинных шеях, теперь уже, подугомонившись, пили тепловатую воду из мутных луж, и только два из них продолжали шумную кутерьму – да так, что водяные брызги почти достигали навеса, под которым все еще стояли два – тоже два – с виду совершенно никуда не торопящихся человека. Стояли, несмотря на то, что дождь теперь наконец-то отодвинулся вдаль, стояли, безразлично поглядывая на вертлявую сороку, усевшуюся на телеграфный столб и взъерошившую перья, чтобы скорей и лучше просушить их на теплом ветру.
– Сегодня-то она как?
– Кто – сегодня? – вздрогнул от неожиданности Чудак. – Что – как?
– Рыбка сегодня как, спрашиваю? – уточнил высокий и мускулистый парень в клетчатых плавках и в дамской соломенной шляпке. – Обычно она здесь клюет что надо.
– А кто знает, что ей надо? – взял себя в руки Чудак. – И вообще рыба в отличие, скажем, от птицы не может целые сутки знай клевать себе да клевать без риска быть пойманной. Мотыль на крючке, как известно, не мотылек на сучке.
Незадолго перед этим Чудак нащупал в мокром песке рацию, оформленную внешне в виде коричневого – могущего сойти за рыбацкое – полиэтиленового ведерка, и, неприметно оглянувшись по сторонам, с облегчением извлек ее наружу. Резиновый чехол пришлось, оберегая батареи от влаги, снимать с ведерка со всеми предосторожностями, но рация внутри оказалась совершенно сухой: оставалось лишь открыть ее, разложить, воткнуть в песок бамбуковое удилище-антенну да включить приемник. Полиэтиленовое ведерко, послушное пальцам Чудака, ожило, озвучилось треском и шорохами эфира, заиграло отсветами крохотных лампочек, хотя это самовольное опробование средства связи в одиночку являлось грубейшим нарушением инструкции, поскольку Говорун, видимо, проверяя новичка на выдержку, не пришел сегодня на условленную встречу. Но как тут было перебороть соблазн? Рыба-то ведь тоже не ловилась, и Чудак лишь для отвода глаз то и дело вытаскивал донку, чертыхаясь и прицокивая языком, наживлял очередного червяка и забрасывал ее вновь. А натренированный слух между тем чутко следил за волнующей трескотней и шипеньем портативной рации, безошибочный слух разведчика перебирал множество приглушенных звуков, отыскивая в их хаосе единственно нужные и знакомые позывные. И вот, наконец, привычно, четко и многозначительно застучало – словно бы костяшками пальцев в переносицу: тата-тити-татата, тата-тити-тата-та. Чудак для пущей маскировки, на всякий случай, указательным пальцем левой руки рисовал на песке женскую кокетливую головку, а правой рукой отбивал такт, помогая себе е ходу, без предварительной записи, раскодировать (а то развели со своим Говоруном тайны за семью печатями!) содержание короткой передачи. «Задание остается прежним, задание остается прежним, – теперь уже не бесстрастно попискивало ведерко. – Говорун, почему не отвечаешь? Прием. Говорун, почему не отвечаешь? Прием. Отзовись завтра в это же время. Прием закончен». Нет, Чудак не стал заходить в нарушении инструкции слишком далеко, хотя его (подумаешь, какая тут сложность: закодировать текст без Говоруна!) так и подмывало взяться за ключ, переключить рацию на передачу и – с Богом! – дать в эфир свои позывные…
А Говорун так-таки и не пришел на заранее назначенную встречу. И вот умолкла настойчивая морзянка, и лишился своего такого хищного, своего зеленоватого отлива круглый и теперь уже совершенно черный глазок миниатюрного приемника. А еще через несколько мгновений плоские краешки черноморских волн почти совсем слизали песчаный бугорок над вновь закопанным полиэтиленовым ведерком в резиновом чехле. И вот теперь этот высокорослый молодой богатырь, изнывающий от пляжной скуки…
– Я что-то не совсем понимаю. Ты хочешь сказать, что птицеловам везет больше, чем рыболовам? Или на оборот?
– Больше всего везет тому, у кого над душой никто не стоит.
Грубо, конечно, было отвечено, но поди угадай, кто по роду занятий этот мускулистый приставала в клетчатых плавках и дамской шляпе – из тех он, кто действительно томится от безделья, или всё-таки из тех, кто, демонстрируя непрезентабельность, занят своим опасным делом? А может быть, просто заезжий и одинокий в это утро спортсмен или судовой грузчик (мускулы-то какие, мускулы!) решил завязать недолгое знакомство с тоже одиноким и, похоже, незадачливым местным рыболовом? Но так или иначе, а время-то, время торопилось к условленному сроку, когда Чудак обязан был покинуть морской берег и вернуться обратно ближайшим по расписанию рейсовым автобусом. Пришлось недовольно похмуриться да сдержанно как бы и поругать шляющихся тут, понимаешь ли, без дела и мешающих другим, пришлось как бы нехотя смотать донку и, осторожно обходя загорающих или попросту переступая через них, направиться к игрушечно карабкающемуся по склону – домик за домиком и дворик за двориком – поселку.
– Что-то вы рано сбегаете от драгоценных рыбонек, – привстала одна из веселых студенток и помахала приветственно рукой, отчего бумажка на ее носу отклеилась и соскользнула на песок. – Здесь перед вами открылись бы заманчивые перспективы!
– Дома жена ждет и семеро по лавкам скачут, – даже не улыбнувшись, отшутился Чудак. – Так что какие уж там даже и сказочные перспективы с золотыми рыбоньками…
Всю обратную дорогу в полупустом автобусе он молчал, испытывая странное, ибо неведомое прежде, смешанное чувство опаски за себя и уверенности в себе. Придет ли Говорун на следующую встречу или связь с центром – по безоговорочному мнению центра – прервана навсегда? Кем был, точнее, является все-таки тот мускулистый малый в клетчатых плавках и дамской шляпке? Почему так слишком уж легко, доходя в этом вроде бы даже и до назойливости, перебрасывались шутками с незнакомым парнем, то есть с ним, Чудаком, студентки в пестрых купальниках? Можно, что и говорить, вполне, конечно, можно затеряться среди всех этих людей, забыть среди них о своем прошлом и жить только своим настоящим, работать и впредь тем же шофером, а то и киномехаником, ценить постоянные или мимолетные знакомства, увеличивать число шумных или сдержанных друзей, полюбить хорошую девушку и не думать всерьез о будущем. Главное, даже строя планы, не думать не гадать всерьез о будущем, потому что к таким размышлениям всегда подключается память о прошлом. И, сидя в шаге от переднего выхода у полуоткрытого автобусного окошка, Чудак приветливо щурился, следя, сквозь лобовое стекло за набегающей под колеса дорогой, а сквозь боковые стекла – за вытянувшимися по обеим ее сторонам пирамидальными и простыми тополями, за холмами и виноградниками в низинах, кругло проворачивающимися сейчас в горизонтальной плоскости, словно диски и шестерни какого-то огромного и неспешного механизма, основательно вмонтированного в планету.
Вот там и осесть бы на годы,
Где ты никому не знаком,
Где только тебе и заботы –
Следи себе за поплавком.
Следи, как, творя всезабвенье.
Твои измельчает следы
Бессмертное проникновенье
Друг в друга – песка и воды.
При удочках, – да не рыбача, —
Сутулься с утра до темна:
Твоей неудачи удача
Любому там фарту равна.
Что и говорить, переход границы незадолго до этих событий он совершил в общем-то благополучно, хотя и не предполагал, что так мучительно дадутся последние ночные метры, отделявшие его от некогда родного берега. Поначалу-то, лихо бултыхнувшись с рифленой палубы вниз, Чудак долго плыл на глубине, а когда вынырнул и, почти по пояс приподнявшись над водой, оглянулся, катер раскачивался темным пятном уже метрах в сорока позади. Что ж, лиха беда – начало! Под черным, низко припавшим к морю небом Чудак перво-наперво – и даже с удовольствием – пошел спорым, размашистым кролем, не обращая внимания на пенные гребешки волн, жестко й аритмично хлеставшие парня по полуприщуренным глазам.
Минут через десять, уже не без усилий взобравшись на вершину очередной волны, он поднял голову, снова оглянулся и почувствовал, как в груди у него похолодело: темное пятно катера, находившегося в положении «стоп, машина», нисколько не отодвинувшись, покачивалось все в тех же сорока метрах позади. Потом Чудак плыл и плыл размеренным, протяжным, все тело изгибающим и вновь распрямляющим брассом, плыл, механически простирая руки вперед и с силой подгребая ими под себя и за себя. Плыл, не думая ни о преодоленном отрезке пути, ни о только еще предстоящем, плыл, ограничив свои действия лишь каждой новой волной, с которой следовало вступить в очередное единоборство.
– О чем грустим на родном советском окладе?
– А-а, это ты? – в какую-то лишь долю секунды Чудак, охваченный воспоминаниями, успел очнуться и не вздрогнуть от неожиданности. – Я и не заметил, как ты подошел.
– Грош нам всем цена, если наше приближение будет запросто фиксироваться…
Засунувший руки в карманы мятых брюк и зябко поводивший плечами под выгоревшей на солнце гимнастеркой, Говорун вдруг, замерев, вытянул шею, словно бы прислушиваясь то ли к разъяренному завыванию, то ли к благодушному рокотанию мощных моторов, то ли к тому и к другому проявлению их металло-бензиновой сути. Порожняком въезжая во двор склада и в крупной тряске вываливаясь за ворота с бумажными мешками в кузовах, машины затем безостановочно уносились вдаль, в сопровождении серых и витых-перевитых шлейфов цементной пыли.
– Почему на встречу не явился? – Чудак прислонился спиной к теплому радиатору своего самосвала, ждущего очереди на погрузку. – Или, как предписано там, в центре, инициатива вопросов и поступков здесь исходит только от тебя?
– Чего ты, Федя, задираешься без причины? – Говорун неторопливым движением достал из кармана ломоть черного плохо пропеченного хлеба и стал жевать его, выкусывая из мякиша небольшие дольки и рассматривая отметины своих зубов с безразличным выражением лица. – Хотя, конечно, в нашей работе никто ни когда и ни с кем не бывает на равных.
– Узнаю мудрость, почерпнутую на уроках философии: тобою – пораньше, мною – попозже.
– А я убеждаюсь в том, что меня правильно предупреждали о твоей мальчишеской строптивости. Но здесь, запомни, скидок на оригинальничанье не будет.
– Ты меня, кажется, хочешь припугнуть?
…В ту тревожную, в ту неожиданно наполнившуюся штормом ночь Чудак, начиная выбиваться из сил, уже не карабкался на пенный гребень новой волны, а только вытягивал руки и, оттолкнувшись ногами, с болью в груди пронзал насквозь ее основание. Все труднее становилось подлаживать ритм своих потерявших уверенность движений под ритм мятущейся стихии, и вода, то и дело резко плескавшая в лицо, подчас заставляла на вдохе захлебываться и почти терять сознание. «Не останавливаться! – командно начинало звучать в голове у человека, переходя в молитвенное: – Только ни за что, ни за что, ни за что не останавливаться!» Чудак жадно открывал рот, но воздух едва-едва успевал проникать в легкие, но от холода стягивало кожу по всему телу и сводило пальцы на руках, но задеревеневшие ноги постепенно сделались совсем неощутимыми и лишь с трудом подгибались теперь в коленях.
Что и говорить, родина отнюдь не с материнской нежностью встречала выросшего на чужбине сына: более того, еще немного – и возвратные волны, казалось, подхватывая, цепко на мгновение-другое обнимая и передавая ночного пловца друг дружке, начнут отбрасывать его назад, все дальше и дальше относя от берега в открытое море. Родина как бы вторично отторгала его – и, упрямо посылая тело вперед, Чудак уже явственно ощущал почти очеловеченные и плотность, и сопротивляемость, и неподатливость теперь даже не рассекаемой или раздвигаемой им, а словно бы раздираемой массы воды. Пытаясь выполнить очередной гребок классического брасса, руки молодого разведчика шли не по кратчайшей прямой к туловищу, а безвольно выписывали в пене, будто в неподатливом снежном сугробе, кривые и ломаные линии…
– Как с Циркачом-то пообщались?
– Нормально. По-цирковому. До сих пор жалею, что не врезал ему разок промеж глаз ради приятной встречи.
– Ну, хоть тут по-прежнему все в порядке. Знаешь, в центре считают, что ваша обоюдная любовь на пользу делу. Так чем он, значит, тебе на сей раз не потрафил?
– Скоро самого себя подозревать начнет. А там и до чистого провокаторства один только шаг. Лавры Азефа не дают, видать, покоя…
– Не скажи. Азеф ведь еще и предательствовал.
…Тогда в черном и на сто голосов ревущем мраке последние триста метров, остававшихся до суши, Чудак одолевал по-собачьи, чувствуя, что, позволив себе опустить голову под воду, он уже не сможет поднять ее над поверхностью вновь. На расстоянии вроде бы лишь вытянутой руки от берега ему, наконец, удалось, став на носки, коснуться ими скользкого, каменистого дна и, подпрыгивая на волнах, различить (вот повезло так повезло, хотя насчет вытянутой руки ошибочка вышла) сутулую и неподвижную фигуру Говоруна в ночной тени скального обрыва. Надеяться на помощь встречающего не приходилось, и Чудак, в последний раз хлебнув пенной горечи, оттолкнулся от ускользающего дна и вновь поплыл, беспорядочно дергаясь всем телом, поплыл и поплыл, пока не ощутил слизистые камни уже полной ступней.
Ей вещие тайны завещаны.
Подспудное въявь вынося,
Всеведенье любящей женщины
Всего достоверней и вся.
И сам обречен ей открыться я,
И ты, и мужской наш азарт.
Тут что? Колдовство? Интуиция?
Расклад прапрабабкиных карт?
Сверхдиво сверхдевы на выданье?
Безбожная ведьмина кровь?
Предчувствие? Дар ясновиденья?
Незнание? Просто любовь?
Танцы, танцы, танцы – популярнейший (возможно, потому что чуть ли не единственный, не считая самодеятельности да пьянок с драками и лекций с шутливыми вопросами из зала) вид досуга трудовой и учащейся советской молодежи. Танцы, танцы, чье высокое положение было достигнуто при деспотичном Сталине и еще более укрепилось при демократичном Хрущеве: особых изменений – как вообще, так и в частности – в стране победившего социализма что-то не наблюдалось.
– Кого ты там разглядываешь, Ленка?
– Отстань.
– Ну, я же вижу, – не унималась дотошная подруга. – Ты кого-то там разглядываешь за окном.
– Господи! Есть ли на свете такие люди, которые не обязаны ежеминутно давать кому-то отчет в каждом своем шаге или жесте! Ну, кого я там могу разглядывать? Кого? Свое собственное отражение я разглядываю в стекле…
– Orol Любопытное собственное отражение. И даже, гляди-ка ты, двойное. И, судя по всему, уверенное в том, что ни Елена Меркулова, ни кто-либо другой не ведет за ним постоянного наблюдения.
– Слушай, отойди от окна, по-хорошему тебя прошу.
– Все, молчу. Могила. Одинокий холмик под крестом. Нет, а правда, Ленка, с кем это наш Ломунов там, снаружи, ругается? И что у того рябоватого с плечами?
– Зрение у тебя прямо-таки кошачье. Но вернее было бы спросить, что у того сутуловатого с лицом? Хотя так или сяк, а действительно, в честь чего это они завелись там с пол-оборота? Еще до танцев забуксовали!
– Ты, Ленка, совсем уже перешла на шоферской жаргон, – подруга усмехнулась и прислонилась спиной к штабелю желтых бумажных мешков. – Грубеем мы в массе своей быстро и незаметно, а вот женственными становимся выборочно и в таких муках, что…
В тот же самый день, но уже под вечер, Лена почти в упор столкнулась с Федором в тесном фойе местного клуба и вдруг почувствовала, что вроде бы ни с того ни с сего густо и горячо покраснела. А рассеянный от молодой беспечности шофер, вовсе и не заметив (или сделав вид, что не заметив) смущения девушки, буднично поздоровался с нею и, не задерживая шага, прошел прямо в зал со своими шумноватыми приятелями.
– Подумаешь, – вслух, но так, чтобы никто этого не слышал, самолюбиво отреагировала на такую сдержанную встречу девушка. – Не больно надо!
Она бестолково потолкалась по фойе, разыскивая кого-нибудь из подруг, но те, конечно, были уже в зале: раскрасневшиеся, возбужденные, похорошевшие девушки в легких и нарядных платьях кружились под звуки новомодной музыки, доносившиеся из четырех пропыленных колонок-усилителей, скользили по крашеным доскам пола в самоуверенных объятиях своих не слишком ловких, но лихих партнеров. Тут-то Михаил Ордынский то ли вырос как из-под земли, то ли словно с неба свалился, но, остановившись перед Леной, а сказать точнее, благоговейно замерев перед нею, произнес трагическим тоном с соответствующей жестикуляцией:
– Женщина, у меня нет слов! Ты само совершенство!
– Перестань.
– Нет, ты не Леночка – ты Елена Прекрасная!
– Не надоело заливать?
– Что за божественный слог! Под музыку его я любуюсь тобою так же, как ты любуешься, увы, другим.
Гибко и безошибочно лавируя, между танцующими парами, к ним приближался Федор: воротничок белой рубахи был выпущен из-под пиджака наружу, отчего лицо и шея парня – по контрасту – казались вовсе уж коричневыми от загара, а улыбка – как бы в тон тому воротничку – особенно белозубой, Подойдя, Федор сразу же заговорил о третьем, который при двоих всегда считается лишним, а этим третьим, мол, в данном случае является, что очевидно, не кто иной, как лично он сам – водитель первого класса Ф. Ломунов.
– Ну, знаешь, брат, с лишними-то оно как когда, – возразил Ордынский. – Иногда вроде бы лишними оказываются и второй, и четвертый в придачу к третьему. Только первый тут и остается в горделивом одиночестве…
– Что ты имеешь в виду?
– Что имею? Ну, к примеру, такой героический поступок, который не терпит даже имевшей место коллективности. Во имя советской Отчизны, конечно. Так, в бомбардировщике Николая Гастелло, да будет вам известно, находился не только он сам, прославленный повсеместно герой, но и еще три не менее беззаветных сокола. А именно: безвестные поныне Калинин, Скоробогатов и Бурдзенюк…
– Ну, ты даешь копоти! Вопрос о том, кому проводить домой девушку, вздергиваешь на уровень подвига со смертельным исходом. Итак, рисковать тут двоим смельчакам?..
– Одному и, в данном случае, – тебе. Поэтому я с вами обоими и прощаюсь на сегодня, – щелкнул одно временно зубами и пальцами Ордынский. – До лучших времен, когда мы окажемся ближе к коммунизму еще на несколько часов!
Только отойдя на достаточно приличное расстояние от освещенного клуба, Федор с вопросительной осторожностью взял-таки Леночку под руку. При этом он искоса через два шага на третий поглядывал да поглядывал на девушку, но та шла рядом так же раскованно и невозмутимо, правда, едва заметно улыбалась чему-то своему.
– Когда парень вот так молчит, – изрекла она, на конец, – это значит, что ему или смертельно скучно с красной девицей, или очень уж он застенчивый.
– Ну, меня-то как раз застенчивым не назовешь,
– Тогда тебе со мной просто скучно?
– И это тоже, ты сама знаешь, далеко от истины
– Сама я мало чего о тебе знаю. Вот скажи, родители у тебя есть?
– Чего нет, того нет!
– Не «чего», а «кого».
– Пусть будет «кого». Отец мой не выдержал голода и унижений и бросился на колючую проволоку в гитлеровском концлагере. А мать… Когда она вскоре за тем умерла, я еще пешком под стол ходил.
– Извини, пожалуйста. Я ведь не знала…
– Да-а. Поговорили.
– А все-таки хорошо, что поговорили, – Лена легонечко-прелегонечко, словно по остро отточенному лезвию, взад-вперед проводила кончиками пальцев по краю простенького полушалка, лежавшего у нее на плечах. – На «ты» поговорили. Не обижайся, Федя, но хотя ты сейчас по виду такой независимый, иногда кажется…
– Когда это – иногда?
– Да я же часто вижу тебя из окна конторы, когда твою машину загружают. Вот хоть сегодня видела, как стоял ты в одной своей гимнастерочке на сквозном ветру и, привалясь к радиатору, жевал черный хлеб. Все жевал и жевал…
– Ну, и что тут такого особенного?
– А ничего! Только жалко смотреть было!
Лена с неожиданной резкостью вырвала у парня свою руку и, не оглядываясь, побежала в сторону как бы специально кем-то загодя полуотворенной калитки. Чудак слышал, как шаги девушки сердито и торопливо простучали по дощатому крыльцу, а затем зажегся смягченный абажуром свет в одном из выходивших на улицу окон. Занавески на окне не были задернуты: девушка, не раздеваясь, стояла и дышала или даже дула на пальцы, которые Федор только что, надо полагать, слишком уж сильно сдавил, а потом она сдернула полушалок с плеч и, скорее всего, прямо в пальто села на стул или на застеленную кровать. Во всяком случае, за какими-то банками, куклами, а также свертками, наваленными между банками и куклами на подоконник, ее больше не стало видно.
Ты исподволь и понемногу, —
С учетом упорства и сил, —
Готовил судьбу свою к сроку.
Который теперь наступил.
Явился без всяких повесток
И тронул тебя за плечо.
Ты молод, отважен и дерзок –
Чего ж тебе надо еще?
Старо все вокруг, но и ново.
Мир в грохоте, но и в тиши.
Реки ж свое главное слово
И главное дело верши.
Временная перемычка своей бетонно-земляной неоднородностью заметно выделялась в гребне основной плотины, выглядела в ней чуждым вкраплением, до поры до часу отделяющим котлован от речного шлюза. Беда, как это часто бывает, подкралась вроде бы неожиданно: когда здесь вколачивали огромные сваи, никому и в голову не пришло, что созидательные удары по ним исподволь поспособствуют непрестаннофазрушительной работе воды.
– Шевелись! – и подгоняли шоферов, и взывали к ним все, кто находился тут к концу дня, когда река прорвалась между сваями и, все шире размывая поддавшуюся ей перемычку, вспененно устремилась вниз. – Опрокидывай песок вниз и газуй за новым!
– Чего газовать-то? Мартышкин труд!
– Конечно, мартышкин! Тут камень нужен!
Немолодой прораб в испачканном глиной плаще и с
красным от перевозбуждения лицом метался среди горячо дышавших и едва не сталкивавшихся между собой самосвалов. А те яростно и надсадно рычали, а те разворачивались и, подползая к перемычке задом, обрушивали вниз песок и землю, тут же уносимые водой меж свай, как между пальцами.
– Допрыгаешься под колесами! – крикнул Михаил Ордынский прорабу, распахнутый плащ которого пару сил на ветру и опасно увлекал своего хозяина к обрыву. – А то и сам заместо камня в перемычку ляжешь!
– Ох, да я не против – лишь бы напор сбить и удержать! А потому шевелись, ребята! Шевелись и выручай, милые!
Михаил ухитрился въехать на своем самосвале аж на саму перемычку, подал затем немного назад машину, до критического предела, – и в результате более чем удачно вывалил содержимое кузова в воду. Содержимое сие оказалось здоровенными глыбами известняка, но обезумевшая река снесла своим течением и его, этот известняк, продолжая рушить ненавистную преграду на своем издревле неизменном пути.
– Следующий давай! – проорал краснолицый прораб Ломунову. – Шевелись, милый, шевелись! Разворачивайся таким же макаром!
Федор мастерски подал свой самосвал почти вплотную к обрыву, вовремя тормознул, сделал долгий выдох, но все еще, сам не зная почему, медлил освободиться от каменного груза в кузове. Казалось, задние колеса машины сейчас выжидательно зависли в гибельной пустоте, а возбужденные лица людей, толпившихся неподалеку, их раскрытые в истошных криках рты и суматошно машущие руки приблизились, теснясь, к самой кабине, заслонив от водителя весь остальной мир. И еще почудилось, что совсем рядом, почти вплотную к лобовому стеклу, мелькнуло испуганное лицо Лены: девушка тоже что-то кричала, словно в танце, подпрыгивая перед машиной рядом с каким-то человеком, только что сорвавшим в отчаянье кепку и с маху шлепнувшим ее себе под ноги.
– Все сносит к чертям собачьим!
– И камень не держит!
. – Стихия, мать ее в душу и в печенку!
– Еще маленечко, Федя! – это уже командовал вскочивший на подножку и чуть ли не по пояс всунувшийся в кабину снаружи Ордынский. – Здесь нужно брать только лаской! Как с женщиной!
– А ну слезай! – рыкнул на него Федор, замахиваясь правой рукой. – Катись отсюда, говорю, вместе со своими сексуальными подсказками!
Может быть, в минуту смертельной опасности у кого-то перед глазами и проходит вся его прежняя жизнь, только у Чудака в эти рисковые мгновения все было по-другому. Не всю свою жизнь успел – сюжет за сюжетом – пересмотреть Федор, а только лишь бесконечные, родные ему с детства степные просторы, которые и раньше-то всегда (припоминаясь и кстати, и некстати) вызывали в его душе смешанное чувство восторга и растерянности перед ними. Действительно, где ты находишься во времени на данный момент и откуда ты сейчас выбрался сюда, на этот травянистый пригорок? Откуда? Да вроде бы оттуда, с той вон стороны, где в ста шагах уже мне, босоногому мальцу, и дороги не видно, где уже И слилась она с основным пространством, растворившись в нем доверчиво, естественно и как бы без следа.
– Что он делает, сумасшедший? – кажется, это кричал тот человек, который давеча, словно на базарных торгах, сорвал с себя кепку и хлопнул ею оземь. – Это же чистой воды самоубийство!
Машина медленно отползла от обрыва, затем развернулась, взяла разгон… Но не вспененная река, а бескрайняя степь раскинулась, как виделось это сейчас Чудаку, распростерлась перед ним на все четыре стороны света, и в полинявшем от зноя небе над ней (вон там, и вон там, и еще во-он там) медленно-медленно плывут, осторожно меняя свои внешние формы и очертания, кучевые, белесые облака. Сколько уже месяцев так вот маячат они в синеве, не принося хотя бы слепого недолгого дождя и наступающей за ним легкой прохлады? Долго ли еще томиться душе и взгляду в этом извечном однообразии равнины, ветров и солнца?
– Федя-я-я! Миленьки-и-ий! – это уже не выдерживает Лена, это уже кричит она – да не по-девичьи, а по-бабьи, а может, и по-вдовьи уже, вовсе уже по-дикому. – Фе-дя-я-я! Да-ты что-о-о!.. Федя-я-я!
В самую последнюю – рассчитанную им – секунду Чудак выбрался из кабины на левую сторону, утвердился на скользкой от глины подножке и, стиснув баранку правой рукой, не отпускал черного и подрагивавшего этого круга до тех пор, пока передние колеса самосвала не вырвались в пустоту. Так или не так учили его этому в спецшколе, правильно или не совсем правильно оттолкнулся он от подножки и прыгнул вниз, в воду, в падении продолжая видеть, как его машина грохнулась в прорыв перемычки, спасительно заклинив его собой.
– Русский камикадзе! – восхищенно орал молодой инженер, помогая Федору выбираться из воды на берег. – Циркач! Каскадер! Мы тебя к ордену, ешь твою корень, представим!
Инженер то и дело бросался к Федору, в очередной раз стараясь заключить его в свои не больно-то крутые объятия и расцеловать, и при этом перемежал по-школьному восторженные восклицания отборной производственной матерщиной. Кое-как отбившись от него, Чудак вернулся к перемычке и стал разглядывать свой покореженный грузовик, перегородивший промоину столь удачно, что вода через нее теперь почти уже и не просачивалась. По ту сторону машины несколько десятков человек лихорадочно набрасывало землю и щебенку лопатами, а целая толпа народу азартно теснилась вокруг – на подсменку.
– Согласно человеческой воле обыкновенная машина повторила подвиг Александра Матросова! – Раздвигая людей квадратными своими плечами, подошел к Ломунову начальник монтажного управления. – Но ты, герой, не вешай носа: вот только подведем сюда надежный пластырь – и сразу же вызволим твою героиню!
– А какой смысл ее оттуда вытаскивать?
– То есть что значит – какой?
– Так старая же у меня рухлядь была! А теперь-то
уж и вовсе…
– Ну ты, парень, даешь стране угля: мелкого, но до х…! Это же отныне не рухлядь и не просто изувеченная колымага, а, можно сказать, строительная реликвия!
Главный монтажник умудрялся курить свою размокшую папиросу и одновременно при этом широко улыбаться, а Федор стоял перед ним и тоже совмещал несовместимое: сохраняя этакий ухарский вид, размышлял о том, почему Елена не только не кинулась сюда тотчас же, но даже и теперь-то, когда волнения подулеглись, к нему – словно бы на глазах у всех воскресшему из мертвых – так и не подошла. Находясь все еще в центре всеобщего внимания, Ломунов видел ее боковым зрением: девушка стояла поодаль, стояла спиной к месту события и оживленно, может быть, даже слишком оживленно беседовала о чем-то с одной из своих подружек,








