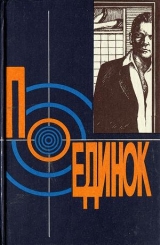
Текст книги "Поединок. Выпуск 18"
Автор книги: Франсуаза Саган
Соавторы: Эдуард Хруцкий,Анатолий Степанов,Анатолий Полянский,Кристиан Геерманн,Евгений Козловский,Владимир Савельев
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 57 страниц)
Весь день Загоруйкин ломал голову над тем, как отговорить братву. Он прекрасно понимал, что это не совсем безопасно. В компанию Антона не приглашали и, если поймут, что тот обо всем догадался, окончательно законспирируются.
Так и не придя ни к какому решению, Антон промаялся еще пару часов. Куда ни кинь, всюду клин. С тем и стал укладываться на ночлег. Но тут пришел охранник, злобно пнул ногой, заставив подняться с пола, и знаком приказал следовать за ним.
Пока шли через двор, Загоруйкин гадал, кому и зачем он понадобился на ночь глядя. Допрашивать вроде не о чем, в свое время выложил без утайки скудные познания о дислокации своего полка. Новых данных в плену не прибавилось. Вести душеспасительные беседы здесь не принято. Тогда что?.. Добра ждать от неурочного вызова не приходится. Да и место, куда привели, было не из приятных. В подвале канцелярии имелось несколько камер для допросов – самой недоброй славой пользовалась угловая, прозванная пленными пыточной. Жутковатый вид камеры с заблеванным полом, загаженными стенами подействовал на Антона угнетающе. Страх, многократно пережитый, сковал посильнее, чем кандалы.
Охранник ушел. Антон, съежившись, замер, прислушиваясь к тишине. Что на сей раз придумал Жаба? Старый, безнадежно больной, о Боге пора думать, а он, дерьмо собачье, молодых ребят на тот свет отправляет Господи, за что? За мечту красиво пожить наказываешь? Никакого просвета… Назад дорога заказана. Впереди ничего, ни-че-го…
Жалость к себе, к несостоявшейся судьбе повергла Загоруйкина в отчаяние. Потому и не заметил он, как в камеру проскользнул переводчик. В галошах, подвязанных к щиколоткам веревкой, тот ходил бесшумно, как кот.
– Привет, Антошка, – сказал Абдулло. – Бояться, не надо. Спокойно надо.
От неожиданности Загоруйкин вздрогнул, загремел цепями. С какой стати эта шмакодявка решила его, лихого одессита, поддерживать морально? Оба они гады, оба сдались в плен по собственной инициативе, но этот Абдулло еще и служить согласился преданно, по-собачьи. Антон же отказался.
В камеру вошел начальник тюрьмы, за ним тенью проследовали два бугая с ременными плетками у пояса. Тонкие ноздри Жабы нервно подрагивали, будто чуяли запах крови, – так по крайней мере Антону показалось.
Начальник тюрьмы в упор посмотрел на ставшего маленьким Загоруйкина, прикрыл выпирающие из орбит глаза толстыми веками, что-то отрывисто произнес.
– Господин начальник тобой совсем недоволен, – перевел Абдулло
– Почему? Я ничего не нарушал! – воскликнул Антон сразу осипшим голосом.
– Тебе хорошо делали? Так начальник спрашивает. Про твой плен никто не знает? На другого тень положили, а ты долг забывал.
– Какой долг?
– Ухо открыто держать. Стукач у нас называется, а тут – долг платить. Начальник надеялся – ты молчишь.
– Да какие могут быть у заключенных секреты? – взмолился Антон. – Разве что втихую жратву раздобыть…
– Начальник предупредил: говори правду, – продолжал переводить Абдулло. – Начальник знает, заключенные тайну имеют. Ты докладывал? Нет?
Похоже, Абдулло вел двойной допрос: один для себя, другой – для Жабы. Значит, пронюхал начальник о подготовке к побегу? Кто же продал? Если собака-переводчик, надо, пока не поздно, спасать шкуру. Но точно ничего неизвестно, а за неверную информацию шевелюру на прямой пробор не расчешут.
Антон открыл рот и вдруг в последний миг передумал. О чем шептались Абдулло с Яном? Почему Пушник оборвал разговор о переводчике? А вдруг этот кривоногий среднеазиат в числе заговорщиков? Зря, что ли, сделал ему перед допросом туманное предостережение?.. Вот она – беда, не знаешь, куда податься, влип меж своих и чужих. И там, и тут запросто сгореть можно.
И Антон решил от откровений воздержаться. Решил выждать, поглядеть, как развернутся события.
– Что вы, господин начальник, Бог с вами, какие тайны! – горячо заговорил он. – Никто из заключенных ничего дурного и в мыслях не держит. Я бы наверняка знал… Для пленных, слава Богу, война кончилась, черт бы ее побрал. Да и о чем тут думать. Из вашей крепости и мышь не выскочит!
Жаба равнодушно скользнул взглядом по грязному лицу жалкого, дрожащего шурави.
– Начальник благодарит за мышь, – невозмутимо перевел Абдулло. – Однако вранье не любит. Камень с души велит снять. Обещает камень на шею повесить…
– Хоть убей, ничего не слыхал! – воскликнул Антон. – Так и скажи.
Мелькнула мысль, что Жаба сам, без подсказки, мог почуять неладное. Нюх у него, как у ищейки… Нет, лучше держаться нейтралитета.
Жаба, раздумывая об услышанном, качнулся с носков на пятки. Антон с трепетом ждал: поверит или нет? И поскольку начальник тюрьмы продолжал молчать, Загоруйкин в ужасе закричал:
– Я буду стараться. Буду доносить! Скажи ему, Абдулло, пусть не гневается…
Наконец Жаба заговорил. По интонации Антон понял, что на сей раз перетянул чашу весов. Пока. Но это далось дорогой ценой – обещание придется выполнять.
– Господин начальник верит тебе, – сообщил Абдулло. – Ты должен хорошо служить. А сейчас немного терпеть придется.
В тот же момент телохранители Жабы по его знаку схватили Антона сзади, повалили на пол. Тяжелые удары плетей обрушились на спину, рассекая кожу. Боль затуманила сознание. Извиваясь всем телом, Загоруйкин выл, рычал, хрипел…
Резкая команда прервала истязание так же внезапно, как начала. Антона рывком поставили на ноги. Он плохо соображал. Слова начальника тюрьмы, бесстрастно переводимые все тем же Абдулло, воспринимались с трудом. Оказывается, прибегнуть к крайним мерам было необходимо, чтобы подтвердить его преданность Советам и стойкость. Теперь доверие к Загоруйкину со стороны товарищей возрастет, и он сможет проникнуть в их намерения. Если, конечно, постарается. Иначе очень жаль, придется повторить встречу в… пыточной. Последнее слово Абдулло явно добавил от себя.
По знаку Жабы охранники подхватили Антона, потащили через двор. Бессильно болталась голова, перед глазами все плыло, но предстояло возвращение в камеру, и надо было заставить себя собраться с мыслями. В глубине души Загоруйкин понимал, что начальник тюрьмы в общем-то прав: других на допросах избивают, почему же делать исключение? Но было горько. Даже боль, разрывавшая тело, ни в какое сравнение не шла с чувством обиды и страшной безысходности. Загнали в угол, откуда нет возврата. Всякий там патриотизм, преданность Родине, чувство долга – пустое. Тешатся им столбовые крестьяне и пролетарии типа старлея и прапора. Но Антон из другой породы, другой группы крови. Он сдался сам, он перешел на сторону духов с открытым сердцем, потому что не хотел воевать, не желал убивать, а что в награду…
Едва добравшись до камеры, Загоруйкин со стоном рухнул на подстилку. И тотчас к нему подсел Ян.
– Здорово они тебя, – посочувствовал. – Вот нехристи! За что?
Вопрос показался подозрительным. Как то есть за что? Других почем зря лупят, а его за красивые глазки помилуют? На пуховики положат, марципанами кормить станут?
Он так и выкрикивал фразу за фразой, хрипло, с надрывом.
– Тихо, – сказал ошарашенный Полуян. – Я ж не хотел обидеть. Давай лучше подмогну. Подошел старлей, опустился на колено:
– Чего они от тебя добивались, Морячок? Поделил ся бы?
И этот туда же, подумал Загоруйкин, в душу лезет. Все сволочи. Подставят при первой возможности под петлю и не подавятся. Но отвечать что-то надо. Что?.. Выручил шум отодвигаемого на двери засова. В камеру вошел Абдулло, весело крикнул:
– Принимай пополнение, ребята.
Он отстранился, пропуская пятерых, одетых в такие же, как у остальных заключенных, дурацкие балахоны. Парни робко остановились у решетки. В тусклом свете запыленной лампочки вновь прибывшие смотрелись на одно лицо. Один, тонкошеий, наголо остриженный, выглядел и вовсе пацаном.
– Здоровеньки булы! – сказал Полуян, всматриваясь в мальчишку. И вдруг вскочил, сдавленно произнес: – Сашок… Выркович… Не может быть!
– Мамочка! Товарищ сержант! Вы живой?
Полуян прижал парнишку к широкой груди. Он поглаживал судорожно дергающиеся плечи и, похоже, сам готов был разрыдаться. Об Антоне забыли, внимание переключилось на новичков.
5
Рядовой Выркович Александр Павлович, стрелок 177-й мер, 1967 года рождения, белорус, призван Витебским РВК, захвачен в плен в районе населенного пункта Анава 8 марта 1985 года.
Наутро новичков повели в кузню. Ритуал с надеванием браслетов – так ласково именовал кандалы Абдулло – проходил спокойно. Присутствие начальника тюрьмы обеспечивало порядок, беспрекословное повиновение. Он стоял неподалеку от кузни, привычно перекатываясь с пятки на носок, но казалось, будто не Жаба, земля под ним плавно пружинит, а человек неподвижен. Как неподвижно лицо и прозрачно-водянистые глаза-шары.
Кузнец с азартом делал свое черное дело. Двое прибывших с Вырковичем афганцев уже громыхали цепями, ожесточенно дергая руками, примеряясь к новым амплитудам движения ног.
Накануне Полуян о чем-то пошептался с Абдулло, и тот, поколебавшись, согласно кивнул. «Мерзкий тип, – подумал Выркович, – и рожа мерзкая. По ней будто проехал асфальтовый каток, сплюснув подбородок, нос, губы, надбровные дуги, отчего скулы, раздавшись вширь, остро выперли в стороны».
– Кто это, товарищ сержант? – спросил Выркович, Почему он ведет себя иначе, чем остальные?
– Не суди по первому впечатлению, Сашок. Абдулло; конечно, дермяк, но человек мне и тебе полезный.
Выркович вопросительно посмотрел на Полуяна, но выспрашивать побоялся. С момента появления в камере парнишка не отходил от сержанта ни на шаг. Вот ведь как повезло – встретить человека, которого знал по той, прекрасной прежней жизни. То была единственная родная душа. За полтора месяца скитаний в плену – единственная. И раз сержант сказал, что Абдулло – человек нужный, то Выркович не станет ершиться. Он с детства усек: старших лучше слушаться, перечить – себе дороже. А поступать?.. Поступать, если удается, можно вопреки. Выркович и в армии потому сразу вышел в образцово-показательные, потому как не пререкался, лез из кожи вон, угождая отделенному…
Между тем Абдулло, сновавший челноком между кузней и Жабой, угодливо согнулся в поклоне перед начальником тюрьмы и, выпрямившись, указал на Вырковича Жаба едва заметно кивнул головой и пошел к канцелярии, бережно неся дряблое не по возрасту тело.
Подбежав к Вырковичу, Абдулло схватил парнишку за руку, подвел к охраннику и только тогда снизошел до объяснения:
– Начальник добрый сегодня. Повезло тебе. Сказал, сопляк ты для браслета. Нужник чистить будешь, пол мыть в канцелярии будешь…
Выркович от радости подпрыгнул. Черт с ним с нужником! Не переломится от работы. Мыл же за «дедов» и клозет, и казарму от края до края не один раз проползал? Зато руки-ноги свободны. Он уже успел заметить у пленных сбитые в кровь лодыжки и запястья – ужас! Но тут Выркович перехватил взгляды закованных товарищей, и его пронзила страшная мысль. Все в кандалах, а он, как тот Танкист, от которого шарахаются, как от прокаженного! Но ведь Танкист сам виноват. Танкист получил по заслугам. А рядовой Выркович ни в чем не провинился и поблажки для себя не просил…
Конвоир пребольно ткнул прикладом автомата в спину, и Сашок послушно побрел вслед за другими подальше от кузни, обуреваемый сомнениями. Чертов переводчик не зря, наверное, выхлопотал снисхождение. Вербует, что ли? Но зачем же делать это публично? Выставил перед товарищами белой вороной, кретин.
Из девятнадцатилетнего жизненного опыта Выркович извлек некоторые уроки, из которых один гласил – не высовываться. Задашь учительнице вопрос сверх программы, она тебе потом это на экзамене припомнит. Внесешь дельное предложение на собрании, тебя же осуществлять заставят. В армии рядовой Выркович сразу оценил лозунг «Инициатива наказуема!». И взял его на вооружение. Сиди, парнище, не рыпайся, пока жареный петух в зад не клюнул. Эту фразочку любил повторять отделенный в горном лагере, где Выркович проходил подготовку перед отправкой в Афган. Не потому ли отделенный всех провожал, а сам оставался на месте?
Полуян, которому Александр, вернувшись в камеру, пожаловался на переводчика, улыбнулся и сказал неожиданно:
– Обалдуй ты, парубок. При чем тут ворона – белая али в крапинку? Абдулло тебя от браслетов избавил и сам проверку на всхожесть прошел.
– А зачем ты его проверял? – неосторожно спросил Выркович.
– Заткнись, – спохватился Полуян. – Тоже мне Мегрэ. Отдыхай, самое пекло сейчас. Потом побалакаем.
Гигант потянулся, широко зевнул. В камере было как в парной. Ветер, дующий с юга, нес влажное дыхание океана. В полдень духота сгущалась, и ребята, истерзанные побоями, истощенные от убогой пищи, лежали в прострации до наступления вечерней прохлады.
– Слушай, Сашок, – шепнул Полуян, понизив голос, – ты ж теперь в неурочное время из тюрьмы выходить будешь. Соображаешь? Я тебе буду задания давать. Табачок мне нужен. Особый табачок… – Последнюю фразу он протянул, задумчиво почесывая ржавую щетину, густо облепившую подбородок и шею.
– Я все сделаю, товарищ сержант. Только в табаке не разбираюсь. У кого искать, научите, и какой сорт спрашивать…
– Ну, Сашок, ну недотепа. Не успел я в части из тебя дурь выбить. А здесь недосуг выбивать. Запомни для начала: не суй нос, куда не треба, бо прищемлют… Да не хмарься, не вздумай сырость разводить. Вода из тебя все едино потом выйдет. Отдыхай. Я тоже устал…
Сержант прислонился затылком к стене, закрыл глаза и впал в забытье. Спали, похоже, все, но тишины не было. И быть не могло. Один стонал, другой кричал, перемежая во сне мат с отрывистыми командами. Полуян всхрапывал, затихал, в груди у него булькало, словно кипела нерастраченная энергия.
Первая радость от встречи с сержантом у Вырковича схлынула, и Полуян начинал раздражать хамскими манерами, грубой силищей. Чтобы выжить в плену, конечно, все средства хороши, но не в ущерб же ближнему? Не собирается ли горилла-сержант на его тонкой шее в рай въехать? Наркоман чертов! Табачок ему доставай. А фигу не хочешь?..
Никто в жизни почему-то никогда не воспринимал Александра всерьез: ни родители, ни товарищи по школе. Из компании не прогоняли, но был он среди сверстников не своим. И девчонки не замечали, разве что Олеся в последний предармейский год. Но и она, пухленькая, голубоглазая, очень взрослая, относилась к Саше как к младшему братишке, малявке. Выркович не научился выпивать – душа не принимала. Пробовал курить – тошнило. Стыдно сознаться, но великовозрастный парень был страстным сластеной. Он любил буквально все – от карамели до бабулимых пирогов с яблоками. На этом и погорел…
Через две недели по прибытии в Афганистан роту, а которой служил Выркович, направили на боевые. До Анавы подбросили на броне, а дальше для захвата склада с оружием должен был состояться первый в жизни солдата марш-бросок в горы. После большого привала рота туда и ушла, только уже без него. Сгинул в зачуханном кишлаке рядовой Выркович. Духи скрутили его мгновенно и сразу утянули в «зеленку». Не зря мать так голосила подле военкомата, точно провожала сыночка не в армию, а на кладбище. Что бы ни говорили, а материнское предчувствие неистощимо. Как в воду глядела, родненькая… И отлучился-то от своих ненадолго. Рассчитывал в лавку сгонять, восточных сладостей накупить – и назад. Как раз накануне первую солдатскую получку инвалютой выдали. Слезы, конечно, но на рахат-лукум или нан хватало… Ротный, зануда, правда, строго-настрого предупреждал, чтоб не отлучались. Но старшие всегда на запреты горазды – это Сашок давно усвоил, и надо делать вид, будто беспрекословно подчиняешься. Делать вид – самая удобная форма поведения. Она дает внутреннюю свободу.
В первой лавчонке продавались шикарные побрякушки. Сашок решил к дембелю поднакопить деньжат и купить Олесе и маме бусы или сережки. Олеся добрая, ласковая. Когда уходил в армию, на проводах клятву дала, что ждать будет. А какие письма писала!
Долгих шесть месяцев, что их мурыжили в горном лагере, она здорово поддерживала. Очень трудно было привыкнуть к жесткому распорядку дня, к горным маршам, лазанью по крутизне. Гимнастерка от пота колом стояла. Ноги – в кровь… Дома-то лафа была: школа, киношка, дискотека. Уроками особенно не утруждался, все равно аттестат дадут. За маминой спиной от отцовского гнева спасался…
На нужный дукан Александр напал в конце улочки. Чего тут только не было: крученые кренделя, разноцветные сахарные палочки, пирожные под синей глазурью… Круглолицый, с двойным подбородком дуканщик, заметив, как загорелись при виде товара глаза у шурави, растаял в улыбке и знаками пригласил в глубь дома, всем видом обещая еще нечто сладчайшее. Саша, как завороженный, последовал за дуканщиком в устланную коврами комнату. И тут от стены отделились два бородатых типа с жуткими рожами. Они сунули ему в рот кляп, связали руки и погнали сквозь грязные пустынные дворы, перебрасывая через дувалы. Свои были рядом. И если бы только догадались… Лишь очутившись в «зеленке», Саша понял, что это конец, и заплакал…
Очнувшись, он провел рукой по щеке – она была мокрая. Заключенные перед выходом на прогулку собрались у решетки. Муэдзины уже прокричали призыв на молитву. Двор крепости опустел. Остались два вооруженных автоматами моджахеда: один кружил возле пленных, другой стоял на часах у приземистого строения с зарешеченными оконцами. На крыше возле пулеметной установки не было никого.
Погромыхивая цепями, пленные брели по кругу, лениво перебрасываясь словами. Люди уже изрядно надоели друг другу рассказами, правдивыми или придуманными, об обстоятельствах, при которых попали в Пакистан. Сил на проклятия тем, кто придумал войну, кто лишил молодости, любви, семьи, счастья, оставалось все меньше. Воспоминания о прошлом будоражили, но делиться ими не очень-то хотелось. Недоверие к случайным, хоть и своим, ребятам было главным препятствием к откровенности.
Выркович пристроился к Моряку. Тот был, пожалуй, самым болтливым, с удовольствием вспоминал Одессу, рассказывал о плаваниях в загранку, о портовых девочках фартовых. У Моряка было бурное прошлое. У Вырковича, кроме школы и Олеси, – ничего.
– Расскажи что-нибудь? – попросил Саша. – Скука скулы сводит.
Моряк язвительно хихикнул:
– Не тоскуй, малец. Сгуляешь разок в пыточную, вмиг скука пройдет.
– Злой ты, Моряк. Совсем одичал.
– Правильно заметил. Это я сейчас таким стал, здесь. А прежде лопухом был, вроде тебя. В армию служить, правда, не рвался, об иной планиде мечтал, но про интернациональный долг и бедных афганцев думал так, как в газетах писали.
– Я и сейчас так думаю, – возразил Выркович.
– Не придуряйся! Или уж так запудрили тебе мозги, что до сих пор ничего не понял? Ты ж стопроцентный оккупант. И убийца.
– Неправда. Я… я не убивал.
– Потому что не успел, руки окоротили. Да и какой из тебя стрелок.
– А присяга? Мы же солдаты.
Моряк поглядел на парнишку с сожалением, желчно усмехнулся:
– Блаженный или прикидываешься?.. Ну да черт с тобой. Лично я сыт всем по горло. И будь моя воля, я бы тех, кто эту кровавую баню затеял…
Подошел пленный из новичков, прибывших вместе с Вырковичем, – коренастый некрасивый парень с рябым лицом. По рассказу, служил он в радиолокационной роте. Был на «точке» в горах. Там его духи и достали. Продали властям всего-то за триста афганей.
– Покурить не найдется? – спросил Связист. Глаза его слезились, веки то и дело помаргивали. Лицо опухло от москитных укусов и походило на плохо надутый футбольный мяч. Эти твари донимали всех, особенно новичков, – привыкнуть европейцу к жалящим тропическим насекомым невозможно.
– Попроси чего полегче, – ответил Моряк, обрадовавшись новому собеседнику. – О табаке придется забыть. Тут ничем не разживешься. Порядки хуже, чем у фашистов.
– Заметил уже, – сказал Связист. – В банде и то лучше кормили.
– Бадабера – исправительная тюрьма, а не рай с гуриями. Сюда отправляют самых отпетых, для перевоспитания. И охраняют нас, как гарем великого султана. Я бы над воротами написал: оставь надежду всяк сюда входящий.
– Этот вон, наверное, уже оставил, – кивнул Связист на одиноко бредущую вдоль тюремной стены фигуру.
– Бог шельму метит, – процедил сквозь зубы Моряк и сплюнул под ноги.
– Откуда известно, что он предатель? – спросил Выркович. Несчастный вид Танкиста, превратившегося буквально в тень, вызывал острую жалость.
– Жаба в доверительной беседе сообщил, – хихикнул Моряк. – Но, если серьезно, то зря подачки не делают.
– На мне тоже кандалов нет, но это не значит…
– Не сравнивайся со всяким. Тебя по малолетству и хлипкости не заковали. Носом не вышел. А этого, – кивнул он в сторону Танкиста, – обозначили, чтобы всех оповестить.
В этот момент Танкист надрывно закашлялся. Содрогаясь, попытался опереться о стену, но не удержался и медленно сполз' на землю.
– Тебе плохо? – спросил подбежавший Выркович.
– Ничего, пройдет, – прохрипел Танкист, пытаясь справиться с приступом кашля. Кожа на лице была мертвенно-бледной, высохшей. Из глаз-щелочек бил угасающий жар.
Подошли несколько пленных, окружили.
– Эко его, беднягу, – сказал кто-то жалостливо. – Может, помочь чем?
– Отхлынь, ребята, – раздался резкий окрик Моряка. – Он же нас всех, сука, заложил!
Танкист вздрогнул, затравленно оглянулся. Взгляд стал жестким. Губы дрогнули, но не произнесли ни слова.
Послышался окрик охранника, приказывающий разойтись. Путаясь в цепях, пленные поспешили вернуться на протоптанную по кругу дорожку: кому охота получить прикладом по голове.
Солнце ушло за высокую стену крепости, и даже отблески его, заплутавшиеся в заснеженных горах, не попадали в оконце тюрьмы. Камера постепенно наполнялась сумерками, не принесшими ни малейшей прохлады. Весь день ветер дул с востока, навевая обжигающее дыхание тропических джунглей. Зной настолько раскалил землю, что она еще долго после конца дня источала удушливый жар.
Полуян сидел возле старшины и время от времени смачивал ему лоб водой, зачерпывая ее из глиняной миски. Днем Пушника в очередной раз таскали на допрос с пристрастием и принесли оттуда в беспамятстве.
Выркович подсел к сержанту, тихо спросил:
– Ну, как он?
– Плох, дальше некуда… Что там на воле? Добре сгулял?
– Танкист упал. Я помог ему встать.
– Загинается хлопед. Негоже его оставлять в одиночестве.
– Моряк его поносил, как последнюю дворнягу. А Связист усомнился…
– Правильно. Нам кучней держаться надо. Последнее дело в плену к своим пристебаться.
– Ты, Ян, большой, сильный. Ты все выдержишь, а если меня начнут пытать…
– Авось пронесет. А Связист, похоже, парень крепкий и дорого бы дал за обратный ход. Такой может нам сгодиться.
– Для чего?
– На всякий случай, – ушел от ответа Полуян.
– А когда бежать будем, ночью?.. Ночью лучше!
– Фу ты, бисова душа! – возмутился Полуян. – Вин вже кошелку собрал!
– Значит, я угадал?
– Логично мыслишь, парубок, но язык твой без костей большие опасения вызывает.
– Товарищ сержант, – взмолился Выркович. – Я за вас голову прозаложу, не дрогну.
– Пусть будет по-твоему, – сказал Полуян неохотно. – Завтра постарайся войти в контакт с афганцами, ну, с теми, что за решеткой.
– Зачем они нам?
– А кто с местным населением будет балакать?.. Одного человека покажу. Породистый такой, в летах. Его Акаром кличут.
– Если вы его знаете, может, он вам больше доверится? – опасливо спросил Выркович. Он уже пожалел, что втянулся в историю.
– Дюже габаритный я, внимание привлекаю. А ты ще пацан, подойдешь незаметно. Передашь Акару от Мишки привет и постарайся получить ответ. Сдается мне, афганец русский знает.
– Сделаю, как велишь, Ян. Ты, пожалуйста, доверяй мне. Пожалуйста…
Выркович преданно смотрел в мутные глаза сержанта, повторял, как заклинание, признания в любви, а сам думал: «Почему здесь никто никому, не верит? Каждый сам по себе. Людьми руководит какой-то утробный страх». Сашок о себе правду знает, но за других поручиться не может. Даже за сержанта, хоть и знаком по той, прежней жизни. И все же Полуян – единственная зацепка. Без него пропадешь. Не останется даже имени в памяти людей. До Вырковича ли, если об афганской войне даже в Союзе ничего не пишут. Столько ребят сгинуло, покалечено, а все секреты. Что ж говорить о пленных?
С такими мыслями Александр, добравшись до подстилки, стал засыпать. И снова увидел Олесю. Почему она стоит посреди заросшего бурьяном поля? Почему прощально машет рукой? В глазах-васильках тоска. Губы, как у старухи, скорбно поджаты. О чем она плачет, не раскрывая рта, – протяжно, приглушенно?.. Негромкий щемящий вой разрывал душу, неумолимо вползал в уши.
Александр привстал, прислушался, втайне надеясь, что плач приснился. Звуки шли из дальнего угла, где отдельно от всех лежал Танкист. Александр вскочил, подошел к нему. В блеклом свете лампочки увидел лицо, залитое слезами. Бесплотное тело Танкиста сотрясала мелкая дрожь.
– Ты что? – растерянно спросил Выркович, схватив Танкиста за плечо.
Тот разлепил веки, испуганно отшатнулся:
– Уйди. Не тронь…
– Может, надо чего? Так я…
– Сон привиделся, – ответил Танкист. – Страшный…
– Бывает. Мне тоже приснилось, будто с Олесей прощался. Олеся – подружка моя. И еще мама…
– А я сына видел, – признался Танкист.
– У тебя есть сын? Взрослый?
– Два годика было. Ходил уже. Смешной такой…
– Вернешься, в школу поведешь.
– Нет, – сказал Танкист и отвернулся.
– В школу теперь по новым правилам шестилеток принимают.
– Не увижу я его больше.
– Зря ты… – Выркович помолчал и, нарушив слово, данное Полуяну, шепнул: – Ребята побег организуют.
– Не выйдет, так и скажи прапору, – покачал головой Танкист. – Я трижды бежал. Последний раз пистолет добыл, почти до самой границы дошел…
– Ух ты, здорово! Как же снова влип?
– Так уж получилось. Мальчонку местного встретил. Черный, как головешка из потухшего костра. В драной одежонке. За спиной – вязанка хвороста, тяжелая… Мне бы придушить гаденыша, да рука не поднялась.
– Отпустил?
– Отпустил… на свою голову. А он в деревню побежал и тревогу поднял. Нет, не судьба видно.
– Ну и дурак. Я бы убил… Но ты не отчаивайся, – с наигранной бодростью сказал Выркович. – Еще поживем.
– А зачем? – обронил Танкист и надолго умолк. Потом, очнувшись, шепнул: – Ты иди… Еще твои увидит.
– Ты тоже наш.
– Не надо, – отмахнулся Танкист. И еще раз повторил. – Не надо. Ты иди… Пожалуйста.
Вернувшись на свое место, Сашок долго наблюдал за неподвижной сгорбленной фигурой с безжизненно поникшей головой. Потом все сдвоилось, расплылось: решетка, отделяющая камеру, почерневшие балки потолка, желтое пятно лампочки на обросшем паутиной шнуре.
Проспал-то вроде недолго и вдруг, словно током ударило. Скосил глаза и обмер. На продернутой сквозь прутья решетки веревке висел Танкист. Босые ноги подогнуты, голова свалилась к плечу, синяя шея вытянулась, как у куклы-марионетки.
Не помня себя от ужаса, Сашок дико закричал. Камера мгновенно ожила. Кто-то громко охнул, и наступила тишина. Подняв трясущиеся руки, Моряк стоял на коленях с раскрытым ртом, застывшим в немом крике. Вдруг он вскочил, бросился к Танкисту, обнял его ноги и заорал:
. – Ты что? Ты зачем, сволочь… Я же не хотел! Я не хотел!..
Оцепенение сковало обступивших повешенного пленных. Все много раз видели смерть. Их били, истязали тело и душу. Но в них стреляли враги. И они стреляли во врагов. А этот – сам…
Кто-то воскликнул: «Гляньте, братцы!» И все повернулись к стене, где углем, взятым, очевидно, возле кузни, было неровно выведено: «Не виноват, клянусь. Прощайте, ребя…»








