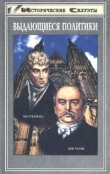Текст книги "История войн и военного искусства"
Автор книги: Франц Меринг
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)
V
Единственное заключение, которое можно вывести из происхождения Семилетней войны, очерченного здесь в общих штрихах, – это невозможность сказать, была ли эта война со стороны Пруссии оборонительной или наступательной. Из этого следует, что вопрос останется столь же нерешенным со стороны английской или французской, австрийской или русской.
Но к такому же отрицательному результату можно прийти, рассматривая, с точки зрения ее происхождения, любую другую войну. В конце концов придется всегда натолкнуться на сцепление условий, коренящихся более или менее глубоко в прошлом, которые никогда нельзя привести к ясной альтернативе: здесь нападающие, а здесь обороняющиеся, хотя бы в смысле доброго Шиллера:
Не может кроткий в мире жить,
Коль злой сосед того не хочет.
В истории дело происходит иначе, чем в детских букварях и плохих романах, знающих лишь блистательных героев и мрачных злодеев. Если классовое общество является системой, зависящей от божьей воли, как говорят нам высокие авторитеты, то Мольтке берет быка за рога совсем иначе, чем Шиллер, и говорит, что война является элементом божественного порядка, а вечный мир есть лишь мечта, и не всегда прекрасная.
В классовом обществе война регулирует в последней инстанции конфликты интересов различных наций или государств; в последней инстанции – это значит тогда, когда они обострились до такой степени, что уже невозможно никакое мирное соглашение. Открытие военных действий ни с того ни с сего, из-за каприза куртизанки, как сказал когда-то неосторожно Лассаль, или какого-нибудь подобного пустяка, также является рассуждением, допустимым лишь в детских букварях. Ненасытные завоеватели, без конца глотающие земли и народы, так же правдоподобны, как сказочные людоеды. Если бы Наполеон действовал по своему желанию, то он не воевал бы в 1805 г. с Австрией и Россией, в 1806 г. – с Пруссией и Россией, в 1809 г. – с Австрией, а в 1812 г. – с Россией. Это наполовину признают теперь даже крупнейшие немецкие историки.
Капиталистическое общество, при всех своих недостатках и слабых сторонах, является продуктом истории, и, если вследствие этих недостатков и слабых сторон, оно не может отказаться от войн, необходимых для его развития, то все же его войны повинуются историческим законам. Они не ведутся ради забавы; этот ложный вывод делается часто потому, что кажется, что они возникают из ничтожных причин. Так, например, Семилетняя война – из-за нескольких выстрелов, раздавшихся во владениях североамериканских индейцев. Разве является прыжок серны причиной, из-за которой лавина с грохотом обрушивается в долины? Прежде чем обрушиться от малейшего толчка, вследствие своего собственного веса, снежные массы должны накопиться на склоне скалы. Для того чтобы искра зажгла пожар, она должна попасть в высоконагроможденный горючий материал. Или же, употребляя образ, данный Гете в одном из его поэтических произведений, «вода, находящаяся в сосуде на точке замерзания, превращается от малейшего сотрясения в твердый лед».
С этой точки зрения тотчас же выясняется тщетность всех попыток провести разницу между наступательной и оборонительной войной. При этом следует всегда отделять военную точку зрения от политической. С военной точки зрения нападение и защита являются ясными, точными и неотъемлемыми понятиями военного суждения; хотя они и не отделяются окончательно друг от друга, но постоянно переходят одно в другое, по известному выражению Гегеля, превращаются друг в друга. Защита является при этом или самой сильной, или самой слабой формой ведения войны: самой слабой, когда она ограничивается лишь собой и приводит в таком случае всегда к поражению; самой сильной, если она может в благоприятный момент перейти в нападение. Диалектическому взаимопоглощению нападения и защиты Клаузевиц посвящает значительную часть своего сочинения о войне.
С политической точки зрения нападение и защита являются совершенно расплывчатыми понятиями. Если войны представляют собой столкновение различных интересов, которые уже не могут быть устранены мирным путем, то историческая оценка их основывается на том, насколько победа тех или иных интересов благоприятствует историческому прогрессу, а не на случайных обстоятельствах, подобных тому, заставит ли прыжок серны упасть лавину на ту или другую сторону, и далеко не на том побочном обстоятельстве, какой именно дипломат сумеет лучше смешать карты в последний момент. Каждая из воюющих сторон утверждает в своем военном манифесте, что защищает свои святые права, и объявляет притязания на эти права другой воюющей стороны преступным нападением; каждая делает это с полной уверенностью в своих правах. Эта твердая уверенность может покоиться на ложных предпосылках, а потому задачей изучения войны является устранить ложные предпосылки и установить истинное положение вещей.
Было бы бессмысленно и нелепо разделять происходившие до сих пор войны по совершенно внешнему и случайному признаку на справедливые оборонительные войны и несправедливые наступательные.
Если это воззрение нельзя искоренить даже из среды социалистов, то объяснение этому можно найти лишь в том, что мы не смогли еще окончательно освободиться в вопросах войны от паутины буржуазного просвещения. Сам Маркс говорит в адресе, опубликованном Интернационалом 29 июля 1870 г., по поводу франко-прусской войны, как об «оборонительной войне», которую вели немцы. Правда, непосредственно за этим он присовокупляет перечень фактов, которые бросают на эту «оборонительную войну» своеобразный свет, но затем он снова говорит в том же документе о «симпатиях», которые якобы «вполне» заслужили немцы в этой «оборонительной войне против бонапартистского нападения». Теперь мы знаем, что дело обстояло совершенно иначе, чем это предполагал Маркс и чем он мог предполагать по всему тому, что было известно тогда. После всего того что мы знаем теперь, Бебель незадолго до своей смерти считал эту войну до такой степени наступательной войной, что даже высказал в своих записках сожаление, что он воздержался от голосования за первые военные кредиты в 1870 г. и не сказал «нет». К создавшемуся тогда положению придется еще вернуться, здесь же мы лишь скажем, что в 1870 г. столкнулись друг с другом два наступления, так что, если вообще можно употреблять понятия «нападение» и «защита», война 1870 г. как с немецкой, так и с французской стороны была одновременно войной оборонительной и войной наступательной.
Два года назад социал-демократическая пресса Германии поздравляла ландвер со 100-летием войны 1813 г. Война, в которой ландвер в то время участвовал, была, в строгом смысле этого слова, войной наступательной. Она началась предательством своих французских союзников Таурогенской конвенцией, которое французы рассматривают как беспримерную в истории измену; за конвенцией последовал целый ряд тайных предательских переговоров и, наконец, объявление войны Франции. Масштаб наступательной и оборонительной войн оказывается здесь так же непригодным, как и повсюду, где речь идет об исторической оценке войны.
Поэтому было положительно ошибкой со стороны Бебеля, когда он в 1907 г. заявил на Эссенском партийном съезде, что рабочий класс будет всегда принимать участие в оборонительной войне, и обосновал это свое мнение тем, что в каждом отдельном случае рабочие сумеют прекрасно разобраться, идет ли дело об оборонительной или о наступательной войне. Однако рабочие не могут этого сделать, так же как и все остальные люди, просто потому, что не существует твердых признаков, чтобы отличить войну наступательную от войны оборонительной. Мнение Бебеля было тотчас же опровергнуто как автором этих строк в лейпцигской «Фольксцейтунг», так и в «Нейе Цейт», но авторитет Бебеля был – на этот раз нужно сказать, к сожалению, – так велик, что его мнение сделалось в известной степени лозунгом для военной тактики партии, что, как это достаточно показал опыт последнего года, создало большую путаницу. Что бы ни говорили об участии рабочего класса в войнах, с противоположением наступательных и оборонительных войн должно быть отныне раз и навсегда покончено. Оно ровно ничего не объясняет и не только не бросает истинного света, но, наоборот, лишь вводит в заблуждение.
Несколько иначе, чем с оборонительно-наступательной войной, обстоит дело с войной завоевательной. Правильное понимание этого термина одинаково необходимо и возможно. По своей тенденции каждая война является войной завоевательной, так как каждая воюющая сторона стремится расширить свое владение за счет противника, т. е. пытается завоевать то, чем она до сих пор не обладала; это не всегда может проявиться в форме присоединения земель и подданных противника, но обыкновенно проявляется в этой форме.
Таким образом, если по своим тенденциям война является для каждой стороны завоевательной, то в действительности война не приводит ни к каким завоеваниям лишь в том случае, если обе стороны истощают друг друга до такой степени, что ни одна из них не может полностью подчинить противника своей воле, как это и было в Семилетнюю войну на европейском материке. Если же одна из сторон побеждает настолько, что может продиктовать своему противнику мирные условия, то она всегда сумеет в эти мирные условия вставить нужные ей завоевания. Распространенное представление, что государство, подвергнувшееся бесчестному нападению, должно, победоносно отразив врага, удовлетвориться этим, вложив меч в ножны с радостным сознанием, что оно с успехом выполнило свой долг, так же относится к области сказок. Такая война никогда не велась и никогда не будет вестись, по крайней мере пока существует классовое общество.
Из трудов старого Фрица можно составить краткую, но исчерпывающую характеристику завоевательных войн; он говорит в одном месте: «Новое завоевание какого-нибудь монарха не обогащает того государства, которым он уже владеет, народы не получают от этого никакой пользы, и сам монарх ошибается, если думает, что будет счастливее после этого». Это философская сторона вопроса. Но в другой раз, когда король касается его политической стороны, он говорит: «Часто хвастаются возвышенными чувствами. Всякая война, не ведущая к завоеваниям, ослабляет победителя и обессиливает государство. Никогда не следует начинать враждебные действия, если не имеешь твердых видов на завоевания». В своем политическом завещании 1752 г. король соединяет политическую и практическую точки зрения. Он заявляет: «Маккиавелли пишет, что бескорыстная держава, находящаяся среди корыстных держав, неизбежно должна погибнуть; мне это очень не нравится, но должен сознаться, что Маккиавелли прав». Тщетно разыскивали это выражение у Маккиавелли, но оно, во всяком случае, вполне соответствует его духу и духу того государственного разума, который водворился вместе с капиталистическим способом производства.
100 лет спустя после Маккиавелли один публицист из школы Ришелье рассуждал: «Правила Маккиавелли так же стары, как время и государства. Он не говорит ничего особенного и ничего нового, он рассказывает лишь то, что делали те, кто жил раньше нас, и что делают теперь люди ради своей пользы или подчиняясь необходимости». А еще через 100 лет один публицист фридриховской школы писал: «В политике надо отказаться от тех отвлеченных идей, которые создают себе широкие массы о справедливости, законности, умеренности, искренности и подобных им добродетелях наций и их руководителей: все зависит от могущества». В прошлом были куда откровеннее, чем сейчас.
Сейчас во всех военных манифестах воюющих держав можно найти наряду с уверениями этих держав, что они ведут лишь оборонительную войну, и отрицание всяких завоевательных планов. Однако это лишь façon de parler, как говорил Ла-Метр, когда в предсмертной агонии у него вырвался возглас: «Иисус-Мария!» и присутствовавший пастор попытался, воспользовавшись этим, возвратить его к христианской вере. В тронной речи, которой был открыт в 1870 г. северо-германский рейхстаг, стояло дословно следующее: «Немецкий и французский народы, одинаково вкусившие от даров христианской нравственности и возрастающего благополучия и одинаково стремящиеся к ним, предназначены для мирной борьбы, а не для кровавых схваток с оружием в руках, однако повелители Франции умело использовали своим рассчитанно-лживым поведением справедливое и легкораздражимое чувство собственного достоинства этого великого соседнего нам народа для удовлетворения своих личных интересов и страстей». Поэтому тронная речь объявляла войну не французской нации, а правительству французского императора.
Когда затем немецкие войска перешли французскую границу, прусский король выпустил «прокламации к французскому народу», где значилось: «После того как император Наполеон напал на суше и на море на немецкую нацию, стремящуюся и до сих пор желающую жить в мире с французским народом, я отдал приказ немецким армиям отразить это нападение и по ходу военных событий был вынужден перейти границы Франции. Я веду войну с французскими солдатами, а не с гражданами Франции. Последние и впредь могут пользоваться полной безопасностью своей личности и имущества».
Однако, после того как «правительство французского императора» было свергнуто и «граждане Франции» объявили себя готовыми пойти навстречу мирным стремлениям немецкой нации и даже предлагали самым щедрым образом возместить все ее военные издержки, прусское правительство отклонило (смотри полуофициальную «Провинциальную корреспонденцию» от 14 сентября 1870 г.) это предложение как «наивное требование» и пыталось путем действительно головоломной софистики доказать, что приведенные выше заявления прусского короля имели совсем не то значение, какое прочел в них весь свет, т. е. отказ от завоеваний.
В этом, однако, ни в коем случае нельзя видеть умышленный обман со стороны отдельных лиц. Бисмарк не был ни колониальным, ни завоевательным политиком, по крайней мере в том смысле, что завоевания не были сами по себе его целью. Самое большее, они были средством для его политических целей, и как в 1866, так и в 1871 г. он горячо боролся с военной партией, чтобы по возможности ограничить аннексии. Между ним и Мольтке возникла из-за этого непримиримая вражда; в то время как в «Истории франко-прусской войны» Мольтке ни разу не упоминает имени Бисмарка, воспоминания Бисмарка полны недоброжелательных выражений о «военных». Из продолжительных отголосков этой борьбы можно заключить, какой остроты она достигала. Однако, несмотря на всю власть, какой обладали до Бисмарка и после Бисмарка прусские министры, Бисмарк не мог добиться своего. При аннексии Эльзас-Лотарингии границы были углублены в сторону Франции значительно больше, чем этого хотел Бисмарк.
Если мы предположим, что руководящий министр воюющей державы действительно не хотел бы делать никаких завоеваний и какая-нибудь партия давала бы свое согласие на военные кредиты, при условии, что не будет сделано никаких завоеваний, то он должен был бы ответить, как порядочный человек: если война останется нерешительной, мы не сделаем никаких завоеваний; еще менее сделаем мы их, если нас побьют; но на случай, если мы победим, я не могу дать никаких обязательств. Победившее войско никогда не откажется от завоеваний. Может быть, это и неприятное обстоятельство, но при всех своих ужасах война всегда мыслит радикально, и если ей протянуть не руку, а только мизинец, она всегда попытается проделать известный неприятный опыт.
Или придется в одно прекрасное утро встать обеими ногами на почву буржуазного общества, или же придется испускать унылые, совсем не приличествующие политическому деятелю жалобы на то, что дело получило совсем другой оборот, чем думали, надеялись и желали.
VI
В буржуазных исторических сочинениях издавна ведется спор, определяет ли внешняя политика какого-нибудь государства его внутреннюю политику, или наоборот. Ранке и его школа утверждают, что внешняя политика является лейтмотивом в историческом развитии; эту свою мудрость они черпали главным образом из дипломатических донесений.
Несколько иначе смотрят на это те буржуазные историки, которые согласны с мнением старого Фрица, что дипломатические переговоры, не поддержанные оружием, так мало значат, как ноты без инструментов. Внешнюю политику нельзя делать без войска, а военная организация той или иной нации коренится целиком на внутреннем ее состоянии. От него же зависит, в конце концов, и внешняя ее политика.
Эта зависимость не ограничивается лишь средствами, но распространяется и на цели внешней политики, или, вернее, на ее пути, так как укрепление и расширение своей силы является целью всякого государства. По широко распространенному, если даже не слишком понятному выражению, принято различать кабинетные войны XVIII от народных войн XIX столетия. Если и те и другие определялись внутренней политикой государств, то со своей стороны, они, понятно, также влияли на внутреннюю политику. Взаимное влияние внешней и внутренней политики так же неоспоримо, как неверно представление, что в конце концов решающий толчок дает внешняя политика.
Семилетнюю войну принято считать последней кабинетной войной. Клаузевиц излагает это таким образом: «Кабинет смотрел на себя, как на владельца и распорядителя больших имений, которые он постоянно старался приумножить, но подданные этих имений не могли иметь к такого рода расширениям никаких интересов. В такой мере, в какой правительство отделяло себя от народа, считая себя государством, война была лишь делом правительства, которое вело ее при помощи имеющихся в его сундуках талеров и праздных бродяг в своих и соседних провинциях».

К. Клаузевиц. 1812 г.
Это описание особенно подходит к прусскому государству, где отделение войска от народа проводилось так резко, что правительство под страхом строгого наказания запрещало гражданам осажденных городов браться за оружие для защиты собственных домов и считало крестьян мятежниками, если они брались за цепы и вилы для защиты своих дворов от разграбления, а своих дочерей – от насилий нападавшего на них врага.
Как ни великолепно характеризует Клаузевиц кабинетные войны, он указывает лишь внешние признаки их, а не исторические их причины; эти войны относились к известному периоду в истории капитала – к периоду, когда капиталистический способ производства создавал новейший абсолютизм как надежнейшее орудие для осуществления своих потребностей к расширению. Все государства, принимавшие участие в Семилетней войне, были абсолютными монархиями, хотя английский абсолютизм и был при этом ограничен развращенным парламентом, а австрийский – сословиями отдельных коронных земель. В существенном задача кабинетов сводилась к осуществлению расширительных стремлений капитала.
Кабинетные войны, по Клаузевицу, уступили место народным, происхождение которых он относит к 1789 г. Кабинетные войны представляли собой «ограниченную, скрытую форму войны», а затем война вдруг снова сделалась делом народа, и народа, насчитывавшего 30 000 000 чел., считавших себя «гражданами». «Со времени участия народа в войне на чаше весов оказался уже не кабинет со своим войском, но весь народ». Клаузевиц обладал достаточно широким историческим кругозором, чтобы не признать, что «этот замечательный переворот в военном искусстве Европы, это разительное действие Французской революции на окружающее коренилось не столько в новых взглядах французов на ведение войны, сколько во внутренних изменениях французского государства», в совершенно изменившихся методах государственного управления, в характере правительства, состоянии народа и т. д. Однако «ближайшие причины» остались ему неясны. Он предпочел «не останавливаться на них» и говорить лучше об их «результатах».
В настоящее время эти «ближайшие причины» вполне ясны. Хотя современный абсолютизм был первой государственной формой капиталистического развития, но он еще содержал в себе массу феодальных черт, которые он должен был устранить, как только капиталистическое производство настолько подвинулось вперед, что стало видеть в них помеху для своего развития. Напряжение этих противоречий сильнее всего проявилось во Франции, тогда как в Англии не было такого сильного гнета феодальных пережитков, а в государствах материка не развились еще так мощно производительные силы капитала, как во Франции. Исторический смысл Французской революции состоял в том, что «третье сословие», или буржуазия, как мы говорим теперь, являвшаяся носительницей силы капитала, сбросила невыносимую для нее опеку абсолютизма и принялась перестраивать мир по своему подобию. Ее представление о себе, как о народе, относится к иллюзиям, неизбежным при всякой революционной борьбе, и для ее победоносного окончания, в известном смысле, даже необходимым. И, право, вполне логично, что новейшие историки-философы, видящие главную цель человечества в освобождении от всех иллюзий, считают отказ от революционной борьбы радикальнейшим для себя средством исцеления. Человека, находящегося во власти заблуждений, легче всего излечить от этого несчастья, отрубив ему голову, в которой сидят его заблуждения.
Полнейший переворот, совершенный революцией во французском государстве, изменил и его военную организацию. Нас интересуют как раз, в противоположность Клаузевицу, не «результаты», но «ближайшие причины», вопрос о том, как возникли из революции революционные войны 1792–1815 гг. По этому вопросу существует обширная литература, в которой на все лады обсуждается вопрос об оборонительной и наступательной войне. Однако здесь этот масштаб, как и везде, не годится.
Вовне революция началась совершенно мирно, не только вследствие своих иллюзий открыть миру 100 лет всеобщего блаженства, но и по совершенно практическим соображениям, что до тех пор, пока она не имеет твердой почвы под ногами, внешняя война могла бы лишь снова укрепить расшатанную власть короля. Когда в 1790 г. в одном колониальном столкновении – в споре Англии и Испании за Нутказунд – явилась снова опасность европейской войны и французская монархия стала раздувать огонь, чтобы сварить на нем свой суп, Национальное собрание лишило ее, по страстному требованию якобинцев – Барнава, Петиона и Робеспьера, – права решать вопросы войны и мира, чтобы помешать ей затеять эту войну. Национальное собрание сделало это, несмотря на упорное сопротивление подкупленного двором Мирабо. С другой стороны, и европейские монархи рассматривали сначала Французскую революцию с близорукой и своекорыстной точки зрения, радуясь, что она ослабит могущество сильнейшего их соперника – французского короля. Австрийский император остался глух к мольбам о помощи французской королевы, своей родной сестры, а прусский посол в Париже получил инструкцию от своего правительства завязать дружеские отношения с якобинцами; Петион получил от него официальный материал для предъявления его в совещании Национального собрания, лишившем французскую монархию права решать вопросы войны и мира.
Лишь постепенно создались различные недоразумения, в которых главная вина падала преимущественно на немецкую сторону. При завоевании Эльзаса Франция сохранила за немецкими духовными и светскими владельцами, находившимися в этой провинции, их феодальные права. Но когда они, несмотря на вознаграждение, предлагавшееся им, захотели добиться и от Национального собрания сохранения их феодальных прав, после того как оно очистило всю страну от феодальной нечисти, это было лишь жалкое сопротивление варварства цивилизации. То же самое можно сказать и про поддержку, которую духовные князья Рейна оказывали французской эмигрантской сволочи в ее изменнических интригах. Но рассмотрение этих подробностей завело бы нас слишком далеко; решающее значение имели, наконец, и те большие исторические противоречия, которые там и здесь наталкивались друг на друга и не могли быть разрешены мирным путем.
Освободительное законодательство Французской революции действовало возбуждающим и пробуждающим образом на окружавшие Францию истощенные и угнетенные страны, правительства которых постепенно достигали той мудрости, доведенной впоследствии Меттернихом до безрассудства, что, если хочешь спасти от огня свой дом, надо тушить огонь в доме своего соседа; изменнические подстрекательства французской королевской четы находили постепенно все большую благосклонность у императора, и особенно у прусского короля, а поэтому тем более были заслужены те унижения, которым подвергла революция эту чету как раз за эти ее подстрекательства.
С другой стороны, сама революция выступала все решительнее; чем глубже пускала она корни в почву Франции, тем более проявляла она себя как революция буржуазная. При новых выборах в сентябре 1791 г. кормило власти в Национальном собрании перешло к жирондистам, открыто написавшим на своих знаменах лозунг войны с заграницей. К нелепейшим выдумкам нашей буржуазной истории относится манера представлять жирондистов или как заядлых доктринеров, готовых ради республиканской формы правления зажечь мир со всех четырех концов, или же как мечтательных идеалистов, витавших в небесных сферах и умевших самое большее «бросать время от времени в кипящий поток революции благоухающие и сияющие всеми цветами радуги гирлянды красноречия…» Жирондисты были скорее крепко спаянной буржуазной партией, стремившейся к войне из-за капиталистической потребности в расширении; они связывали с этой возвышенной целью другую, еще более возвышенную цель – использовать как пушечное мясо для войны плебейские массы, помогавшие раньше буржуазии, но сделавшиеся для нее уже неудобными. Они воспользовались возраставшей дерзостью чужеземных государей, чтобы сыграть на национальном чувстве, и им удалось толкнуть законодательное собрание весной 1792 г. на объявление войны германскому императору. Если бы можно было предположить на этом основании, хотя бы чисто формально, что Германия вела оборонительную войну, то это мнение было бы самым решительным образом опровергнуто манифестом, с которым прусское войско вступило во Францию, тем знаменитым манифестом главнокомандующего, герцога Брауншвейгского, в котором последний объявил наступательную, завоевательную и опустошительную войну с таким откровенным бесстыдством, какого не наблюдалось в истории ни до этого, ни после этого.
Войны революции 1792–1815 гг. были поэтому революционными войнами и остались таковыми даже и тогда, когда революция создала себе в военной диктатуре Наполеона непобедимое оружие против целого света врагов. Но революция, проявлявшая себя в них, была революцией буржуазной. Она была в такой же степени борьбой с Англией за господство на мировом рынке, как и борьбой буржуазной цивилизации с феодальным варварством. Эта цель была, в общем, достигнута во время диктатуры Наполеона. С тех пор Франции уже не приходилось бояться континентальных держав, и она могла сосредоточить все свои силы на борьбе с Англией, со своей стороны вербовавшей при помощи золота континентальные державы в качестве своих вспомогательных войск для борьбы с Францией.
Франция не победила в этой борьбе с Англией, однако и не была в то же время побеждена в своих цивилизаторских войнах с феодальными континентальными державами. В этом не оставляет сомнений ни падение Наполеона, ни последовавшие за ним 15 лет бурбонской реставрации. Наполеон пал исключительно потому, что этого захотела французская буржуазия, которой наскучила его военная диктатура, являвшаяся лишь средством для ее целей. Ее сопротивление парализовало его силы во время решающей зимней кампании 1813–1814 гг. При напряжении сил, равном напряжению сил, проявленному в то же время Пруссией, Франция могла бы выставить еще миллион борцов, и 1/ 10, возможно, даже 1/ 5части этого было бы достаточно, чтобы обеспечить победу Наполеона; тогда, с границей по Рейну, Франция была бы все же могущественнее, чем до революции, и осталась бы, несомненно, самой сильной державой материка. Но военный гений был для французской буржуазии слишком ненадежным помещением капитала; она скорее была согласна допустить возвращение пустоголовых Бурбонов, с которыми она затем легко разделалась в июньскую революцию 1830 г.
Войны революции все же создали новую Европу. Если раньше думали, что это обошлось слишком дорогой ценой, то теперь думают об этом иначе. Из более чем 10 000 000 человеческих жизней, которых они стоили, по вычислениям Эрнста-Морица Арндта, при ближайшем рассмотрении на Францию падает лишь около 2 000 000, т. е. около четверти этого количества, а более точная статистика дала бы, возможно, еще меньшие цифры; войны революции на протяжении 23 лет даже в отдаленной степени не произвели таких опустошений и разрушений, как один год современной войны.
Их историческая необходимость подчеркивается с исключительной яркостью тем позором, который тяготеет на мире, заключенном Пруссией и Французской республикой в Базеле в 1795 г. Вряд ли найдется в истории революционных войн другой эпизод, по отношению к которому так же презрительно звучало бы единогласное суждение историков – от Ранке до Энгельса, – как по отношению к Базельскому миру и созданному им 10-летнему спокойствию в Северной Германии. При этом имело лишь побочное значение то обстоятельство, что Пруссия предала этим миром своих союзников и пожертвовала левым берегом Рейна. Лишь значительно позднее дошло до национального сознания, что Рейн «является немецкой рекой, а не немецкой границей». И так как в нужде не разбирают, Пруссия должна была заключить Базельский мир, потому что ее силы и средства были до такой степени истощены тремя походами, что она не могла уже продолжать военных действий. Она должна была оставить своих союзников, следуя указаниям прусского государственного разума, который Фридрих углубил в том смысле, что честность частного лица и честность монарха – две совершенно различные вещи. Частное лицо должно пожертвовать своим благом в пользу всего общества, монарх же, который должен всегда иметь в виду благо всего народа, должен пожертвовать собой и своими обязательствами, если они окажутся в противоречии с благом народа. «Мы зависим от наших средств и возможностей. Если наши интересы меняются, то должны измениться и наши союзы. Наше призвание – работать на благо наших подданных; поскольку, следовательно, мы усматриваем в каком-нибудь союзе опасность или риск для блага народа, мы должны лучше разорвать союз, чем принести вред этому последнему. Здесь монарх приносит себя в жертву благу своего народа». Следуя этому воззрению своего известного дядюшки, прусский король Фридрих-Вильгельм II мог сиять полным блеском мученичества, заключая мир в Базеле.