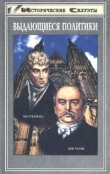Текст книги "История войн и военного искусства"
Автор книги: Франц Меринг
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
IV
Как всякая история, так точно история армий и войн представляет процесс непрерывного развития, в котором медленное движение чередуется с быстрыми переворотами. То, что эти перевороты безусловно находятся в теснейшей связи с переворотами в способах производства, стало давно общим местом даже в буржуазных исторических трудах. Но из этого далее следует положение, что в военной истории не может быть никаких непреодолимых противоречий. Так же милиция и постоянное войско не исключают друг друга, а одно переходит в другое. Боевым кличем: «Здесь милиция! Здесь постоянная армия!» – в общем, совершенно ничего не сказано. Всегда чрезвычайно важны исторические условия. Какой безнадежный сумбур получается у людей, желающих доказывать при всех условиях преимущество милиции перед постоянным войском, показывает сочинение господина Карла Блейбтрея [52]52
См. помещенную ниже статью Меринга «Пища для Молоха» – Ред.
[Закрыть] ужасающим, но совершенно убедительным образом.
Подобное же происходит при попытках раз и навсегда приписать постоянному войску преимущество перед милицией. Защитники постоянного войска, начиная с Вегеция, привыкли повторять: «Во всяком сражении не столько численность и необученная храбрость, сколько искусство и упражнение одерживают победу». Конечно, Вегеций не был великим мыслителем в военных вопросах. Он был компилятором, который из не дошедших до нас античных произведений о военном искусстве (он жил в V веке нашей эры) извлек и собрал то, что ему казалось наиболее ценным. Но в течение многих столетий, вплоть до наших дней, он считался авторитетом в этих вопросах, и приведенное нами выражение его в зародыше содержит то, что сторонники постоянного войска имеют обыкновение говорить в пользу этой системы.
К этому нужно добавить, что сказанное Вегецием о «каждом сражении» относится с таким же успехом к каждой кампании. Однако имеется достаточное количество сражений, в которых «численность и необученная храбрость» одержали победу над вымуштрованными солдатами. При всем своем беспощадно суровом приговоре добровольцам 1792 г. Карно все-таки заявляет, что ничто не в состоянии противодействовать их первому натиску. Также и Наполеон, несмотря на все свое преклонение перед старыми профессиональными солдатами, признавал, что с неопытными войсками можно брать самые сильные позиции. Он прибавлял только, что с такими войсками нельзя довести до конца план войны или же, как более точно выражено у Карно, нельзя с ними делать никаких завоеваний. Он боялся разложения таких войск после победы еще более, чем после поражения. Поэтому-то, желая приучить их к механическому повиновению, он сливал массы добровольцев со старыми полками.
Если считать, что строгая и суровая дисциплина составляет альфу и омегу каждой сколько-нибудь жизнеспособной военной системы, то этим никоим образом не сказано, что такая дисциплина является исключительно привилегией постоянного войска. И милиция может иметь хорошую дисциплину, даже такую, которая будет далеко превосходить дисциплину постоянного войска. Когда различие между милицией и постоянным войском видят в том, что в одном случае дисциплина основана на физическом воздействии, а в другом исчерпывается моральной областью, то это поверхностный взгляд. И постоянные войска могут быть воодушевлены высокими моральными чувствами, например, французские революционные войска или немецкая армия, сражавшаяся у Гравелота и Седана [53]53
Во время франко-прусской войны 1870 г. – Ред.
[Закрыть]. Даже старым наемным войскам не были чужды некоторые моральные качества: воинская доблесть, чувство солдатской чести и так далее. Несмотря на всю свою любовь к палке, даже старый Фриц не мог окончательно выбить этих качеств у своих солдат, и ост-эльбским юнкерам после его смерти понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы из армии, сражавшейся под Йеной в 1806 г., выколотить всякий след моральных чувств. В этом отношении прусские юнкеры имеют полное право на исторический патент, ибо подобного примера, кажется, не знает военная история.
С другой стороны, сразу становится ясным, что милиция, которая воодушевлена исключительно моральными чувствами, как бы ни были благородны и возвышенны эти чувства, в борьбе с обученными войсками с самого начала обречена на неудачу. И, напротив, самые выдающиеся, наиболее знаменитые исторические милиции, которые вызвали коренной переворот в области военного искусства, были лишены, по крайней мере в определенном смысле слова, каких бы то ни было моральных сил. Германцы, которые в Тевтобургском лесу уничтожили легионы Вара и после этого оказали непреодолимое сопротивление чрезвычайно тонкому и сложному организму римского войска, даже не числом, а только «необученной храбростью», были разбойники, варвары, так же, как средневековые швейцарцы, которые наголову разбили одну за другой несколько феодальных рыцарских армий.
Этим, конечно, не уменьшается значение моральных качеств для военного искусства. Этим только подчеркивается, что не в них заключается решающий элемент различия, существующего между милицией и постоянным войском. Он заключается скорее в характере дисциплины, которая в постоянном войске приобретается выучкой, а для милиции должна быть прирожденной, или, чтобы лучше объяснить это слово, могущее быть неправильно истолкованным, дается милиции с самого начала условиями жизни и работы ее личного состава. Дельбрюк в своей «Истории военного искусства» доказал, что именно эти качества делали германцев непобедимыми для римского войска, и еще до Дельбрюка наш старый товарищ Бюркли привел аналогичное доказательство по отношению к старым швейцарцам в их борьбе с феодальными рыцарскими армиями.
Если мы ограничимся промежутком времени от Великой французской революции до франко-прусской войны 1870–1871 гг., то мы заметим на первый взгляд совершенно непонятное, но с нашей точки зрения легко объяснимое обстоятельство, что милиция наиболее успешно проявляет себя при защите исторически отжившего строя. Наиболее блестящими страницами ее истории в этот период является крестьянское восстание в 1792 г. в Вандее и тирольское ополчение в 1809 г. Крестьяне феодальной Вандеи дрались несравненно лучше, чем дрались в то же время добровольцы республики, отзывы о военных качествах которых, данные Карно, мы привели выше. Милиция Вандеи и Тироля черпала свою силу из тесной сплоченности патриархальных отношений, внутри которых они жили; выходя за пределы этих условий, она теряла свои боевые качества. На несравненно более широкой арене защищали исторические пережитки испанские гверильясы, которые в конце концов так и не были побеждены французской постоянной армией, в значительной степени, правда, потому, что на стороне их сражались также постоянные войска – английские наемные войска, которые по своей организации принадлежали еще к армиям дореволюционного типа.
Если мы обратимся к милиционным армиям того периода, когда они создавались в исторически развитых условиях, – где капиталистический способ производства уже более или менее покончил со старыми патриархальными пережитками, – то прежде всего мы должны исключить из этих славных списков французских добровольцев 1792 г. и прусский ландвер 1813 г. Мы уже видели выше, что по отношению к ним обоим только в очень определенном и узком смысле слова можно говорить о милиции. Если теперь исключить такие карикатурные примеры, как берлинское городское ополчение 1848 г. или революционных борцов за имперскую конституцию в 1849 г., которые имели против себя вдобавок подавляющий перевес противника, то в качестве большого исторического примера для разрешения вопроса, который занимает нас сейчас, остается только милиция, созданная Гамбеттой на другой день после Седана и противопоставленная немецкой армии. Американская междоусобная война северных и южных штатов, чрезвычайно поучительная во всех отношениях, а также и в вопросе о милиции, должна быть нами сброшена со счета, ибо там милиция сражалась с обеих сторон. Для французской послеседанской милиции налицо были самые благоприятные условия. Она сражалась в защиту отечественной земли против постоянного войска, которое вело завоевательную войну, стало быть, при обстоятельствах, которые, по мнению Шарнгорста и его товарищей, делали милицию вполне приемлемой и необходимой. И даже прусская военная литература ни в коей мере не склонна оспаривать, что милиция Гамбетты имела исключительные достижения. Несмотря на это, она не могла помешать окончательной победе немецкой армии и еще раз только доказала то, что еще раньше говорили Карно и Наполеон: с милицией можно блестяще выиграть сражение, но нельзя предпринимать планомерные военные кампании.
Да будет нам позволено всю историческую условность противопоставления милиции постоянному войску пояснить на одном особенно ярком примере. Фельдмаршал фон дер Гольц, в настоящее время крупнейшее светило прусской армии, пытается оправдать юнкеров под Йеной следующими словами: «Войско, которое разбили французы при Йене в 1806 г., было то самое войско, которое самих французов разбило в 1757 г. при Росбахе». Ему уже было на это правильно отвечено, что именно поэтому оно вполне заслуживало быть разбитым. Но через какие-нибудь четверть года после битвы под Йеной с йенскими победителями в битве при Эйлау сражалась также русская армия, и по отношению к этой армии можно было также вполне справедливо сказать: «Русская армия, которая в 1807 г. остановила неудержимый победоносный напор наполеоновских войск, была та самая армия, которая в 1758 г. при Цорндорфе оказала столь же сильное сопротивление фридриховской армии».
Насколько различны были методы войны фридриховского и наполеоновского войска, настолько тождественна была тактика русских при Цорндорфе и при Эйлау. Массивные, чрезвычайно глубокие построения, поддержанные многочисленной артиллерией и укреплениями, чудовищные вследствие глубины построения потери, достигавшие в обоих названных нами боях почти половины армии, – но при всем этом в последнем счете оказывалось непреодолимое сопротивление. Сражение при Цорндорфе считается прусской военной историей победой Пруссии. Но, как часто бывает, о победе тут можно говорить только в очень ограниченном смысле. Великолепный образ этого сражения дал один современный дипломат, сравнивший его с сильной оплеухой, от которой человек «переворачивается кругом, но продолжает оставаться на ногах». Русские войска продолжали стоять, а король отступил, чтобы в следующем году от тех же самых русских потерпеть поражение при Куннерсдорфе – самое страшное поражение из испытанных прусской армией до Йены. Наполеон, извлек мудрый урок из опыта под Эйлау и заключил под его впечатлением Тильзитский мир, который в некотором роде, конечно, имел для него роковое значение.
В чем заключалась сила русского войска? Во всем, в чем французская армия в 1806 г. превосходила прусскую армию, она превосходила также и современную русскую армию. Кровавая дисциплина, позорное издевательство над солдатами, плохое вооружение и снабжение, подкупная и бестолковая администрация, бессмысленное увлечение парадами, помешательство на гвардии – все это находило себе место в русской армии в такой же мере, если не в большей, как в прусской, а неспособностью своих офицеров русская армия далеко превзошла даже свой прусский образец. В зимний поход 1806–1807 гг. русским главнокомандующим был фельдмаршал Каменский, в буквальном смысле слова безумный человек, который в один прекрасный день просто бежал с театра военных действий. Его преемником был генерал Бенигсен, командовавший при Эйлау. Своим местом он был обязан не военным талантам, которые у него полностью и целиком отсутствовали, но тому обстоятельству, что царь Александр боялся его как главного убийцы своего отца, царя Павла. Как мало русский генеральный штаб, если о таковом можно говорить, стоял на уровне современной стратегии и тактики, видно из того, что царь Александр принял генерала Пфуля, одного из главных виновников йенского разгрома, после сражения при Йене к себе на службу и держал его в качестве самого выдающегося специалиста до 1812 г.
Однако в одном существенном пункте русская армия отличалась в 1806 г. от прусской. В то время как эта последняя почти наполовину состояла из чужестранцев солдат, русская армия рекрутировалась из уроженцев страны. Было бы ошибочно делать отсюда вывод, что это было национальное войско, отличавшееся сильным национальным духом. Об армии, сражавшейся при Цорндорфе и Эйлау, говорит один русский военный писатель: «Русский не знает более ужасной участи, не представляет себе ничего более страшного, чем участь солдата… Самая страшная и самая действительная угроза, которой помещик пугал своих крепостных, была угроза сдачи в солдаты». Правительство не делало никакой тайны из того, какой суровой считало оно само участь солдат, наказывая 25-летней солдатской службой за самые тяжелые преступления. Так же, как и в прусском наемном войске, удлинение срока службы рассматривалось как тяжелое дисциплинарное наказание, ничем не отличавшееся от наказания шпицрутенами. Когда в сражении при Аустерлице один пехотный полк на глазах царя побежал, он был наказан тем, что всем солдатам срок службы был удлинен с 25 до 30 лет. За исключением одного Суворова, старая русская армия не выдвинула ни одного «национального героя», каких имела в довольно значительном количестве старая прусская армия в лице Дерфлингера, Шверина, Цитена, Зейдлица, Блюхера. Страшная тяжесть безволия, которую накладывала на русского солдата кровавая дисциплина на целые десятки лет, душила в нем все моральные побуждения, кроме одного.
Немецко-прусский писатель Бернгарди, который в своей чрезвычайно поучительной работе дает картину старого русского войска накануне Крымской войны, этой русской Йены, пишет, между прочим: «Господствующее настроение, в котором живет русский солдат, есть настроение беспрекословной молчаливой покорности. Он считает свою судьбу неизбежным роком, налагающим на него обязанность безусловного повиновения и заставляющим перед глазами своего начальства ничего не делать и не говорить, кроме того, что ему приказано. Он испытывает такое ощущение, как будто находится во власти какой-то безграничной могущественной силы, которая в последней и высшей инстанции исходит от царя… Однако есть представление, вытекающее из ближайших, понятных этому солдату отношений, которое играет господствующую роль в его психике и чрезвычайно легко, без всякого возбуждения извне проявляется наружу. Это представление о „наших“. Так называет солдат в узком смысле слова своих товарищей по полку, в широком смысле – все русское войско. Он считает большим позором и бесчестьем оставлять „наших“ в опасности и способен на самые большие жертвы по отношению к своим товарищам».
Энгельс объясняет причины того, что Бернгарди и другие знатоки русского войска признают за неоспоримый факт, следующим образом:
«Русский солдат обладает безусловно большой храбростью. Пока тактическое решение сражения заключалось в натиске больших сомкнутых пехотных масс, он был в своей стихии. Весь его жизненный опыт учил его держаться спаянно со своими товарищами. Полукоммунистическая еще община в деревне, товарищеская работа артели в городе – всюду круговая порука, взаимная связанность товарищей; он видел вокруг себя такой строй общества, который постоянно требует спайки и постоянно подчеркивает беспомощность отдельных индивидуумов, представленных собственной силе и собственной инициативе. Эта психология не оставляет русских и на военной службе. Массы батальонов невозможно рассеять. Чем больше опасность, тем сильнее спаянность отдельных групп». То, что Энгельс писал дальше относительно этого инстинкта, неоценимого еще в эпоху наполеоновских войн, но ставшего в настоящее время прямо вредным для русского войска, не имеет отношения к нашей теме. Я уже указывал на то, что Крымская война была Йеной старорусского войска. В данном случае нас интересует то, что в тот век, когда наполовину азиатское государство решительно вмешалось в европейскую жизнь, внутренней спайкой его войск была не дисциплина постоянного войска, а дисциплина милиции, та, которая вытекает из общности условий труда и жизни входящих в армию солдат. Эта спайка была настолько громадной силой, что чудовищный переворот военного искусства в конце XVIII столетия, который вдребезги разбил образцовую прусскую армию, для русской армии оказался почти нечувствительным.

Французская конница 1857 г.
Даже тогда, когда в русской армии дисциплина милиции сталкивалась с дисциплиной кнута, побеждала первая. Инстинкт спайки вел к тем сомкнутым массовым, необычайно глубоким построениям, которые причиняли тяжелые потери, вследствие чего с ними так жестоко боролись немецкие генералы русской армии, стремясь приспособить солдат то к фридриховской линейной тактике, то к наполеоновской тактике рассыпного строя, но всегда безуспешно. «Это удивительно и замечательно, – заявляет Бернгарди, – что солдаты испытывают какую-то нравственную необходимость в массовом построении». Он рассказывает о следующем эпизоде из русской военной истории:
«Во время штурма Варшавы в 1831 г. чувства подавленности и стыда, выражавшиеся под конец очень бурно, овладели всей гвардейской пехотой, которая здесь, как и в течение всего похода, во время боя, находилась в резерве. Гвардейские солдаты издали, так сказать на горизонте, наблюдали часть боя, слышали стрельбу и должны были оставаться бездеятельными. Как ни привыкли русские солдаты молчать, среди них там и сям стали раздаваться протестующие голоса: „Наши дерутся и проливают кровь, а нас здесь держат позади – стыдно“. Такими словами высказывалось растущее неудовольствие. Голоса становились настолько громкими, что было почти невозможно поддерживать спокойствие. Офицеры делали вид, что ничего не слышат. Это было единственное, что им оставалось делать».
Этот пример показывает полное бессилие даже развращающего гвардейского принципа перед дисциплиной милиции. Прусские гвардейцы в течение 1813 и 1814 гг. не проявляли ни малейшего недовольства, наблюдая из своего безопасного положения, как ландвер истекает кровью.
Однако достаточно исторических примеров. То, что мы хотели из них извлечь, заключается в следующем. Вопрос – милиция или постоянное войско? – есть вопрос военного устройства, а душой всякого военного устройства является дисциплина. Рассуждая абстрактно, мы можем сказать, что дисциплина милиции, поскольку она вытекает из условий жизни и работы, бесконечно выше, чем дисциплина постоянного войска, приобретаемая им путем выучки и муштровки, – настолько же выше, насколько жизнь выше школы. Ясно, что именно жизнь, а не школа, вырабатывает бойцов. Но предпосылками всякой милиции являются определенные условия жизни и работы, создающиеся историческим развитием. Там, где эти условия отсутствуют, милиция стоит настолько же ниже постоянного войска, насколько безграмотный в военном деле ниже примитивного стрелка.
Исторической задачей капиталистического способа производства было уничтожить те первоначальные общественные отношения, в которых сохранились остатки первобытного коммунизма, и рассеять массу, заставив отдельных ее представителей ежечасно конкурировать между собой в борьбе за существование. В результате этого распалось военное устройство, соответствовавшее разрушенным общественным отношениям. Но современные классовые государства, созданные капиталистическим способом производства, нуждаются в армиях еще в гораздо большей степени, чем государства, связанные с прежними общественными отношениями, на место которых они заступили; ибо сущность капиталистического государства основывается на принципе завоевания вовне и на принципе угнетения низших классов внутри. Так возникли постоянные армии, как орудия, выдрессированные в механическом послушании и каждую минуту готовые к тому, чтобы завоевывать вовне и угнетать внутри. Именно поэтому они быстрее и недвусмысленнее всего обнаружили, что современное классовое государство меньше всего может быть началом 1000-летнего царства мира и блаженства.
Буржуазные идеологи, которые уже давно выступили против постоянных армий, несмотря на свои совершенно справедливые обвинения, несмотря на все свои меткие насмешки, абсолютно не могли понять, что система постоянных войск неразрывно связана с определенными потребностями буржуазного развития. Они имели вообще чрезвычайно наивное представление о военном деле. Вольтер в одном месте писал: «Сначала вылетает пуля, затем порох дает вспышку». Другой раз он развеселил короля Фридриха вопросом: испытывает ли он во время сражений дикую ярость, а Фихте сам высмеял свои издевательства над маршировкой направо и налево и ружейными приемами, явившись в 1813 г. в шутовскую (фальстафовскую) гвардию Берлинского академического ландштурма со своим ржавым рыцарским копьем.
В сравнении с этими идеологами Карно и Шарнгорст отнюдь не были ограниченными солдафонами, но людьми с большим историческим кругозором, достаточно сведущими знатоками военного искусства, которые прекраснейшим образом могли бы доказать, если бы они дожили до настоящего времени, почему современное государство, государство классовое, не может жить без постоянных армий и почему в условиях этого современного классового государства милиция может играть только второстепенную, подсобную роль. Ограниченность этих людей заключалась только в том, что они не могли выйти за пределы горизонта своего времени и не могли понять преходящий характер классового государства.
Чем выше развивался капиталистический способ производства, тем сильней укреплялись государственные его формы, его завоевательные и угнетательские тенденции, тем сильней вырастали постоянные армии, становясь настолько ужасными бичами народов, что ни Фихте, ни Вольтер не могли предвидеть ничего подобного. И в такой же степени исчезла надежда на то, что, подобно тому, как римское профессиональное войско было разбито германцами, а средневековые рыцарские войска – швейцарцами, нынешние постоянные армии также найдут против себя непреодолимую силу, основывающуюся на дисциплине патриархальной милиции. Впрочем, еще бравые феодалы уже на заре Великой французской революции признавали, что варваров, которые внешне уничтожили античную цивилизацию, современная цивилизация воспитывает в своей собственной среде. Другими словами, капиталистический способ производства создает в лице нынешнего рабочего движения первую предпосылку милиции, которая на несравненно высшей ступени восстановит дисциплину примитивных общественных отношений и несет в себе ручательства в том, что будет превзойдена дисциплина постоянного войска.
Требование милиции так же неразрывно связано с программой рабочего класса, как требование постоянного войска связано с нынешним классовым государством. Современное рабочее движение настолько же имеет обязанность, насколько неоспоримое право требовать милиции, ибо оно одно в состоянии создать необходимые предпосылки милиции – дисциплинированность масс, без которой не может быть никакой речи о милиции, без которой всякие разглагольствования о милиции будут пустыми фразами. Поэтому требование милиции, выдвигаемое социал-демократией, должно быть достаточно резко отделено от игры радикальной буржуазии в идею милиции. Об этом и еще кое о чем другом мы скажем несколько слов в заключительной главе.