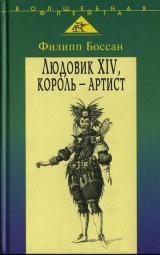
Текст книги "Людовик XIV, король - артист"
Автор книги: Филлип Боссан
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
4 июня 1665 года король торжественно встретил Бернини в Сен-Жермен-ан-Лэ.
Король и гений
Кавалер произнес свою приветственную речь с приличествующей смелостью», – рассказывает Шарль Пер-ро. Мы должны оценить всю колкость этой короткой фразы. Придворные не привыкли слышать «смелые» речи перед королем, даже смягченные «приличием». Зная горячность Бернини, усугубленную итальянской furia[22]22
Яростью (ит.).
[Закрыть], представим себе гримасы этих господ, их потупленные взгляды исподтишка, следящие за реакцией Его Величества. Но нет: кажется, все сошло благополучно. К тому же Бернини «смело» продолжает речь, и продолжает великолепно: «Я видел, Сир, – говорит он Его Величеству [на этот раз рассказчик Шантелу], – дворцы императоров и пап, дворцы властительных принцев, что встречались на пути из Рима в Париж, но для короля Франции, нынешнего короля, нужно создать нечто более великое и восхитительное, чем все это».
И затем, повернувшись к образовавшим круг близ короля, он добавил: «И пусть молчат пигмеи!»
Подобное не выдумаешь. Такие слова смакуют. Кавалер – человек театра, так же как и Людовик XIV: вдвоем они составляют достойный дуэт, и манера, с какой Бернини повернулся к публике для финального аккорда, – большое искусство. Но ответ, который даст король, для нас чрезвычайно поучителен. Крайне немногие из дошедших до нас его высказываний так нагружены смыслом, во всяком случае, из тех, что касаются искусства. Нужно читать этот ответ, перечитывать и размышлять: он содержит наметки того, что последует, не только в отношении Бернини, но и Лувра, и, гораздо позднее, Версаля; и может быть, он раскрывает одну из тайн Людовика XIV: «После этого Король взял слово и сказал, что он имеет некоторую привязанность к сделанному предшественниками, но что если все же нельзя создать ничего великого, не разрушая их работы, он ее разрушит».
Каждое слово здесь взвешено. «Создать великое»: в этом пункте Людовик согласен с Бернини. Но есть еще эта «привязанность к сделанному предшественниками». Представим мысленно, чем был Лувр в 1665 году, эту смесь разнородных построек, возведенных различными архитекторами от Пьера Леско до Лево. С каким чувством смотрел на это Кавалер? Несомненно, с величайшим презрением. («Пусть молчат пигмеи!») Эти «пигмеи» недостойны короля Франции.
Если Бернини так никогда и не построил Лувра, то, несомненно, отчасти по этой причине: его провидческий эгоцентризм не мог совершенно унизиться до сделанного прежде, втиснув воображение гения в рамки того, что уже существовало. Так и видишь, как его взгляд скользит по жалким сланцевым кровлям, в которых он совсем не видит смысла, по этому нагромождению разрозненных кусков! «Пусть молчат...» И все сказано.
Но Людовик тоже хочет «великого». Он хорошо знает, что целый век лелеяли «большой план» Лувра, который его «предшественники» так и не довели до конца. И финальный аккорд Бернини, полный яркой выразительности («приличествующе смелой»), должен был ему нравиться. Вот почему король прибавил, как бы против воли, что «если нельзя создать ничего великого, не разрушая работы предшественников», он ее разрушит.
Вся она здесь, в этом двойственном движении Людовика XIV – эта уклончивость, всегда в нем присутствующая. Странная поза, в которой смешивается почтение, побуждающее его не трогать ничего из того, что было создано до него, и непреодолимая забота утвердиться в творении, которое было бы целиком и полностью его собственным. Он не хочет разрушать, но все же он уничтожает. Он заботится о том, чтобы не разрушать, но подавляет ту, другую сторону самого себя, которая побуждает его щадить и сохранять. Позднее мы увидим это в Версале.
И затем, есть Кольбер... Кольбер – не король. Его аргументы иные. Он к тому же несет ответственность за «большой план». Его король должен быть великим королем: от этого зависят его должность, его могущество, его собственная судьба. Но у него двойная забота: сперва – экономить, а затем – строить «удобно». Стоит прочесть эти нескончаемые записки, которые он слал Бернини, вот некоторые образчики: «Вышеозначенный Кавалер Бернини решит, если посчитает возможным, будет ли задача увеличить протяженность двора [...] достаточно веской причиной, чтобы повлечь ужасающие расходы, которые должны посредством этого возникнуть; ввиду того, что от рва на старом чертеже до церкви Сен-Жермен-л'Оксерруа более тридцати трех туазов, а увеличение двора [...] прибавляет ему еще пять туазов до названной церкви, и таким образом потребуется не только разрушить двор, но еще купить более чем на 2 000 римских экю, а затем снести дома вокруг названной церкви и на обширной площади, которую необходимо будет устроить перед Лувром».
И так продолжается, страница за страницей, с бесконечными «но» и «тем не менее»: «Эта галерея будет превосходна и великолепна. Она, однако, кажется узкой, будучи всего в 2,5 туаза... Эта галерея, называемая залом, будет несомненно прекрасной и замечательной, но нужно заметить, что...»
Вскоре ситуация усугубляется: «Необходимо обратить пристальное внимание на то, чтобы не закрывать доступа ко всем водопроводным трубам, свалкам мусора и нечистот... Нужно предусмотреть легкость свалки экскрементов; пусть рвы будут проложены в удобных местах так, чтобы зловоние не могло достичь апартаментов... Выбрать место настолько высокое, насколько возможно, чтобы сделать там запас воды...»
С этого момента начинается, можно сказать без преувеличения, мученичество Бернини. Не то чтобы им недовольны, напротив: король заботится о том, чтобы его роскошно разместили. Он предоставил в его распоряжение одну из своих карет, а вторую – для его спутников. Он почти ежедневно справляется о его желаниях. Господин де Шантелу всегда рядом, готовый исполнить малейшую его прихоть, он повсюду его сопровождает в Париже, в Сен-Жермене, в Версале... Его с большой торжественностью принимают в Академии архитектуры, в Гобеленах, где Лебрен воздает ему почести. Его посещают: его мастерская беспрерывно полна придворными, любопытными и художниками. Но ему не перестают докучать по поводу его проектов.
Пора сказать об этом и тем самым мысленно охватить неизмеримую дистанцию, отделяющую то, чего желает если не король, то Кольбер, от того, что рисует в воображении и чертит на бумаге Бернини.
Первый присланный из Рима проект – фантастический, восхитительный и безумный. Это творение человека, который не только никогда не видел Франции и не имеет ни малейшего представления о том, чем Париж отличается от Рима, но которого это даже не заботит. На рисунке – идеальный дворец, нечто вроде citta ideale[23]23
Идеальный город (ит.).
[Закрыть], который мы видим в Урбино, это мечта о городе, нарисованная Браманте (во всяком случае, не Пьеро делла Франческа или кем-то другим в этом роде): да, это мечта, с этой ротондой в центре разбегающихся во все стороны перспектив, мечта, которая гораздо меньше напоминает реальный обитаемый город, нежели театральную декорацию. Справедливо, что самые совершенные города Ренессанса и барокко – те, которые мы видим в зрительном обмане Театро Олимпико в Виченце или на фронтисписах трагедий и опер, и если барочный урбанизм настолько напоминает театральную декорацию, то, может быть, оттого, что сначала задумали декорацию, а затем выстроили города.
Ра1azzo ideale[24]24
Идеальный дворец (ит.).
[Закрыть], который Бернини задумал для короля Франции, – чудесная фантазия. Его центральная ротонда, храм солнца, триумфально выступающий из протяженного фасада и являющий себя постепенно – произведение гениальное... Раз-мах повенчан здесь с элегантностью, это элегантно и все же строго, это невероятно барочно и бесконечно сдержанно, как будто чтобы доказать, что барокко и перегруженность – необязательно синонимы. Но что делать с этим в старом городе, еще наполовину средневековом, каким был тогда Париж, в нескольких метрах от Сен-Жермен-л'Оксерруа (22)?
Кольбер присылает отчет, в котором все замечания очень конкретны, очень будничны и продиктованы здравым смыслом. Здравый смысл против гения – вот что любопытно. И что нужнее дворцу?
Второй проект, присланный Кавалером из Рима вслед за заметками Кольбера, не лишен интереса. Его единственный недостаток в том, что он прибывает вторым и сравнивается с первым. Тот, кто не видел первого, может соблазниться чувственностью и мощью этих двух вогнутых массивов, вписанных один в другой. Это красиво и невероятно оригинально: никогда не видели здания такой формы. Здание есть присутствие в пространстве, это масса в лоне раскрывающейся перспективы. Она выступает, отступая. Это двойное движение передает глубинную внутреннюю двойственность барокко, но двойственность новую – замечательно сдержанную.
Бернини учел соображения Кольбера. Он отказался от ротонды, заменив ее центральным павильоном, украшенным колоннами, и целое стало более пригодным для жилья. Но он по-прежнему не знает Парижа. Как вписать такое сооружение в тогдашний город, в нескольких туазах от Сен-Жермен-л'Оксерруа, среди особняков и улочек, на которые оно должно смотреть? Кавалер об этом не думает. В его представлении дворец короля Франции требует, чтобы сам город полностью изменился, как Рим перед лицом Св. Петра, когда задумывалась и строилась колоннада. Воздуха! Пространства! Великой архитектуре, о которой грезит барокко, необходимы пространство и воздух.
Именно тогда Людовик XIV собственноручно пишет приглашение, и Бернини отправляется в путь.
19 июня, едва минуло две недели по приезде в Париж, он представляет свой третий проект. Нужно честно признаться, что по сравнению с двумя другими этот разочаровывает. Словно Кавалер устал, пал духом. То, что он показывает нам, – мас-
штабно, но плоско и, говоря начистоту, скучно и тоскливо. Его фантазия пытается ухватиться за пышный цветистый рокайль под видом цоколя. Чувствуется, что его итальянская барочная горячность подавлена, прижата, окоченела от того, что французы называют «классицизмом»; но когда «классицизм» – не что иное, как скучное «барокко», это уже не великая архитектура.
Бернини остается в Париже со 2 июня по 20 октября. Он часто видит короля. Каким могло быть поведение короля перед лицом знаменитейшего из живших тогда художников, который покинул Рим и папскую службу, чтобы возвести Лувр? Можно читать и перечитывать три сотни страниц «Журнала» Шантелу, вновь воскрешая один за другим все моменты, когда эти двое находятся рядом, и нельзя избавиться от странного впечатления. За редкими исключениями, Людовик рассеян, невнимателен, инертен. Может быть, Шантелу вводит нас в заблуждение? Но после того как мы видели короля, посещающего Лебрена, задающего вопросы, свидетельствующие о его любопытстве к живописи, откуда это отсутствие интереса, когда речь идет о дворце его славы?
Все, однако, начинается в тот момент, как Бернини представил свой первый парижский проект: «Двадцатого числа [июня месяца], – пишет Шантелу, – мы прибыли в Сен-Жер-мен-ан-Лэ с Кольбером. Кавалер представил Королю свой план Лувра и возведения фасада. Все настолько понравилось Его Величеству, что он сказал ему, что хвалит себя за то, что просил папу позволить Бернини приехать».
Бернини показывает ему два различных проекта цоколя, на одном из которых цоколем служат куски скалы, которые Шантелу называет «подводным камнем». «Король рассмотрел оба проекта, сказав, что «подводный камень» ему больше нравится и что он хотел бы, чтобы все было исполнено именно таким образом... На что Кавалер ответствовал ему, что для него величайшая радость на свете видеть, насколько у Его Величества тонкий и деликатный вкус, и что даже среди профессионалов немного людей, которые могли бы судить так же хорошо...»
Шантелу продолжает: «По выходе мы направились в церковь, где Кавалер долгое время молился и целовал землю. Я узнал, что, когда Кавалер вышел, Король отправился к Королеве-матери, показал ей полученные чертежи и сказал, что он в высшей степени удовлетворен; что прошло три или четыре года с тех пор как он принял решение построить дом, достойный королей Франции и его самого; что он не был доволен теми чертежами, которые видел раньше; что это вынудило его призвать сюда из Италии Кавалера Бернини; что теперь его душа спокойна, доверившись заботам самого искусного мастера в Европе; и что, таким образом, отныне ему не в чем себя упрекнуть».
Пламенный король
Почему все же Бернини и король так часто виделись и после этого? По совершенно иному поводу. 20 июня, в день, когда Кавалер представил свой проект королю, в последних строках своего описания проекта Шантелу добавляет: «Я забыл сказать, что Король просил его сделать его портрет. Тот ответил Его Величеству, что это нелегкое дело и что оно доставит Ему хлопоты, поскольку ему потребуется видеть Его два десятка раз, по два часа каждый день».
Следствием этого были сеансы позирования, о которых детально рассказывает Шантелу на самых интересных страницах своего увлекательного «Журнала». Первое, что можно констатировать, – в своих беседах Бернини и король очень мало говорят о Лувре: видимо, короля это не интересует. Тема Лувра обсуждается с Кольбером, мы видели, в каких выражениях. Второе – это захватывающие нас, три столетия спустя, описания Бернини за работой. Сначала он делает бесконечные наброски с разных точек зрения, во всех позах. Он не только не требует от короля полной неподвижности, напротив, просит его двигаться, перемещаться, разговаривать. Он набрасывает со всей живостью и «в трех измерениях», как пишет Шантелу. Они с королем любезно беседуют по-итальянски;
– ...Я краду, – смеясь, говорит Кавалер.
Король: «...Да, но чтобы возвратить».
Бернини: «...Однако возвратить меньше того, что я похитил».
Изящней не бывает.
Позднее Бернини работает над бюстом в присутствии своей модели, меняет детали, работает «над мелкой отметиной, которую король имеет на носу около глаза». Король беспокоится: «Его Величество однажды покинул свое место, чтобы подойти взглянуть на работу Кавалера и, рассмотрев ее, сказал на ухо Месье (совсем рядом с которым я имел честь находиться): «Неужели у меня кривой нос?»
Иногда Бернини пускается в объяснения: «Кавалер, продолжая работать над ртом, сказал, что для успешной работы над портретом требуется всегда помнить, что выразительнее всего рот, когда только что произносили слово или собираются его сказать; и что он пытается поймать этот момент. Он также трудился над щеками; в продолжение этого король время от времени покидал свое место и подходил посмотреть, как продвигается дело, а затем возвращался обратно».
Следовательно, то, чего хотел Бернини – поймать модель в движении, и совершенно очевидно, что именно это позволило ему создать самое живое и самое мастерское из всех изображений Людовика XIV. Это не портрет короля: это портрет королевского желания. Да, «желание славы», о котором Людовик говорит в своих «Мемуарах», – здесь, rubato, «похищенное» в живости мгновенья. Это портрет Людовика, который видит себя Александром.
Некоторые ворчуны находят его «слишком красивым»; я думаю, они хотят сказать приукрашенным. Этот образ Людовика XIV, говорят они, всего лишь вымысел Бернини.
Что ж, они ошибаются, если только верно, что функция портрета или бюста – превзойти видимость и, преобразуя ее, обнаружить правду более глубокую, проникнув в тайну личности. Портрет не правдив по-настоящему, если он не «правдивее правды». Когда довольствуются обыкновенным правдоподобием, короля изображают таким, каким Людовика XIV видели многие придворные – благородным, чопорным и холодным. Скульпторы, придерживающиеся традиционной благопристойности, несомненно, этим бы и ограничились: именно это и видно на большинстве посредственных статуй в Версале и других местах. В данном же случае скульптор не желает следовать внешней, поверхностной правде, из-за чего король с плохо скрытым беспокойством упавшим голосом жалуется, глядя, как Бернини шлифует мрамор («Неужели у меня кривой нос?»). Бесчисленные унылые королевские портреты есть работа тех, кто не видит ничего, кроме того, что видит. В то время как Бернини, именно он, угадал, постиг, почувствовал и передал в мраморе то, что врожденная застенчивость Короля-Солнца, таившаяся в нем и скрывавшая даже от него самого то, что он желал бы увидеть в себе, из осторожности изображаемом в виде другого: Александра, например. Робкий Людовик XIV? Несомненно: он сам в этом признается в отрывке из «Мемуаров», на который мы уже ссылались: «Эта первоначальная робость, которую всегда рождает нерешительность и которая поначалу причиняла мне затруднения всякий раз, когда следовало выступать перед публикой с речами, более или менее пространными...» Именно робость заставляла его принимать ледяной вид (вызывавший трепет Сен-Симона). Таким короля видели придворные на его выходе или на променаде; таким видели его скульпторы, которым он позировал. Но Бернини делал наброски в движении и «украл» то, что не было видимым: желание.
Бернини изваял желание славы и просто-напросто желание Людовика. Он показывает нам Людовика, списанного с того внутреннего представления о себе самом, которое было у короля в возрасте двадцати восьми лет, или того, какое он хотел, чтобы у него было (когда говорят о желании, это одно и то же), и которое некоторые (как Расин или тот же Бернини) разгадали. Неразгадавшие не есть великие художники.
Но «Журнал» Шантелу интересен и с другой стороны: это один из источников, которые с наибольшей живостью и непосредственностью показывают нам Людовика XIV в повседневности. Может быть, даже самый живой из них. Здесь его не заслоняют от нас ни язвительные афоризмы Сен-Симона, ни его искусство убийственных характеристик, здесь нет дистанции, которая позволяет мадам де Лафайет видеть далеко и глубоко; но нигде, мне кажется, не чувствуется, как здесь, этого дыхания возбужденной толпы, которая всякий миг окружает короля, перемещаясь вслед за ним туда, где Бернини орудует резцом: «После ужина [21 августа] пришли господин де Креки и господин маршал де Лаферте, которые сказали Кавалеру, что они соседи и что было бы весьма любезно с его стороны, если бы он навестил их и отужинал с ними. В это самое время пришел Король с тридцатью или сорока людьми. Сначала Его Величество сказал, что стало жарко и чтобы открыли окна. Кавалер еще раз повторил то, что уже говорил прежде, что эти господа имеют Короля в распоряжении каждую минуту, и странно, что они не желают оставить его здесь на полчаса. Он работал в этот раз у них на глазах. Утром он говорил мне, что работал и обнаружил одну трудность, связанную с тем, что у Короля очень длинные ресницы, чего нельзя передать в мраморе. [...] Он сказал мне также, что у него достаточно большие глазные впадины, но глаза небольшие; и это надо учитывать. Работая, он иногда приближался к Королю и рассматривал его лицо в том или ином ракурсе, то снизу, то сверху, изучал его всеми возможными способами и затем возвращался к своему мрамору. Господин маршал де Грамон был там, глядя с величайшим вниманием на все это через свои очки. Господин Кольбер также пробыл там некоторое время, затем удалился.
Его Величество много говорил с маршалом де Лаферте. В это время Кавалер без устали трудился то над одним глазом, то над другим и немного над щеками. Мати [ученик Бернини] прочел посвященный этому бюсту сонет, о котором я говорил ранее; после чего вручил его Королю».
Рифмоплеты состязались друг с другом, сочиняя сонеты о красоте бюста и величии Людовика. Каждый день стихи сыпались в изобилии. В сонете Мати, среди прочего, говорится:
Здесь гений воплотился Людовика.
Счастливый камень сей подобьем стал
И красоты исполнился великой.
«Некоторое время спустя, – продолжает Шантелу, – я также преподнес Королю [сонет] аббата Бути [бывший секретарь Мазарини, автор либретто придворных балетов]. Присутствовавший господин де Монтосье спросил, не мое ли это сочинение, я указал Королю на аббата Бути как на автора. Его Величество сказали, что его надо прочесть вслух. Я сразу же сделал это за аббата, которого извиняло то обстоятельство, что он, по его словам, не захватил с собой очки. [Стихи] были всеми высоко оценены, так что господин де Лавальер и господин Магалотти попросили копию. В продолжение того, как Кавалер продолжал работать, Миньяр д'Авиньон пришел сказать Его Величеству, что господин Кольбер прислал его измерить рост Короля для большого портрета, который будет послан за пределы Франции, и для этого взял голубую ленту, коей господин Бискара держал один конец, а он – другой. Сразу же затем Король ушел, сказав Кавалеру, что не сможет посетить его назавтра; и что если ему это все-таки удастся, то он пришлет сказать об этом...
Когда Король удалился, Кавалер бросился на стул, признавшись своему подручному, что он до крайности удручен этим уходом и расположением духа короля. В это время зашел господин де Лаврийер. Я сказал Кавалеру, что это государственный секретарь. Он и не двинулся, чтобы его принять. Так что тот некоторое время рассматривал бюст, затем работу скульптора Поля. Затем Кавалер попросил извинить его. Поговорили о скульптуре...»
Можно себе представить! Чем не сцена из «Докучных»?
Все это не объясняет нам, почему Людовик до такой степени интересовался бюстом и принимал безразличный вид, едва речь заходила о его дворце, Лувре. Или, точнее, почему по мере чтения «Журнала» Шантелу кажется, что король мало-помалу теряет интерес к архитектурным проектам. В то время как в июне-июле его видят принимающим Бернини, утверждающим проекты, которые он тут же спешил показать королеве-матери, в сентябре-октябре он появляется исключительно на сеансах позирования и посещает только скульптора, ни единого слова не говоря об архитектуре.
Надоел ли ему Бернини? Надоели ли все эти склоки, вся эта суматоха из-за обструкции, устроенной Бернини французскими архитекторами, тянувшими его в разные стороны, ставившими подножки, на которые Кавалер не обращал внимания или спешил пожаловаться королю? Но часто он неожиданно повышает тон. (Перро: «Он сказал, что я недостоин чистить подошвы его башмаков». Бернини: «Такому человеку, как я! Мне, кому сам папа оказывает почести и с которым считается... Не знаю, кто будет виноват, если я брошу молоток скульптора!»)
Возможно, что и надоел.
А может быть, здесь другое: еще неопределенное, еще довольно неотчетливое, но неудивительное для того, кто знает молодого короля-гитариста и его способность добиваться того, чего он хочет.
Разумеется, традиция, сознание того, кто он есть, «желание славы» – все это предполагает возведение большого дворца, достойного его. Разум, традиция и Кольбер уверяют, что этот дворец – Лувр. Но Людовик XIV предпочитает играть на гитаре. Он учится на лютне, как велят разум и традиция; он строит Лувр, поскольку его слава требует, чтобы он закончил «сделанное предшественниками». Господин де Кольбер весь в заботах, а герой романа в это время думает о другом.
Остался всего год до того момента, когда Версаль станет средоточием восторгов, когда раздастся музыка «Удовольствий Волшебного острова», и листву деревьев маленького парка озарят фейерверки.
Разве Лувр не так же скучен, как лютня? Разве «пламенный король», которого ваяет Бернини, не воображает свою славу более фантастическим образом, более свободно и более легко?








