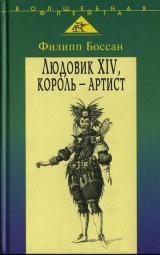
Текст книги "Людовик XIV, король - артист"
Автор книги: Филлип Боссан
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Пределы Олимпа
Однако что происходит в эти годы в самом дворце? Первый дворец Лево построен. Король спит в покоях, где Аполлон на колеснице, запечатленный Уассом на плафоне, парит над его ложем и окна выходят на грот Фетиды, где бог и его кони вкушают ночной отдых, а служат Аполлону нимфы: в опочивальне короля соединяются символ и означаемое, тема и контртема.
В этот период король задает Лебрену обширную иконографическую программу для своего парка. Нам остались прекрасные рисунки, наглядно свидетельствующие, до какой степени всерьез принимали тогда мифологию. Речь не идет о смутных аллюзиях или перекличках идей. История Аполлона здесь, как и в королевских покоях, имеет единственный смысл. «Иконология» Чезаре Рипы, базовый текст, основной трактат и фундамент барочной фантазии, взята здесь буквально (34). Аполлон царит над миром, и Нивелон в своей «Жизни Шарля Лебрена» описывает нам этот амбициозный проект: «Он сделал в это время набросок указанного водного партера, спроектированного так, что можно пройти повсюду между деревьями и цветами, которые окружают партер со всех сторон; он состоит из четырех больших водных бассейнов, соответствующих четырем павильонам дворца и большой окружности в центре... Этот партер изображает мироздание. Четыре стихии заняли места по Углам партера, представленные в четырех скульптурных сценах похищений: Реи Сатурном, Оритии Бореем, Корониды Нептуном и Прозерпины Плутоном. Эти группы были исполнены в мраморе самыми искусными скульпторами. Затем двадцать четыре фигуры – четыре изображения самих стихий, четыре времени года, четыре времени суток, четыре части света, четыре стихотворных размера, четыре человеческих темперамента, все с их обычными атрибутами, посредством чего описано и отображено единство и связь того, что составляет Вселенную.
Посреди большого бассейна должна была быть скала, пробитая с четырех сторон, на которой должны были помещаться девять муз из белого мрамора и фонтаны, именуемые фонтанами Искусств и Муз. С одной стороны на вершине скалы помещался Аполлон и все дочери Памяти, расположенные по их благородству и степени, и с другой стороны конь Пегас, который поднялся, давая выйти из скалы источнику Иппокрены, вода которого, падая меж трещин скалы и перед четырьмя выходами, подобно льду или хрусталю, позволяла видеть сквозь это зеркало реку Геликон и ее нимф, сидящих вместе на скале. Множество детей играло там с выбрасывающими воду лебедями, и множество драконов в расселинах скалы... В четырех бассейнах, соответствующих павильонам дворца, должны были быть представлены четыре различных восхитительных сюжета, передающих сюжеты физики; это [похищение] Европы Юпитером в виде быка, нимфы Меланиппы – Нептуном в виде дельфина; Арион, играющий на лире на спине того, кто спас его после кораблекрушения, и Фрикс и Гелла, его сестра, на овне. Нетрудно было догадаться, что эти сюжеты представляют метаформозы стихий: землю в виде быка, воду в виде Нептуна, воздух в виде Ариона и огонь в виде овна Марса. Эти группы фигур были окружены тритонами и множеством детей и животных-водометов, казалось, устремлявшихся к огромным раковинам, помещенным по углам каждого бассейна так, чтобы служить ступенями и облегчать спуск к воде и посадку в маленькие гондолы, предназначенные для развлечений».
Рисунки, которые Лебрен сделал для каждой из этих .скульптур, восхитительны. Проект напоминает застывший большой балет, ибо заметно, что все эти темы: времена года, часы, искусства, стихии, континенты – все это уже было, не в один, так в другой раз, трактовано в хореографической форме.
Однако проект так и не был реализован. Мысли короля относительно своего дворца и символов своего царствования полностью изменились.
В 1678 году король действительно предпринял новую сепию работ в Версале. Полностью переделали выходящий в парк фасад: построили Зеркальную галерею. Увлекательно проследить в деталях за ходом работ, выявляющим, гораздо в большей степени, чем в предшествовавшие годы, следы постоянного королевского вмешательства, его решений и его выбора – идет ли речь о декоре или о предполагаемой форме окон. Каждый раз это отражено в дошедших до нас рисунках.
В следующем году Лебрен представляет королю проект росписи плафона: семьдесят три метра в длину, десять в ширину – что за прекрасные возможности для художника! Все подготовительные рисунки Лебрена здесь, в Лувре. На огромном пространстве, окруженном фальшивым мрамором, наряду с персонажами, сидящими повсюду в углах, как сивиллы в Сикстинской капелле, изображены Аполлон и Диана, истребляющие детей Ниобеи, принесение в жертву Аполлоном Марсия, освобождение Аполлоном Хрисеиды, битва Аполлона с Циклопами... Ничто здесь не может нас удивить: это магистральная линия привычной королю мифологии.
Все же этот великолепный проект не был принят, затем был сделан второй, полностью отличный от первого, более утонченный, на огромной овальной площади: в центре – апофеоз Геракла, все его подвиги, лань с бронзовыми ногами, золотые яблоки, Лернейская гидра и прочее. И этот сюжет также был отвергнут ради третьего: Людовик XIV как он есть. Людовик XIV, включенный, вписанный в мифологию, помещенный среди богов, от которых он не отличается костюмом, только париком. Юпитер с непокрытой головой, король же – в парике.
В этой серии проектов замечательны (помимо совершенства рисунков) последовательность и прогрессия. Первый – мифология, требующая расшифровки: здесь Аполлон, с королем в контртеме. Второй уже не на Олимпе в узком смысле слова, но в мире полубогов: мы решительно приближаемся к земле но мифология еще требует расшифровки. Видя тему, зритель волен экстраполировать контртему и заключать, действительно или нет Лернейская гидра, Авгиевы конюшни и Критский бык должны быть идентифицированы с Императором (35), протестантскими государствами и Вильгельмом Оранским (при всем при том заметьте, что Геракл ни разу не появляется у ног Омфалы). В третьем проекте совершается перестановка; контртема становится темой. Речь идет о короле: он здесь, но преображенный прямой связью, установленной им с Олимпом. Расшифровки не требуется, это миф, становящийся реальностью.
Но этот третий проект был принят не лучше, чем первые два, и Лебрен должен был сделать четвертый, откуда мифология изгнана. Король здесь одет по-римски, но теперь его окружают только реальные фигуры (солдаты, генералы) или же аллегорические. Сцены – не легендарные, а взятые из действительности: «Завоевание Франш-Конте», «Переход через Рейн», «Послы, отправляющиеся во все стороны света», «Покровительство Изящным Искусствам» и в центре главная картина – «Король-самодержец».
Итак, 1678—1679 годы, тот самый момент, когда Людовик ХIV решил и публично объявил, что Версаль станет его резиденцией и центром государства, так сказать, момент, когда средоточие его удовольствий и его желаний облеклось королевскими функциями и более не воспринималось иначе, сопровождается встречным движением – снятием олимпийских одежд.
По инерции автоматизма и по механической привычке Лебрен задумал Аполлона в семьдесят три метра. Десять лет назад он уже приступал к двенадцатиметровому Александру: но Людовик XIV перестал идентифицировать себя с Александром еще до того, как Лебрен закончил работу. Контртема больше не соответствовала теме фуги. Брошенные проекты не найдут себе места и не будут исполнены. Лебрен был блистателен в замыслах больших проектов; но он медленно думал. Аполлон появился слишком поздно. Геракл? Вновь слишком поздно. Так было с тремя сменявшими друг друга проектами, которые конкурировали в Зеркальной галерее; король все их отклонил, повелев думать о короле и только о нем. Он обосновался в Версале. Но зачем нужно менять расположение апартаментов? ради комфорта? Ради симметрии, поскольку королевы больше нет и некому занимать ее покои? Несомненно, также и поэтому. Но и сам король без видимого сожаления расстается со своей аполлонической спальней. Она станет тем, что мы называем салоном Аполлона, так как бог по-прежнему совершает там на потолке карусель своей славы. Отныне король обитает в угловой комнате, уже без всякой солярной символики. Почему огромный аполлонический партер, намеченный Лебреном, никогда не будет реализован? Почему статуи времен года, часов, искусств, континентов будут рассеяны по парку – не случайно, но в соответствии с одной лишь эстетической логикой?
Все происходит так, как если бы личность короля не имела больше нужды в мифологической репрезентации. Покои короля – это покои Солнца, и больше нет необходимости рисовать там Аполлона: достаточно, что король там спит и пробуждается. Олимп становится ненужен. Или, может быть, точнее – короля больше не отправляют на Олимп: больше ничего не требуется, чтобы представить Олимп, достаточно изобразить короля как он есть. И нет даже необходимости расставлять все точки над «и», как сделал десятью годами раньше в иронических строках Бенсерад в конце «Балета Флоры»:
Светило, чья краса венчает этот двор, —
Его всегда хвалил мой разговор,
Ваш пыл превосходя сторицей.
Искусству не по силам сей сюжет,
А ваш полет достиг в выси таких планет,
Что фимиам похвал до вас и не домчится.
Это было в 1669-м: король действительно танцевал роль Солнца, а Бенсерад посылал прощание поэзии.
Отныне поэзия бессильна «говорить о короле»? Или она тоже стала бесполезной? Сущность короля не требует ли отныне, чтобы оставили вымысел и ограничились определением «Король-самодержец»?
Кажется, и сам король в этом убежден, поскольку именно в 1677 году он приказывает Расину и Буало оставить муз и сделаться историографами. Буало больше не требуется ни Агамемнон, ни Ахилл. Расин забрасывает александрийский стих, которым заставлял плакать Беренику, он подружится с походной одеждой, чтобы в прозе рассказать о переходе через Рейн (36). «Предприятие столь необычайное, столь мало ожидаемое повергло в ужас все земли, оккупированные Голландцами по Рейну... Тем самым можно видеть, что иногда случаются происшествия истинные, которые в глазах людей неправдоподобны; и что мы обсуждаем события, которые, будучи столь невероятными, сколь они есть, не перестают быть истинными. В действительности, как смогут заключить потомки, король менее чем за два месяца взял сорок регулярно укрепленных городов; он покорил широко распростертые земли за время не большее, чем то, которое требуется, чтобы через них проехать... Покорив почти всю Голландию, Король мог осуществить над взятыми городами законную месть; но покорность побежденных обезоружила его гнев».
Не удивительно ли, что Расин в 1669 году смог разгадать, какова будет его роль тринадцать лет спустя, и предрек это в предисловии к «Александру»: «Тогда-то и придется Вашим подданным со всем усердием приняться за описание Ваших великих деяний. Да не будет у нашего государя причин сокрушаться, подобно Александру, что среди его присных некому оставить потомкам память о его добродетелях».[33]33
Расин. Александр Великий. С. 93.
[Закрыть]
Конец оперы
Естественный мир оперы – тот, где обитают мифологические боги и полубоги; так могли подумать в 1682 или 1683 году, открыв партитуры Люлли: «Кадм и Гермиона», «Альцеста», «Тезей», «Исида», «Психея», «Прозерпина», «Беллерофон», «Фаэтон», «Персей»...
Однако в марте или апреле 1684 года король, как мы уже видели, задает Кино сюжет оперы, взятый не из «Метаморфоз» Овидия, не из «Георгик» Вергилия, не из Гомера, не из Еврипи-да, но из романа. И какого романа! Рыцарского, куртуазного, героического, волшебного, галантного, прециозного. Новое свидетельство стиля, связывающего XVII век с нашими XII и XIII столетиями. Нам всегда внушали противоположное. Ничто «готическое», кроме архитектуры, не было тогда приемлемым (вспомним собор в Орлеане, оконченный в XVII веке в чистом «пламенеющем» стиле, чтобы породнить столетия).
Эрбере Дезэссарт начиная с 1540 года публиковал свой нескончаемый роман «Амадис Галльский», переделав произведение испанца Гутьереса де Монтальво, который, в свою очередь, переделал произведение португальца Жоайо де Лобейры???: «Амадис» на протяжении трех или четырех столетий царил в воображении всей Европы. Генрих IV любил роман Дезэссарта, который называли «библией короля».
Амадис соединяет воодушевление и храбрость с культом дамы, чести, верности; он защищает слабых, побеждает сильных, у него нежное сердце. Он совершенен. Он любит прекрасную Ориану и вопреки волшебнице Аркабон и магу Аркалаусу воссоединяется с ней, благодаря фее Урганде. Сюжет немного детский, но прелестный; это мечта, и для тех, кто отождествляет себя с Амадисом и Орианой, это счастливая возможность «искусственно завысить стоимость продукции», как говорят в наше время.
Вот такой сюжет Людовик XIV, покинув Прозерпину и Тезея, заказал Кино и Люлли. «Я с радостью аплодирую, – пишет Батист в своем предисловии, – выбору Его Величества». Верно: это настоящий, великолепный оперный сюжет, кладезь лирических ситуаций, контрастных чувств и (опера Люлли есть опера Люлли) феерически прекрасных эффектов машин.
В следующем году еще один выбор, совершенный самим королем, если верить «Амстердамской газете». На этот раз сюжет инспирирован Ариосто: «Неистовый Роланд". Вновь героическая история, связанная с более древней рыцарской легендой, но переосмысленная и ставшая под пером итальянца трагической. «Неистовый Роланд» – это огромная поэма, бесконечная эпопея со множеством персонажей и перипетий. XVI и XVII столетия не переставали грезить об этом, и Людовик XIV, очевидно, тоже.
В 1686 году вновь, как подтверждает Данжо, Людовик из трех оперных сюжетов, представленных Кино, выбрал «Армиду». На этот раз – «Освобожденный Иерусалим» Тассо: опять большая эпопея, написанная в XVI веке, но воскрешающая крестовые походы и великое рыцарство.
Мы не имеем доказательств того, что король указал Кино и Люлли сюжеты «Тезея», «Фаэтона» или какой-нибудь другой мифологической оперы. Зато три эпические сюжета из романов – его собственный выбор.
Итак, с незначительной разницей во времени (что такое пять лет?) по настоятельному желанию короля мифология исчезает из оперы, как она исчезла с плафона Зеркальной галереи или из водного партера. Опере предстоит спуститься от мифологии к легенде; боги уступают место героям в лоне трилогии, которую образуют «Амадис», «Роланд» и «Армида» и которой заканчивается большой диалог короля и его музыканта Люлли.
Первая часть, «Амадис», – чудесная история любви среди таинственных лесов феерии; апофеоз совершенных любовников. В следующем году «Роланд» – трагическая история одинокого героя, которого любовь к Анжелике доводит до безумия. Пятый акт заканчивается исцелением:
О небо? Я могу ль без страха созерцать
Сей беспорядок, страшный дар Амура?
В то время как финальный хор заводит свое:
Вас слава призывает...
Сюжет, выбранный королем, привел, таким образом, в 1685 году, может быть, к первому в истории оперы случаю, когда в финале произведения – не апофеоз любви, а ее поражение.
Суждено ли «Армиде» пойти еще дальше? Чем она станет, эта опера без любви, которая всегда есть оправдание оперы? Можно ли такое вообразить? Пролог «Армиды» больше не выводит на сцену ни возвращения наслаждений, ни диалога Времени и Флоры, но предлагает диалог Славы и Мудрости:
Все подчинится мигом во вселенной
Герою славному, что мной любим.
Он множества племен владыка дерзновенный,
Владыка над собой самим.
Итак, это прямое продолжение урока «Роланда». Движущая сила этой восхитительной оперы – без всякого сомнения, самой прекрасной у Люлли – это скрытая вариация того, что во времена Корнеля называли поединком Любви и Долга; к тому же Тассо с гениальностью создал героев, порождающих трагедию из самих себя. Армида больше не волшебница, которая помогает или противится чувству любви: она сама влюблена. В ней прелесть женщины вкупе с «чарами» феи. Но можно ли околдовать героя, чтобы пробудить в нем любовь? И если это происходит, чего стоит такая любовь? Если волшебница с помощью своих чар (чар волшебницы и чар женщины – игра слов, в которой заключен смысл всей трагедии) овладевает своим героем, он больше не герой, и Армида больше не может его любить. Нужно, следовательно, чтобы она оказалась одна в своей неутоленной любовью: если Рено останется с ней, все превратится во что-то вроде «Красотки синьора», и конец любви. И герой отправляется в путь, следуя за славой.
В течение двенадцати лет Людовик XIV шаг за шагом следил за всеми этапами сочинения оперы. В 1685-м мы вновь видим его присутствующим на восьми следующих друг за другом представлениях «Роланда». Годом позже он не появляется ни на одном представлении «Армиды». Было намечено прослушивание в его покоях: оно не состоялось. В двух шагах от его апартаментов дофин дал сыграть в своей приемной четыре представления одно за другим: король не пришел. Несколькими неделями ранее Кино читал либретто дофину и его супруге, как раньше делал это для короля.
Где те времена, когда Людовик сказал Кольберу о Люлли «что не хотел бы упускать этого человека»? Со всей очевидностью мы присутствуем при точном повторении того, что произошло с «Блистательными любовниками». В 1670 году балет с его идентификацией «личности короля» и бога Аполлона перестал быть средством адекватного выражения: им стала опера, которой отныне предстояло воплощать на сцене эту аналогию. Пятнадцатью годами позже этот новый этап тоже завершился. Людовик больше не испытывает потребности спать под плафоном, представляющим его мифологизированный образ: как не испытывает больше потребности видеть свой образ в театре. «Блистательные любовники» стали последним придворным балетом, «Армида» стала последней оперой Люлли.
В целом, мифологическая опера продержалась несколько дольше, чем другие формы транскрипции королевского мифа. Уже перестали представлять Людовика XIV Аполлоном, но ради «Персея» и «Фаэтона» дается отсрочка. Оперы эти также доказывают, что в 1682—1683 годах мутация еще не полностью завершилась. Все идет своим чередом; движения мысли теснят одно другое. Но в 1684-м король выбирает для следующего спектакля «Амадиса». Мифология уступает место эпопее. Даже в опере боги не предлагают больше Людовику подходящей контртемы. Герой ее еще на некоторое время предоставляет: в 1685-м – «Роланд»; в 1686-м – «Армида», и конец любви, «Ар-миду» Людовик XIV не смотрит и не слушает.
Так же как в 1670 году пришел конец балету, теперь пришел конец опере в качестве придворного события и королевского зрелища. Трагедия, положенная на музыку, продолжила свой путь, но уже в Париже: отныне это занятие музыкантов, но больше не занятие короля. Вот что примечательно: в течение многих лет проповедники и исповедники поносили комедию и (вопреки эдикту Ришелье, который в 1641 году снял с актеров клеймо бесчестия) отлучали от церкви людей театра. Но никогда ни слова не было произнесено против оперы: это детище короля. То, что Боссюэ смог выступить против нее в 1694-м, ясно показывает подведенную 1685 годом черту. Король больше не слушает оперу.
Дворец Солнца
"6 мая, – читаем в «Мемуарах» маркиза де Сурша, – Король покинул Сен-Клу, чтобы обосноваться в Версале, где он рассчитывал пробыть подольше, хотя дворец еще не покинули каменщики».
Итак, в 1682 году Людовик XIV переносит центр государства, правительства и двора в место, к которому питает страсть. Похоже, решение было принято в 1677-ом и публично объявлено в 1679-ом. Это не помешало Сен-Симону написать, захлебываясь гневом и презрением, что отныне «двор навеки в деревне».
Идентифицировать Версаль и Короля-Солнце так привычно (нам даже трудно представлять его себе в течение двадцати лет живущим в Сен-Жермене, Лувре и Тюильри), что мы едва ли можем оценить степень удивления современников. Произвол этого решения должен был глубоко их задеть. Даже Кольбер, который шаг за шагом следил за возраставшей страстью Людовика – с каким неодобрением он пишет о Версале! «И есть причины опасаться этого несчастья...» Это 1665 год... То, чего он страшился, пришло.
Пора задать вопрос: почему Версаль? Глава за главой мы подходили к этому. Мы видели, как вырисовываются наметки ответов. Полагаю, маркиз де Сурш сказал все одной фразой: «Он любил этот дом с чрезмерной страстью». Маркиз прав. Страсть, по определению, есть всевластие иррационального. Но иррациональное тоже имевт свои резоны, как и Разум, как и... – можно не продолжать.
Долгое время говорили, что Людовик XIV не любил Парижа который был связан с неприятными воспоминаниями о фронде, о ночном бегстве в Сен-Жермен. Это мало что объясняет. Да, конечно, он не питал большой любви ни к своему городу, ни к Лувру. Но если такова основная причина, почему он должен был двадцать лет потратить на принятие этого решения? Медленный, но упорный рост любви к Версалю доказывает, что предполагаемое отвращение к Парижу не есть истинная причина: это лишь причина негативная. Не больше здесь и политических забот о «приручении» двора путем его изоляции. Это слово в XVII веке лишено отрицательного оттенка: быть «у рук» Его Величества – в то время это почетно. Жизнь на свежем воздухе? Любовь к охоте? Любовь, даже страсть, к садам? Еще раз да, но этого недостаточно. Все эти причины могли сыграть свою роль, но ни одна из них не могла быть решающей.
Сентиментальные объяснения? Мы делаем шаг в сторону иррационального. Мы уже могли мельком наблюдать за королем – в высшей степени владеющим собой, которого никогда не видели возбужденным – в моменты, когда речь идет о Версале. Едва что-то встает на пути его страсти, Перро зорко подмечает то, что он с характерным для XVII века преуменьшением называет «с некоторым раздражением». Не усомнимся, что под этим «некоторым раздражением» подразумевается, что Людовик трясся в бешеном припадке королевского гнева. Этим мы можем измерить привязанность короля не только к Версалю, но к его Версалю – тому, который он знал и который любил, и мы догадываемся, что именно здесь скрыта самая глубокая и тайная причина.
Версаль его отца? Это не должно было много для него значить, даже если, как он сказал Бернини, король должен заботиться о сохранении «сделанного предшественниками». Он не знал своего отца в Версале, Версаль оставался почти необитаемым на протяжении всего регентства Анны Австрийской, у которой не было никаких оснований любить место, от которого Людовик XIII держал ее в удалении (даже если именно 3Десь, как полагают, был зачат Людовик Богоданный).
Лавальер? Да, именно с Версалем должно быть связано множество воспоминаний их любви. Но так ли это важно в царствование Монтеспан, когда Луиза в монастыре (и ввергнута туда насильно) (37).
Все эти политические и сентиментальные рассуждения учитываются, но лишь как дополнительные, как доводы, к которым Разум прибегает, чтобы решить за или, наоборот, против.
Вот единственная, истинная причина, которую все остальные лишь дополняют: Версаль – прежде всего место явления королевской славы. Конечно, она является повсюду: в Лувре, в Париже, во время торжественного выхода, на карусели, на полях сражений, в Дюнкерке, в Ганде – повсюду. Но место, где королевский нарциссизм мог расти, расцветать и трансформироваться – это Версаль: превращение – главный элемент. Несмотря на то, что ничего не меняется во дворце (розовый кирпич, белый камень, голубой сланец – то, что король и не хотел видеть измененным), все здесь несет печать того, чем стал Людовик XIV, и того, чем он станет. Даже план Версаля не перестают модифицировать, и он будет меняться: каменщики, о которых говорит маркиз де Сурш, еще долго будут здесь. Но эта четко различимая эволюция демонстрирует рост королевского величия: Кольбер, впрочем, хорошо это видел. Позднее увидим и мы, в связи с анекдотом о музыканте Делаланде: Людовик, возможно, бессознательно очень любит, когда можно сравнить то, что было, с тем, что стало: он требует от Делалан-да не вносить исправлений в старые мотеты, чтобы можно было оценить, насколько улучшилась служба в его капелле.
Именно этой славе («желанию славы» из «Мемуаров» Людовика XIV) Версаль должен служить театральной рамой. Начиная с «Удовольствий Волшебного острова» дворец стал театральной декорацией, имевшей столь большой успех в большой, с использованием машинерии пьесе на тему королевской славы, что должен принять свою окончательную форму – форму декорации, «сооруженной из прочных материалов», вроде той, вечной и неизменной, в Театро Олимпико в Виченце.
Все же, чтобы понять Версаль и его рождение, главное – видеть не статичный, а динамичный образ. Что Версаль не появился в один день, понимают все, но по-настоящему интересно следовать этапами долгого, почти двадцатилетнего развития оценивать оттенки и отличия каждого. На самом деле появление Версаля Людовика XIV невозможно понять вне трех больших празднеств, данных там в 1664, 1668 и 1674 годах, где явилась в своих непрекращающихся метаморфозах королевская слава. Каждое из этих празднеств – этап, ни одно не напоминает предыдущее. Облик Версаля каждый раз заново моделируется празднеством, которое задумывается: легкий и барочный между 1664 и 1668; более тяжелый и массивный от 1668 к 1674; уже королевский, уже полный величия после 1674 года; раздутый и расширившийся до пределов допустимого в 1679—1682 итак далее.
Ни одна из этих различных кампаний не предвещает следующую: нужно, чтобы мы всегда, в каждой точке пути, осознавали – Версаль непредсказуем. Никто не знает, никто не может даже вообразить, каким однажды станет то, что мы видим. Ни король, ни Кольбер, ни Лево, ни Мансар... В 1679 году, когда план размещения зданий уже готов, еще так далеки от того, чтобы представить себе последовательность событий, что даже не знают, что возведут Южное крыло: и воздвигают церковь, всю в мраморе, с плафоном Лебрена, столь неудачно расположенную, что будут вынуждены снести с трудом оконченное, чтобы освободить проход к строящемуся крылу.
Празднества сменяют друг друга, и Версаль меняется вместе с ними – его тон, его манера, его дух; но меняет их сам король. Каждое из празднеств, каждый из этапов строительства смоделированы личностью Людовика XIV – такой, какова она в данный момент. Он моделирует, исходя из того, что он есть, каким он себя видит или хочет видеть.
Король, поселившийся в Версале, – больше не молодой кавалер, в «Удовольствиях Волшебного острова» гарцующий рыцарем из эпопеи, блистательным, в перьях, на глазах Луизы де Лавальер. Он больше не Александр, не Руджьер. Он вскоре перестанет быть Аполлоном. Ему сорок четыре. Он не стар, но уже и не молод. Он пускает корни. Он устраивается и обосновывается. И поскольку он король, его правительство и двор устраиваются вместе с ним.
Вольтер уже это отметил, а Мишле подчеркнул, заострив, в своей манере: царствование Людовика XIV – двойное. В первой и второй его частях, граница между которыми пролегает около 1685 года, все столь различно – способ существования, образ жизни, занятия, одежда, вкусы, удовольствия, даже местопребывание, – что с трудом верится, что это были те же придворные и тот же король. Был двор легкий и почти фантастический, весь в лентах, в плюмажах, расшитых шароварах, гарцующий в честь короля, чей гордый вид, пыл и живость сумел передать только Бернини. Пребывали в Лувре, когда это было необходимо, а чаще – в Сен-Жермене и Шамборе; Версаль был привилегированным местом, где прекраснейшие празднества разбрызгивали в ночь бенгальские огни. Музыку писал Люлли. Он двадцать лет танцевал с королем; затем он создал оперу, чтобы на сцене появился трансформированный и возвышенный образ двора, превращенного в Олимп вокруг Людовика-Юпитера, Людовика-Марса и Людовика-Аполлона.
И вдруг поворот: в 1682 году король делает Версаль местом постоянного пребывания двора. В 1683-ем умирают королева и Кольбер. Людовик XIV реформирует этикет и закрепляет это – устанавливает поощрения и наказания. Мадам де Ментенон официально становится королевой; тяжеловесность, серьезность и торжественность воцаряются при дворе. Благопристойность и важность, величие, достоинство.
Здесь обнаруживается совпадение, может быть, единственное во всей этой истории. Королева умерла через несколько месяцев после переселения в Версаль. Едва став королевской резиденцией, дворец погрузился в траур. Умри Мария-Тереза десятью годами раньше или позже – быть может, дух Версаля был бы совершенно иным.
Во всяком случае, в 1682 году король пускает корни в месте, которое он придумал, которое он любил и любил «чрезмерно», построенном им самим вокруг сердцевины из кирпича, камня и кровельного сланца, унаследованной от отца. Этот символ имеет огромное значение: он бы не существовал, если б король уступил всем этим архитекторам и министрам, которые бесконечно осаждали его, добиваясь разрушения старого дворца. «Двойной» Версаль вставлен один в другой, и это есть способ объявить: я унаследовал то, что вам известно, а вот что сделано мной. Мои потомки живут здесь, так как я этого хочу. Никто и через три века не сможет взглянуть на мой дворец, не оценив того, что я сделал, и не измерив моей славы «по мерке Версаля», как говорил покойный господин Кольбер – у него совсем не было воображения. Верно, как говорит маркиз де Сурш, что Версаль еще долгое время «заполняли каменщики». В 1682 году едва закончено Южное крыло. Строительство Северного начнется только в 1685-ом и продлится четыре года. Еще ведутся работы в Конюшнях. Начинают Главные службы. Церковь едва готова, но она временная. Лебрен до 1684-го будет загромождать лесами Зеркальную галерею. Нелегко представить себе придворную жизнь, церемониал, который она подразумевает, его повседневную организацию среди этой обширной стройки. Работы ведут тридцать шесть тысяч рабочих. Едва обосновавшись, король на целое лето едет в Фонтенбло, чтобы до осени не возвращаться.
Внутри приводят в порядок апартаменты, но больше всего работают в парке. Однако образ еще неотчетлив, кое-что будет отвергнуто, и это говорит о перемене взгляда на значение Версаля. Обширный план Ленотра не ставится под вопрос, его грандиозные линии и перспективы остаются в силе. Но в момент, когда оперные либретто Кино в большинстве заимствуют сюжеты из Овидия, кажется, что громадный мифологический парк, где царил Аполлон, – на пути трансформации в бесконечную иллюстрацию к «Метаморфозам». Аполлон больше не ко двору: король теперь обитает в этих местах самолично, и любезной его молодости образности больше не требуется. Грандиозный проект Лебрена не будет воплощен в парке – как и его аполлонический плафон в Зеркальной галерее. Вдоль перил партера Латоны и вдоль аллеи, ведущей к Аполлону, поместят, отчасти в случайном порядке, отчасти руководствуясь простой симметрией, копии антиков, выполненные учениками Французской Академии в Риме, больше не заботясь об идейном единстве мифологических сюжетов.








