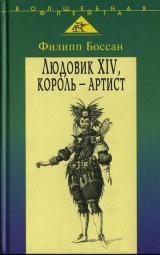
Текст книги "Людовик XIV, король - артист"
Автор книги: Филлип Боссан
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Эволюция Версаля продолжается. Взаимосвязь и различие между самой конструкцией дворца и духом празднеств, которые здесь проходят, между празднествами и мыслями короля о назначении дворца, не исчезают в тот день, когда король делает дворец своей резиденцией. Версаль теперь – повседневность, роскошная, какой ей и следует быть. Это по необходимости предполагает регулярность, если хотите, рутину в сферах музыки, танца, театра, оперы. 16 октября 1682 года, едва вернувшись из Фонтенбло, король предпринимает обширную реорганизацию жизни двора, его механизма, и это касается не только выхода, сна, ужина, совета, охоты, но и того, что называется «развлечениями»: музыки, театра, оперы, балов, игр. Король, устраиваясь в своем дворце, обустраивает также и удовольствия. По понедельникам, средам и пятницам – вечера в апартаментах, по другим дням – комедия или опера, каждое воскресенье – бал. Развлечения подчиняются календарю, чтобы превратиться в рутину.
Вошло в привычку обвинять мадам де Ментенон в несколько тягостной атмосфере этого позднего Версаля Людовика XIV. Мне кажется, это близорукий взгляд. Не она, а Людовик хотел или, по крайней мере, устроил все именно таким образом. Постоянство и размеренность жизни в домашней резиденции – не есть ли это естественное побуждение всякого человека, приближающегося к порогу старости? Что если вместо того, чтобы быть Королем-Солнцем, Людовик XIV всего-навсего обычный буржуа? Что он носит домашние туфли? Что дело идет к концу? Что он прекратил блуждать от Людр к Фонтанж и нашел убежище у камина с доброй serva padrona (38)?
Необходимо остановиться еще на некоторых общих соображениях. В 1683 году, конечно, и речи нет о том, чтобы погрузить Версаль в скуку, совсем наоборот. Нет нужды сомневаться, что, обосновываясь здесь, Людовик XIV представлял себе дворец в прежнем духе – местом театральных и музыкальных представлений. Мольера больше нет, но есть Люлли: этого вполне достаточно. Планировалось строительство большого зала для оперы и балета, располагающего сценой обширных размеров, допускающей большое количество действующих лиц. Вигара-ни, Ардуэн, Мансар начертили планы. Людовик XIV их одобрил и собственноручно подписал 17 февраля 1685 года, сохранились чертежи. Намечалось и строительство другого зала – для него также имеются чертежи. В ожидании, когда это будет сделано, приспособили маленький временный зал во дворе Принцев: он прослужит еще сто лет, а возведение большого оперного театра будет отложено до свадьбы Людовика XVI и Марии-Антуанетты.
Тем временем война с Аугсбургской лигой прервет работы: когда возможно будет их возобновить, будет слишком поздно – привычки установятся... «Ход вещей», как говорит мадам де Лафайет («При взгляде на французский двор все как обычно; существует некий ход вещей, который не меняется: всегда те же развлечения, всегда в то же время и всегда с теми же людьми...»).
Но нужно хорошо уяснить себе, что не таков был Версаль десятью годами ранее и что он был задуман как средоточие славы и удовольствий. И если хорошенько вникнуть в эту настойчивую идею короля, то становится ясно, что союз славы и удовольствия с необходимостью подразумевал изобретательность, творчество, новизну, театр, оперу, комедию, музыку. Жизнь распорядилась иначе. Однако не будем забывать, что если в Версале не построили театра, то не построили и церкви. Церковь была временной, как и зал для комедий. Она просуществует тридцать лет. Задуманная в 1682, начатая в 1689 и законченная в 1710 году постоянная церковь в итоге прослужит только последние пять лет перед смертью Короля-Солнца. Поэтому не будем возлагать ответственности за непостроенный театр на ханжество: ответственны войны, состояние финансов и только во вторую очередь – начиная с 1694 года, когда Боссюэ станет с кафедры метать громы и молнии по адресу комедии – подозрительность набожных в отношении театра.
Если нужны доказательства, то вот они: в мае 1682 года, едва только двор обосновался в Версале, король потребовал спектакля: им стала опера. В апреле Люлли в своем театре Па-ле-Рояль ставит «Персея». Вспомнили, что в 1674 году его «Альцесту» играли в Мраморном дворе – в этой чудесной театральной декорации, исполненной в мраморе вместо дерева и раскрашенного холста. Все суетятся: дано только 24 часа, чтобы превратить двор в театр. И вот в поддень начинается дождь, такой сильный и частый, что король решает отменить представление.
Люлли знал своего короля. И он в точности знал, что именно тот любит: напряженным усилием добиться успеха в чем-то, что казалось невозможным. Поставить спектакль за пять часов (мольеровский «Брак поневоле»), за три месяца построить Фарфоровый Трианон («как будто он вышел из земли вместе с садовыми цветами») или мраморный Трианон, за чуть больший срок («чтобы он был готов к моменту, который я указал»).
Повинуясь одному из тех внезапных озарений, на которые он был гений и которым он обязан карьерой, Люлли обещает королю, что представление состоится, и за несколько часов приспосабливает и превращает в театр зал Манежа Большой Конюшни.
«Театр, оркестр, высокий навес – ничто не было упущено. Огромное число апельсиновых деревьев невероятных размеров, которые очень трудно сдвинуть с места и еще труднее водрузить на сцену, находилось там. Весь задник был в листве, в настоящих зеленых ветках, нарубленных в лесу. В глубине и между апельсиновыми деревьями располагалось множество фигур фавнов и божеств и большое число гирлянд. Множество людей, знавших, как выглядело это место несколько часов назад, с трудом могли поверить своим глазам» («Французский Меркурий»).
Элемент чудесного составляет часть королевского имиджа. Иметь слуг, благодаря которым происходят чудеса, лестно и служит славе короля. Именно этого достиг Люлли, но Мольер знал это намного раньше. Всякий раз, как Мольер в предисловии подчеркивает быстроту сочинения и постановки пьесы, не верится, что это жалоба; это похвальба и одновременно подмигивание королю: «Вы пожелали, Сир, я исполнил». Черта эта в основе своей барочная и, если речь идет о Версале, еще сохраняется в 1680-е годы: итальянское fa presto[34]34
Сделать быстро (ит.).
[Закрыть]. К досаде Кольбера, царственность, по мнению Людовика XIV, есть черта барочная. Король уподобляется Богу, если строит так же быстро, как думает. Отсюда и королевское нетерпение. «Версальский экспромт», настоящий сюжет которого заключается в спешке актеров (комедианты стараются услужить королю), как и написанный за пять дней «Брак поневоле» – это маленькие жемчужины в здании его славы, точно так же как завоевание Голландии за четыре недели. Ибо если правда, что «Принцесса Элиды» наполовину в стихах, наполовину в прозе оттого, что Мольер не успел зарифмовать все до конца, значит, поспешность не считается недостатком: напротив, ею хвастаются.
Но Люлли в мае 1682-го пошел еще дальше. Дальше, чем сам король. Пока Расин с Фелибьеном восторгались быстротой королевских действий («В действительности, как смогут повторить потомки... за то самое время, какое требуется, чтобы через них проехать... дело семи недель»), король отменяет оперу из-за дождя. Но Люлли совершает то, что сам король не счел возможным. Он так хорошо постиг королевское барочное воображение, что добавил еще один брелок к мифу, на удивление не только публике, но и королю: за несколько часов он построил театр, где была сыграна опера, отмененная королем, который полагал себя подчиненным стихиям, ветру и дождю.
Именно из-за такого рода инициатив Людовик XIV «не мог упустить этого человека».
Domine salvum fac regem
[35]35
Править милостью Божьей (лат.).
[Закрыть]
Как мы уже имели случаи констатировать применительно к другим областям искусства (живописи, архитектуре), интерес, питаемый королем к музыке, – прямой, конкретный, если угодно, технический. Говорят, в этом он ученик Кольбера. Он всегда озабочен музыкой в своей церкви, ибо именно это – один из главных элементов королевской литургии на протяжении столетий. Но когда наконец в Версале будет построена церковь (чего придется ждать почти тридцать лет), вновь обнаружится королевская страсть, всегда одна и та же, проявляющаяся в маленьких конкретных деталях: тем более в музыке, которую среди других искусств Людовик XIV в особенности знал изнутри.
Музыка – это колебания воздуха. Но воздух всегда заключен в каком-либо помещении. Одно помещение всегда отличается от другого. Поэтому, когда в 1710 году будет наконец возведена новая церковь, король не удовлетворится любительским созерцанием ее архитектуры, даже созерцанием любителя просвещенного. Он сразу же проверит, какова она. Задолго до официального открытия он дважды, 25 апреля и 22 мая, устроит зданию, если угодно, прослушивание. Дневник Данжо: «Король вошел в новую церковь, которую тщательно изучил снизу доверху. Он велел спеть мотет, чтобы увидеть, какой эффект производит в этой церкви музыка».
Это тот самый король, который, как мы не раз видели, не умел судить об архитектуре по чертежам, пока здание оставалось на бумаге, и который приказал сломать крыши Трианона, показавшиеся ему непропорциональными. Но таков он и в отношении каждого певца, каждого музыканта: если музыка исполняется в конкретном месте, она также исполняется конкретными людьми.
«Королевской капеллой» назывался хор, в начале царствования Людовика XIV состоявший приблизительно из двадцати певцов. Согласно «Ведомости...» от 1702 года, хористов было 94 человека и они служили по шесть месяцев в году в течение сорока лет. Но Людовик XIV не дозволял принять певца в капеллу, не прослушав его самолично, причем несколько раз. Мемуары братьев Беш: «Он мудро судил, что существует огромная необходимость прослушать голос несколько раз перед тем, как принять решение допустить ли его на службу в капелле».
Он никогда не высказывался, не прослушав нового певца трижды. Он приказывал сначала другим музыкантам дать отзыв, затем – представить певца официально и слушал его пение в салоне Войны или «во второй комнате от салона Геркулеса».
Зимой 1683 года, едва устроившись, Людовик XIV организовал конкурс, чтобы набрать четырех «sous-maitres» (мы бы назвали их капельмейстерами), которые служили бы «поквартально», по три месяца в году каждый. Эта история заслуживает того, чтобы рассказать ее в деталях, ибо в этом весь Людовик XIV – такой, каким он был в двенадцать лет, каким он был в сорок, каким мы видели его в общении с архитекторами, внешне исполненным почтения «к тому, как всегда делается», но в итоге принимающим решение самолично.
Сперва бросили клич по всем соборам и церквам королевства: набралось тридцать девять кандидатов. Мотет каждого из них исполнили на королевской мессе. Для короля это было способом услышать сочинение каждого из них по очереди в своей церкви, в полном блеске. Осталось пятнадцать кандидатов.
«Французский Меркурий», март 1683 года: «Все музыканты в различные дни спели по мотету на королевской мессе, был выбран ряд тех, кто был сочтен лучшими, чтобы заставить их работать, и их заперли».
Иными словами, их посадили в отдельные комнаты, как еще иногда поступают на конкурсах и как отбирают на Римскую премию.
«Те, кто были заперты, вручили свои сочинения Королю в запечатанных конвертах. Вытянули конверты по жребию, чтобы спеть то, что в них содержалось, и когда всё было спето, избрали капельмейстерами четырех, преуспевших в этой последней композиции».
На этой стадии дело приобретает интерес. Конкурс, организованный по самым строгим правилам при соблюдении того, что мы бы назвали равенством возможностей, немедленно превращается в борьбу влияний. Удивительно наблюдать, как Людовик сначала повелевает говорить и решать тем, кто по служебному положению облечен властью делать это, как прежде повелевал говорить Лево, Мансару, Кольберу, предлагавшим ему архитектурные планы... Пьер Робер был капельмейстером, собирающимся покинуть свой пост, кардинал Летелье, архиепископ Реймсский – штатным капельмейстером, Люлли – суперинтендантом королевской музыки. «Господин аббат Робер, оставлявший руководство королевской капеллой, очень просил благосклонно принять господина Гупийе. Господин архиепископ Реймсский также просил Его Величество принять господина Миноре. Люлли, который протежировал господину Колассу, получил и для него квартал. Трое были назначены».
Но вот ответ короля. «Все три различные покровителя много превозносили достоинства трех новых капельмейстеров, и, желая предложить четвертого, король сказал им: "Господа, я принял тех, кого вы мне представили; справедливо, чтобы и я выбрал подчиненного по своему вкусу, и я выбираю Лаланда"». Самое любопытное заключается в том, что из всех четырех выбор короля был наилучшим; рядом с Гупийе, Миноре и Ко-лассом (39) Делаланд – гений, который станет величайшим музыкантом второй половины царствования Людовика.
Мишелю-Ришару Делаланду не было и тридцати. Шаг за шагом он станет суперинтендантом, капельмейстером камерной музыки, композитором камерной музыки, композитором капеллы, объединив в своих руках девять из десяти крупных музыкальных должностей при дворе: деспот Люлли никогда не знал такой власти. Жена Делаланда Анна Ребель и две их дочери были певицами; шурин Жан-Фери Ребель и племянник Франсуа Ребель занимали важные посты. Если Люлли был первым музыкантом первого царствования Людовика XIV, нет сомнений, что Лаланд был первым музыкантом второго.
Но прежде всего он был им по своему духу и по своему дарованию. Горячему Флорентийцу, быстрому и шустрому, игривому и строптивому, вольному и фривольному, путанику и распутнику, язвительному self-made man'y, наследует человек, который во всем показывает себя приверженцем порядка, аккуратности, пунктуальности, серьезности и достоинства. Он скромен, несмотря на должности, которые накапливает, и почести, которые коллекционирует: о нем не ходит слухов и тем более – непристойных анекдотов. Строго говоря, о нем ничего неизвестно. Если он пришел почти ниоткуда (мог ли сын портного из квартала Сен-Жермен-л'Оксерруа завидовать сыну мельника из Санта-Мария нель Прато?), то отнюдь не по-гусарски завоевывал места и должности, но постепенным восхождением, ступенька за ступенькой, – и с такой быстротой, с такой решимостью. Ему не было и двадцати, когда он стал штатным органистом четырех парижских церквей. В двадцать шесть он достигает королевской капеллы. И вот итог: по смерти своей жены Анны он от всего отказывается и удаляется в уединение – не в социальном смысле, но почти в религиозном. Самый могущественный музыкант королевства уходит, даже не разбогатев. Как он далек, и в этом тоже, от пятидесяти двух мешков золота, обнаруженных в погребе Флорентийца после его смерти!
Его творчество соответствует его облику: серьезное, мощное, сложенное из крупных конструкций и проработанное в деталях. Его большие мотеты передают на символическом языке того времени ясные и подлинно духовные размышления. Немного суровые, но без янсенизма; немного театральные, но не более, чем было принято в век, когда все было театром. Чтобы сказать кратко: духовные без ханжества. И так же как творчество Люлли есть лирическое и эпическое преображение первого царствования, наверняка Делаланд умел выявить то, что было лучшего в серьезности второго: он умел его возвеличить и облагородить, возвышая своим творческим гением то, что в царствование мадам де Ментенон и стареющего короля могло показаться чопорным и напыщенным.
В отношении близости к королю Делаланду не в чем было завидовать Люлли, Мольеру или Расину. Он сам рассказывает, что сочиняя придворные дивертисменты, жил, по приказу короля, во дворце (как тридцать-сорок лет назад жил во дворце Лебрен), чтобы тот имел возможность приходить наблюдать за работой, обсуждать, критиковать и комментировать. «Его Величество приходил проверять несколько раз на дню и застав-лет вносить поправки до тех пор, пока не оставался доволен». И если хотят измерить, до каких пределов могло простираться королевское вмешательство в процесс создания произведений искусства или обнаружить лишнее доказательство сентиментальной привязанности, которую король не переставал питать к тому, что однажды полюбил или что доставляло ему удовольствие, то вот что рассказывает первый биограф Делаланда Таннево (40) после смерти короля и музыканта: «Во времена покойного Короля он начал делать некоторые изменения во многих своих старых мотетах»; Его Величество, узнав об этом, «не дал ему продолжать, чтобы успехи, которые автор сделал на его глазах, остались более явными, чтобы сохранить изящество и наивные красоты его первых произведений, наконец, из страха, чтобы это занятие не отняло у него слишком много времени и не помешало бы ему сочинять новые вещи.
После смерти Людовика XIV Лаланд вновь захотел последовать своему первоначальному намерению, и тогда его единственным занятием стало исправление произведений, в которые он желал внести изменения, но не искажая ничего ни в напевах, ни в темах; ибо и те, и другие оставались для него священны, неся в себе память о вкусе, выгоде и многократном одобрении великого Короля, которому он служил».
Наконец, если захотят, по контрасту, узнать о теплых личных отношениях, которые, вопреки застылости этикета, связывали короля и любимого им художника, выраженных первым в некоторых столь кратких фразах, секретом которых он владел, вот одна такая фраза. Сухость публично сказанных слов в совершенстве выдает здесь очевидность эмоций двух собеседников. Известно об ужасающей эпидемии, от которой в 1711 году один за другим умерли Великий Дофин – Монсеньор – герцог Бургундский и все потомки Короля-Солнца (41), кроме маленького Людовика XV; известно о подавленном состоянии короля, на глазах которого угасал его род. Две дочери Делаланда, очень любимые отцом, певшие в капелле, о чьих восхитительных голосах говорят нам все мемуары, умерли в ту же злосчастную неделю, что и дети и внуки короля:
«Через несколько дней после смерти своих дочерей господин Делаланд появился перед королем, не смея приблизиться к Его Величеству из страха напомнить ему о потере сына, которую тот только что понес, но король был так добр, что подозвал его и сказал: "Вы потеряли двух достойнейших дочерей, я потерял Монсеньора". И, указывая на небо, король добавил: "Лаланд, нужно покориться"».
«Эсфирь»
Итак, именно духовная музыка становится после 1685 года средоточием художественного творчества. Именно в этой области умножаются шедевры, не только Мишеля-Ришара Делаланда, но также Демаре, Куперена, Луи Маршана... Именно здесь сосредотачивается любовь к музыке, которую Людовик XIV всегда проявлял и которая нисколько не уменьшилась.
В других сферах – таких, как камерная музыка, которую старый король очень любил, – еще создавались прекрасные произведения (42). Что касается театра, то каждую неделю в крошечном, вечно временном зальчике во дворе Принцев поочередно видели то французских, то итальянских актеров, которые приезжали играть пьесы из своего репертуара.
Но поразительно, что с 1685 по 1715 годы, до смерти короля, в Версале не состоялось ни одной премьеры. Это удивляет, если вспомнить произведения, сочиненные для Версаля в прошлые годы и впервые сыгранные именно там: от «Версальского экспромта» до «Ифигении», от «Принцессы Элиды» до «Жоржа Дандена». Почему теперь такое молчание? Почему король так резко перестал быть побудителем, инициатором, подстрекателем и вдохновителем, каким он бывал когда-то, или, во всяком случае, меценатом, каким оставался столь долгое время? По безразличию? Разумеется, нет. В приступе раскаяния, когда начиная с 1694 года церковь стала горячо высказываться против комедии? Отчасти, несомненно, да. К тому же факт, что Расин с 1677 года тоже молчит. И без всякого сомнения, он молчал бы до конца, если б не обстоятельства, которые привели его к написанию «Эсфири и «Аталии», когда мы внезапно вновь видим короля, охваченного страстью к театру: пути покровительства Аполлона столь же скрытны и столь же неисповедимы, как и пути Отца нашего Небесного. И если сам Версаль молчит, то основание мадам де Ментенон Сен-Сира на начальном этапе оказалось продолжением Версаля.
Мадам де Ментенон можно назвать «первой учительницей франции», и это звание не будет незаконно ею присвоенным. В XVII веке обучение девушек в монастырях было довольно скудным, и она испытала это на себе: оттуда она вынесла страсть к образованию. Кстати, именно тщательность в воспитании королевского потомства обратила на нее внимание Людовика XIV: он ценил привязанность, которую она питала к детям (43). С того времени, как она заняла место тайной супруги, она задумала проект Сен-Сира (1684): дома, где бы получали образование девушки, благородные и бедные, какой была она сама.
Ей повезло, что в ее проекте почти равное с ней участие принял король, в 1670 году основавший военные академии для сыновей погибших или раненых на королевской службе. С самого начала Сен-Сир не должен был быть монастырем: «Ничего, что его напоминает, ни во внешних порядках, ни в одежде, ни в многочисленности служб, ни в жизни». Речь идет о светском воспитании юных девушек. Чтение, музыка, беседы, приятные манеры – все, что могло помочь им хорошо выглядеть, что было бы к месту. Нужно подчеркнуть оригинальность и новизну для 1685 года подобной программы, предназначенной для девушек (44).
Театр самым естественным образом занял здесь свое место. В Сен-Сире играли отрывки и трагедий («Цинна», «Андромаха»), и скверных пьес, написанных начальницей, мадам де Бринон. В целом подражали методу, по которому иезуиты воспитывали мальчиков: любопытно сравнить – у отцов играется «Давид и Ионафан» с музыкой Марка-Антуана Шарпантье, в следующем году в Сен-Сире – «Ионафан» Дюше де Ванси с музыкой Жана-Батиста Моро.
Именно тогда у мадам де Ментенон родилась великая идея: потребовать от придворного писателя, королевского историографа, автора «Идиллии мира» Жана Расина «род поэмы на какой-либо благочестивый или назидательный сюжет, где пение было бы соединено с повествованием, причем то и другое должно быть связано с действием, которое сообщало бы вещи живость и не могло бы наскучить. Пьеса предназначалась бы только для Сен-Сира и не показывалась бы широкой публике».
Расин колеблется. Затем у него также рождается гениальная идея: он выбирает сюжет об Эсфири. Предложить мадам де Ментенон историю бедной и прекрасной молодой женщины из гонимого племени, которую полюбил и сделал своей супругой король, вопреки ее происхождению, – какой сюжет! (45) Хорошенько осознаем, о чем идет речь: о внутреннем «развлечении» для Сен-Сира. Нет сомнений, что образцом служит большой придворный спектакль. Произведение должно быть сыграно «девочками» и спето ими на музыку Жана-Батиста Моро, почтенного ученика Люлли.
Но король интересуется Сен-Сиром – учреждением, столь дорогим сердцу его супруги. Он несколько раз приезжает сюда. Для него играют, читают, поют. Сохранились рассказы о некоторых из этих визитов и даже музыка, которой его угощали. С тактом и утонченностью проницательного придворного, каким он и был, Расин нашел сюжет и написал тонкую, нежную пьесу, точно соответствующую ситуации: прекрасную, простую, наивную, трогательную. Ошибка, в которую впадают в наши дни, – играть «Эсфирь», приглашая актеров-мужчин, а на роль Мардохея даже и мужчин зрелого возраста: роль была задумана для шестнадцатилетней девушки и для ее голоса. С участием мужчин «Эсфирь» кажется хилой и немного пресной – сыгранная подростками или молодыми женщинами, она трогательная и захватывающая. Достаточно часто отмечали, что Расин всегда писал для конкретных голосов: для Дюпарк (которая никогда не играла в «Федре») или для Шан-меле (которая не участвовала в премьере «Андромахи»).
В течение всей зимы 1688 года Расин сам прорабатывал с девушками стих за стихом, как он делал это с Шанмеле. Он даже доводил их до слез. Именно тогда этот маленький монастырский спектакль начал превращаться в государственное дело. Король вновь открыл для себя удовольствие, которое привык испытывать, наблюдая, как на его глазах рождается опера: Кино читал ему текст, Люлли устраивал репетиции в его апартаментах. Насколько опера была королевским выбором, настолько «Эсфирь» была на пути к тому, чтобы стать его делом; а когда Людовик XIV начинает увлекаться, мы уже знаем, к чему это приводит. Репетиции, а затем представления «Эсфири» приобретут королевские масштабы.
Дневник Данжо, 7 января: «После обеда Король во второй раз посетил с мадам де Ментенон репетицию трагедии об Эсфири с симфонией. Месье и господин Принц были там».
Это не в первый раз: он интересуется спектаклем с ноября 1680 года. Из Сен-Сира девушек перемещают в Версаль, чтобы они могли репетировать перед королем. И тогда – несомненно, по его наущению – мадам де Ментенон заказывает роскошные театральные костюмы. Король предоставляет в ее распоряжение драгоценности, некогда служившие реквизитом для придворных балетов, которые он сам носил на сцене: 1200 «блестящих камней», колье и гарнитуров. Жан Верен, королевский художник и декоратор Оперы, получает приказ построить декорации, трон Артаксеркса, задники, кулисы, бутафорию...
«Эсфирь» становится трагедией на музыке, какой до нее была «Психея». В «симфониях» органист Королевской капеллы Нивер играет на клавесине и руководит толпой камермузы-кантов, хор девушек-воспитанниц дополнен придворными певицами, «которые смешались с ними»,
26 января, в день первого спектакля, несколько десятков тщательно отобранных почетных гостей направляются к Сен-Сиру. Данжо пишет в своем дневнике: «Из придворных там были господа де Бовийе, Ларошфуко, де Ноай, де Брион, де Лазаль и де Тайаде, во второй карете Король, господа де Лувуа, Де Шеврёз, епископы Бове, Мо и Шапон-сюр-Саон, господа Де Моншеврей, д'Обинье и я». 28-го числа, после второго спектакля, мадам де Севинье пишет: «Король нашел его восхитительным; господин Принц плакал». Вновь играли 3,5,9,15 и 19 февраля, и мадам де Лафайет заключает, со своими обычными шпильками: «То, на что смотрели как на монастырскую комедию, стало самым серьезным делом Двора. Чтобы отправиться на эту комедию, министры оставляли самые спешные дела» («Мемуары о французском дворе за 1688 и 1689 годы»).
«Король получал столько удовольствия от этих развлечений, что визировал список приглашенных; этот список вручали швейцару, и когда король прибывал, он помещался у дверей изнутри и, держа свою трость так, чтобы она служила барьером, оставался там, пока все люди не проходили, затем он приказывал запереть двери» («Мемуары о дамах Сен-Сира»).
Именно интерес, который Людовик XIV испытывал к спектаклю (он присутствовал на всех представлениях и дважды привозил туда английского короля), придал ему особый смысл.
Вопрос, который необходимо задать, – откуда эта страсть, дошедшая до того, что заставила его играть роль билетерши, рассаживая своих гостей. Во-первых, «Эсфирь» доказывает нам, что в 1689 году увлечение короля спектаклями не ослабело, лишь трансформировалось. «Эсфирь» – благочестивая и чинная версия трагедии на музыке. Далее – это новый род придворного балета, даже если в нем не танцуют, а вместо этого юные протеже мадам де Ментенон становятся здесь актрисами и певипами, подобно Людовику в их возрасте. Расин занял место Люлли. Библия заняла место Ариосто, Тассо и Овидия. Таким стал придворный спектакль; Сен-Сир отныне – продолжение Версаля и его заместитель, так как за неимением большого театра (от постройки которого не отказывались) король не может устроить спектакль в своем собственном дворце.
Образовательный проект мадам де Ментенон сворачивает с пути и становится придворным спектаклем из-за интереса, проявленного к нему королем.
Едва закончились представления «Эсфири», король «приказал Расину работать над новой пьесой для следующего года» (Мемуары Мансо, интенданта Сен-Сира). Ею стала «Аталия»; библейская трагедия, превратившаяся в официальный придворный спектакль.
Что касается Расина, он никогда не чувствовал себя при яворе лучше, чем теперь. Каждую минуту находясь в Сен-Сире, прорабатывая каждую роль, как некогда с Шанмеле, присутствуя на каждой репетиции и на каждом спектакле, он никогда не был так близок к королю. 28 сентября 1689 года Данжо замечает: «В Марли. Король заставил Расина поехать сюда с ним и дал ему комнату». Он прекратил писать трагедии, чтобы стать королевским историографом: отныне сам король восстановил его в роли человека театра.
«Эсфирь», семикратно сыгранная зимой 1689 года, была еще семь раз повторена в январе и феврале 1690-го. В 1691-ом увлечение продолжается, предвкушают равный успех «Аталии»: из этого ничего не вышло. Ситуация тем временем переменилась. Мадам де Ментенон поняла, до какой степени ее образовательному проекту грозит превращение в придворный спектакль, и испугалась. С другой стороны, яростное осуждение исходило от некоторых духовных лиц, среди прочих от кюре Версаля и епископа Шартра (к которому относился Сен-Сир). Мадам де Ментенон даже потребовала от Расина прекратить сочинение «Аталии». Король воспротивился: он дорожил своим спектаклем... В конце концов трагедия была представлена без декораций, без костюмов, почти без публики-то ли в Сен-Сире, то ли в Версале, в комнате мадам де Ментенон.
Возрождение королевского театра, наметившееся благодаря библейской трагедии, о котором король, казалось, так мечтал, оказалось очень недолгим. До самой смерти короля в Версале больше не будет ни одной театральной премьеры.








