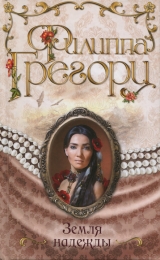
Текст книги "Земля надежды"
Автор книги: Филиппа Грегори
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Дом, эта простая маленькая коробка из свежесрубленной древесины, стоял на квадрате расчищенной земли. Джон повалил только те деревья, что были нужны для строительства. Ненужные ветки и прочий древесный мусор все еще валялись в полном беспорядке вокруг.
Джон остановился на склоне и полюбовался домом. Дом был квадратным, немногим больше сарая или простой хибары, но Джон сам валил деревья для постройки, сам строгал доски для двери, вставлял грубые рамы в оконные проемы и вязал для крыши снопы из тростника. И теперь он гордился результатом.
Подойдя поближе, он посмотрел на дом внимательнее. С одной стороны от двери он посадил черенок, который срезал, когда впервые ступил на свою новую землю. Он принялся, Джон увидел свежий зеленый побег лианы, которая в начале лета расцветет пышными золотыми цветами, как турецкая настурция. Но с другой стороны двери, там, где он еще ничего не делал, кто-то вскопал землю, очистил ее от камней и посадил еще одно вьющееся растение, которое он не мог распознать и которое уже выбросило стрелку, коснувшуюся новенькой стены. Значит, совсем скоро, может, уже этим летом, дверь будет обрамлять какой-то новый цветок, посаженный кем-то другим.
Сначала Джон подумал, что цветок посадила Сара, в одно из редких мгновений отдыха, пока строители работали на крыше. Но потом понял, что Сара посчитала бы такое занятие пустой тратой времени и просто суетностью – пренебрежением действительными задачами дня. Никто, из строителей и подавно не озаботился бы таким легкомысленным делом. Бертрам Хоберт не мог отличить одно растение от другого, разве что табак от кукурузы. А больше там, в маленьком домике в лесу, никого не было.
Джон притих на мгновение, потом повернулся к темнеющему лесу.
– Сакаханна? – прошептал он зеленым теням. – Сакаханна? Любовь моя!
Она не пришла к нему, хотя в ту ночь, лежа на голом полу своего дома, он не сомкнул глаз и надеялся на ее появление, уверенный – она в лесу и ждет его. На рассвете он поднял деревянный засов на своей новой двери и направился в лес, песнями приветствующий утро. Он все время оглядывался, ожидая, что она вот-вот появится между деревьев и подойдет к нему. Ее не было.
Он спустился к реке, почему-то надеясь, что она вынырнет из ледяной воды, с ножом в руке и пригоршней пресноводных мидий в маленьком мешочке. Но вода оставалась серой, и только легкий утренний ветерок покрывал ее поверхность рябью.
– Прости меня, – произнес он, обращаясь к безразличным деревьям, птичкам, беспечно распевающим на высоких ветвях. – Как только я вернулся домой, я узнал, что мой отец умер… у меня было столько дел. Мои дети нуждались во мне, и я должен был работать…
Он помедлил. Даже зная, что его слышит только густой лес, он сознавал, что лжет, умалчивая об Эстер.
– Я никогда не забывал тебя, – сказал он. – Даже на войне, когда я дрался за короля, я думал о тебе каждый день и видел тебя во сне каждую ночь.
По крайней мере, эта часть его речи была почти правдивой.
Он ждал. От реки за его спиной донесся громкий всплеск. Джон круто развернулся. Но на поверхности воды остался только расплывающийся круг, там, где выпрыгнул лосось или нырнула выдра. Сакаханны там не было. Ни в реке, ни среди деревьев.
Джон покрепче закутался в куртку и пошел в дом.
Джон открыл непочатый мешок с кукурузной мукой и поставил котелок на тлеющие угольки в очаге. Он нагрел воды так, чтобы хватило и умыться, и попить, и сделать саппон на завтрак.
– Сегодня вечером отправлюсь на охоту, – сказал он пустому дому. – Я не могу жить на этом пойле.
Он умылся, но не стал утруждать себя бритьем.
– Я отращу бороду и усы, как отец, – сказал он пустой комнате. – Кто меня тут видит, в конце концов?
Половину теплой воды из котелка он отлил в кувшин, в оставшуюся воду всыпал ложку кукурузной муки и стал размешивать, пока каша не загустела. Еда была теплой, а он – голодным. Он постарался не обращать внимания на то, что вкуса в еде не было никакого.
Потом он отнес миску, ложку и котелок к реке и вымыл посуду, внимательно поглядывая на тростник слева от себя, ожидая, не зашевелится ли он в том случае, если Сакаханна прячется там, наблюдая за ним и смеясь над тем, что ему приходится делать женскую работу. Потом он набрал в котелок свежей воды и вернулся в дом.
Комната оставалась молчаливой и пустой. Джон снял свой топор с крючка над очагом и вышел, чтобы нарубить дров из поваленных деревьев, все еще валяющихся перед домом. С основной работой по валке леса для того, чтобы расчистить землю под посадки, придется подождать. Дрова сейчас были важнее.
Огонь в очаге ни в коем случае не должен был угаснуть. Об этой опасности его много раз предупреждали еще в Джеймстауне, но то было в городе. Там всегда можно одолжить пару пылающих угольков у соседей и принести их домой на лопате. Здесь же, в диком лесу, огонь был животворящей искрой.
Когда огонь гас, на то, чтобы его зажечь снова, могла уйти пара часов, при условии, что есть хорошее огниво и сухое дерево. А если холод и тьма уже надвигаются, то это время может оказаться очень долгим. Если стая волков наберется храбрости и подберется к самой двери, то, коль нет огня и света, чтобы отпугнуть их, да и из мушкета без огня не выстрелить, это время покажется целой вечностью.
Большую часть утра Джон отвел на то, чтобы нарубить полешек. Потом он сложил их с обеих сторон очага, чтобы они просохли. Он открыл дверь из грубых досок и посмотрел на реку. Все тело болело от усталости, а ведь он всего-то и наработал, что нарубил запас дров на пару дней, не больше. На обед у него не было ничего, кроме каши из кукурузной муки, а на ужин и вовсе пусто.
Он поставил котелок на огонь, чтобы нагреть воды, и впервые его посетило мрачное предчувствие того, что выжить без борьбы в этой стране, которая уже не казалась ему легкой и изобильной, невозможно.
– Я должен подумать, – сказал Джон молчащему дому. – Мы с Сакаханной каждый день ели как короли, и она не рубила дрова целое утро. Я должен попробовать жить, как она, а не как англичанин.
Он выскреб из миски остатки каши и отставил ее в сторону.
– Я поставлю ловушку на рыбу, – решил он. – А ближе к вечеру, когда птицы возвращаются в гнезда, подстрелю парочку голубей.
Он почувствовал, как рот его наполнился слюной при мысли о жареном голубе.
– Я сумею все это проделать, – пообещал он сам себе. – Я смогу научиться жить здесь, я еще молод. А потом, когда ко мне приедут Сара и Бертрам, она научит меня печь хлеб.
Он еще дальше отодвинул от себя миску и ложку и направился к куче своих пожитков, чтобы отыскать кусок веревки.
– А теперь возьмемся за ловушку на рыбу.
Джон видел такую ловушку в Джеймстауне и наблюдал, как Сакаханна сплетала ее из побегов лиан и пары прутиков. Она потратила на эту работу два вечера, а на третий вечер они ели жареного карпа. Джон купил ивовые обручи и веревку в Джеймстауне. Ему оставалось только сплести сеть, которая могла бы удержать рыбу.
Он вышел из дома, прихватив обручи и веревку, сел на пень там, где пригревало солнышко, и принялся за работу. Сначала он завязал ряд узлов вокруг большого обруча, который должен был стать горловиной ловушки. Рыба должна была заплыть внутрь, а потом проплыть через несколько обручей, пока не поймается в маленькое пространство в самом конце лабиринта и уже не сможет выбраться наружу.
Джон обвязал первый ряд и принялся за второй. Работа была мудреной и непростой. Но Джон был человеком терпеливым и целеустремленным. Он склонился над своим рукоделием, скручивая веревку, завязывая узлы, переходя к следующему ряду. Он не замечал, что солнце готово скрыться за деревьями, пока спина не замерзла, оказавшись в тени. Тогда он выпрямился и встал.
– Ей-богу, хитрая работенка, – сказал он.
Он занес веревки и обручи в дом и сложил все рядом с очагом. Огонь еле горел. Джон подложил еще пару поленьев и снял со стены мушкет. Зарядил его, засыпав пороху и протолкнув в ствол пулю, потом насыпал щепотку пороху на полку, чтобы все было готово для того, чтобы поджечь фитиль. Потом нагнулся к огню и поджег длинную бухту промасленной веревки, служившей фитилем. Когда фитиль загорелся, он зажал его между большим и указательным пальцами, стараясь держать подальше от полки, и тихо вышел из дома.
Деревья были так близко, что Джон присел на корточки прямо на пороге дома с вьющейся лозой с каждой стороны и смотрел на открытое небо, ожидая, пока лесные голуби полетят на ночь в свои гнезда. Над ним пронеслась огромная стая, и Джон подождал, пока они рассядутся по деревьям. Одна толстая, самонадеянная птица уселась на ветку, прогнувшуюся под ее тяжестью. Джон подождал, пока ветка не перестала качаться, потом тщательно прицелился и прикоснулся тлеющим фитилем к пороху.
Ему повезло. Звук выстрела был похож на пушечный залп, раздавшийся в этой девственной земле. Стая голубей с шумом и треском сорвалась с деревьев в вихре беспорядочно машущих крыльев.
Только птица, в которую целился Джон, не смогла взлететь. Она по спирали падала вниз, одно крыло сломано, кровь текла по грудке. Джон бросил на землю мушкет и фитиль и пятью гигантскими прыжками преодолел расчищенную площадку.
Птица пыталась спастись, одно крыло скребло по земле, но Джон схватил голубя и милосердно быстро свернул ему шею. Он почувствовал, как маленькое сердечко забилось, а потом остановилось. Он вернулся в дом, положил птицу рядом с очагом, рядом с неоконченной ловушкой, и перезарядил мушкет.
Солнце быстро садилось, становилось все холоднее и темнее. Голуби, оправившись от испуга, покружили над маленькой полянкой и снова расселись на деревьях. Джон прицелился, выстрелил, и птицы снова взмыли в небо, но только на сей раз на землю ничего не упало.
– Только одна, – сказал Джон. – Ну, что ж, по крайней мере, на ужин хватит.
Он тщательно ощипал птицу и сложил перья в свернутую тряпку.
– Когда-нибудь у меня будет из этого подушка, – с наигранной бодростью сообщил он темной комнате.
Он выпотрошил птицу и бросил внутренности в горшок с водой, стоявший на огне. Из этого должен был получиться суп. Потом разделил тушку на четыре части, аккуратно насадил их на острые зеленые прутики и развесил прутики над горшком с супом так, чтобы сок с мяса попадал в горшок.
Время, затраченное на ожидание, казалось оголодавшему Джону бесконечным. Но он заставил себя не торопиться и не отвлекаться от процесса поворачивания кусков дичи, пока кожица не стала золотистой, а потом коричневой и наконец хрустящей и черной.
– Ну, дай бог, чтобы уже наконец было готово, – пылко выговорил Джон, желудок у него уже бурчал от голода.
Он взял свой вертел и ножом спихнул кусочки с обуглившегося прутика на деревянный поднос. Мясо было усеяно горелым деревом. Джон смахнул щепочки и потом взял маленькую ножку. Она была восхитительна: горячая, сочная, вкусная.
Джон обжег губы о горячую кожицу, но ничто не могло удержать его от того, чтобы вонзить зубы в мясо. Он съел все до последнего кусочка, потом благоговейно бросил обглоданные кости в свой котелок. Впервые за все время в своем маленьком доме он оглянулся вокруг с чувством, хоть чем-то похожим на уверенность в себе.
– Это было хорошо, – мирно сказал он, рыгнув сыто и удовлетворенно. – Это было просто отлично. Завтра снова буду охотиться. И на завтрак у меня будет суп. Мужчина не может работать на земле, когда у него в животе только каша.
Он выковырял из зубов кусочек мяса.
– Ей-богу, это было недурно.
Джон сбросил сапоги, подтащил свой мешок и запасную куртку и свернул их под головой вместо подушки. Потом накрылся сверху походной накидкой и тканым ковриком. Он приоткрыл один глаз проверить, в безопасности ли огонь и ловушка для рыбы.
И тут же уснул.
Май 1643 года
На следующий день Джон еще часок поработал над ловушкой и поставил ее в холодную воду с быстрым течением. Ощущение в желудке от вчерашнего мясного ужина было куда приятнее, чем от каши. Весь день он чувствовал себя сильным и более уверенным, но на следующее утро был еще голоднее, как будто тело настоятельно требовало мяса. Накануне на завтрак он съел суп из голубиных косточек и потом, в середине дня, доел его, уже разбавленным и не таким вкусным.
Около полудня он пошел взглянуть на ловушку и обнаружил в сетке небольшую форель.
– Слава богу! – истово возликовал Джон, в душе благодаря самого себя.
Осторожно поддерживая свой трофей, он вынул ловушку из реки, потом стукнул трепещущую маленькую рыбку по голове, почистил ее и выпотрошил. После того, как он отрезал голову и хвост, от нее мало что осталось, но он опустил рыбу в котелок, добавил немного воды и всыпал туда же сухой кукурузной муки, чтобы бульон вышел понаваристей. Содержимое котелка Джон поставил на слабый огонь и прокипятил. Потом оставил охлаждаться до ужина.
Эти основные продукты и составляли его стол. Монотонная скука кукурузной муки, служившей и кашей, и овощами, и соусом, а время от времени мясо или рыба. Джон медленно привыкал, но с аппетитом и удовольствием лакомился только в мучительных мечтах о пирах в Ламбете: великолепных обедах на Двенадцатую ночь, богато накрытых столах на Пасху.
Каждый день он начинал с колки дров, потом отправлялся в лес, стараясь найти какие-нибудь ягоды или орехи, которые собирала Сакаханна. Но на ветвях красовались только свежие зеленые листочки, а орехи или сдули зимние бури, или съели белки и мыши.
Лес не был таким дружелюбным к Джону, каким был к Сакаханне. Всюду, куда только падал ее взгляд, там были еда или инструмент, лекарство или полезные травы. Всюду, куда смотрел Джон, все было незнакомым.
Так проходили долгие недели. Наконец он таки додумался, что новое и незнакомое ему уже приелось. Его отец любил все редкое и необычное, и Джон унаследовал эту любовь. Всю жизнь их главной радостью было обнаружить нечто, отличавшееся от общеизвестного, – новые растения, новые цветы, новые экспонаты.
Но сейчас Джон оказался в мире настолько новом, что все для него было чужим. Здесь он ощутил, что, вероятно, его любовь к новизне проявлялась только тогда, когда это новое встречалось на фоне хорошо знакомого. Ему нравились экзотические цветы, пока они росли в его английском саду в Ламбете. Значительно труднее было восхищаться незнакомыми цветами, когда они росли у подножий экзотических деревьев под чужим небом.
– Я потрясен до глубины души, – с внезапным изумлением сказал Джон в середине второго месяца, когда сильнейшая тоска по Ламбету и детям, и даже по Эстер, накрыла его такой мощной волной, что он пошатнулся, как от физической слабости, и вынужден был опереться на ствол дерева, чтобы устоять на ногах.
– Ей-богу, я тоскую по дому. Уже недели, нет, месяцы прошли с тех пор, как я поселился здесь, и я не говорил ни с одним мужчиной и не видел ни одной женщины с того самого момента, как уехали Хоберты. Я так скучаю по дому. Боже мой, как я одинок.
Он обернулся, чтобы взглянуть на маленькую полянку и дом, маленький и грубый, как деревянный ящик, сколоченный неумелым подмастерьем. На Джона нахлынуло ощущение того, каким крошечным казался домик в сравнении с бесконечностью леса, и дыхание у него перехватило от испуга.
– Но я строю здесь свой дом! – упрямо сказал он.
Ветер, сильный порыв ветра тронул верхушки высоких крепких деревьев, как будто сам лес расхохотался над глупой гордостью человека, решившего, что он может построить себе дом посреди нетронутой природы.
Джон мог проработать здесь всю свою жизнь и никогда не продвинуться ни на шаг дальше простого выживания. Он никогда не сможет построить дом, похожий на дом в Ламбете, никогда не вырастит сад, такой, как в Отлендсе. Все те достижения, на которые ушли годы упорного труда, были возможны в обществе, богатом трудом. Отними у человека это богатство – работу многих пар рук и многих умов, – и человек превратится в животное посреди леса. Даже меньше чем простое животное, потому что у каждого животного в лесу есть свое место в масштабах бытия, пища, которая ему подходит, дом, который его устраивает, тогда как Джону приходилось бороться за то, чтобы раздобыть достаточно пропитания в этой изобильной земле, и очень стараться, чтобы сохранить огонь, согревающий его дом.
Его накрыло чувство отчаяния, такое же реальное, как темнота.
«Я вообще могу здесь умереть», – подумал Джон.
Он уже давно перестал говорить сам с собой вслух. Само молчание леса казалось слишком величественным, чтобы оскорблять его своим ничтожным голоском.
– Я здесь умру!
Каждая новая мысль, казалось, расширяла пропасть, распахнувшуюся у него под ногами.
– Я пытаюсь обосноваться здесь, вдали от детей, от жены, от друзей. Я пытаюсь прижиться там, где я совершенно одинок. И рано или поздно от несчастного случая, или от болезни, или от старости я здесь умру. Я умру в одиночестве. Ведь на самом деле, если я хотя бы один-единственный день не смогу встать, принести воды, наколоть дров, поохотиться или порыбачить, я здесь умру. Я могу умереть от голода раньше, чем кто-нибудь приедет сюда.
Джон оттолкнулся от дерева, но обнаружил, что едва держится на ногах. Он ослабел от чувства одиночества и страха. Шатаясь, он пошел обратно к дому и возблагодарил Бога, что, по крайней мере, из трубы курился слабый дымок, а в котелке еще осталась кукурузная каша. Джон почувствовал, как горло его сжимается при мысли о том, что снова придется есть холодную кашу. Он упал на четвереньки, и его вырвало.
– О боже мой, – сказал он.
Изо рта вытекла тоненькая струйка слюны. Он вытер рот рукавом. Толстая домотканая коричневая ткань рукава воняла. Он заметил это, когда поднес рукав к лицу.
– Моя одежда воняет, – сказал он с тихим удивлением. – Я сам, должно быть, воняю.
Он тронул рукой лицо. Выросшая борода была спутанной и грязной, вокруг рта висели длинные усы.
– И дыхание у меня наверняка воняет… Я грязный, – тихо сказал он. – Я такой грязный, что уже не чую собственный запах…
Поняв это, он почувствовал себя жестоко униженным. Джон Традескант, в котором мать души не чаяла, единственный наследник своего отца, превратился в грязного зачуханного бродягу, цепляющегося за жизнь на границе знакомого мира.
Он заставил себя подняться на ноги. Казалось, небо опускается на него, будто он был крошечным, крошечным насекомым, с неослабевающим упорством пересекающим большой лист на дереве в лесу, в стране, такой огромной, что редко кто из людей мог пересечь ее.
Спотыкаясь, Джон добрался до двери и распахнул ее. И только войдя в тесную комнатку, он смог восстановить чувство соразмерности с окружающим миром.
– Я – человек, – сказал он четырем грубым деревянным стенам. – Не маленький жук. Я – человек, и это мой дом.
Он огляделся, будто никогда не видел его раньше. Четыре стены были сделаны из свежесрубленной древесины, и после того, как очаг нагрел комнату и на дворе потеплело, дерево дало усадку. Джону пришлось заделывать щели глиной и ветками. Он содрогнулся, увидев лес через щели в стенах дома. Казалось, дикая природа вокруг просачивается внутрь, чтобы напасть на него.
– Я не могу, – жалким голосом сказал он. – Я не могу построить дом и найти пропитание, я не могу мыться и охотиться, а еще и землю расчищать. Я не могу все это делать. Я здесь уже почти два месяца, и все, на что я способен, это с огромным трудом выживать. Да и этого толком не умею.
Горло снова сжалось. Он подумал, что его вырвет прямо здесь, но вместо этого выплюнул хриплое рыдание.
Он потянул ремень на брюках. Он думал, что по какой-то причине его ремень растянулся. Но сейчас Джон понял, что похудел.
– Я не выживу, – наконец признал он. – Я не могу раздобыть достаточно еды.
И сразу же усталость, к которой он уже привык, и боль в животе, которую он считал признаком легкого недомогания, обрели новый и ужасающий смысл. Он недоедал уже несколько недель, и голод делал его все более и более неспособным к выживанию. Его выстрелы все чаще не попадали в цель, с каждым днем ему было все труднее наколоть дрова для очага. Он начал собирать хворост, вместо того чтобы колоть дрова. А это означало, что древесина была более сухая, сгорала быстрее, и ее нужно было все больше и больше.
А еще это означало, что землю вокруг маленького домика никто не расчищал, и она оставалась в таком же состоянии, как и тогда, когда Бертрам приехал помогать ему в самом начале их жизни в этих дебрях, когда они были так уверены в себе и смеялись.
– Вот уже и весна, а я так ничего и не посадил, – тупо сказал Джон, все еще зажимая в мозолистой руке лишний кусок ремня. – Земля не расчищена, и я не могу копать. У меня нет времени копать. Все мое время уходит на то, чтобы добывать еду, воду и топливо, я устал… я так устал.
Он протянул руку, чтобы взять свою куртку. Она уже не лежала, аккуратно свернутая, в углу комнаты, как прежде. Теперь она валялась там, где он сбрасывал ее по утрам.
Джон завернулся в ее толстую теплоту и вспомнил – Эстер купила эту куртку, когда он сказал, что уезжает. Эстер, которая не хотела ехать. Эстер, которая уверяла, что новая страна будет неподходящим местом для мужчин и женщин, привычных к уюту и комфорту городской жизни. Эстер, утверждавшая, что новая страна будет подходящим местом только для фермеров, у которых не было никаких шансов пробиться в родной стране. Страна для фермеров, искателей приключений и авантюристов, которым нечего терять.
Джон улегся на голый земляной пол перед мерцающим огнем очага и натянул на лицо воротник куртки. Хотя было уже утро, он чувствовал, что хочет натянуть куртку на голову и дать себе вволю поспать. Он услышал тихий жалобный всхлип, похожий на тот всхлип, который издавала Френсис, просыпаясь ночью от страшного сна, и понял, что плачет он сам, плачет, как испуганный ребенок. Тихий плач все не стихал, и Джон слышал его как будто издалека, будто он сам был далеко от собственного страха и слабости. Потом он уснул, все еще слыша тихое всхлипывание.
Он проснулся от чувства голода и страха. Огонь почти погас.
При виде серой золы в очаге Джон, задохнувшись от ужаса, вскочил на ноги и выглянул в открытое окно. Слава богу, было еще светло, он проспал не целый день.
Он выбрался наружу, куртка путалась у него в ногах, заставляя спотыкаться, набрал полную охапку дров из поленницы во дворе. Потом сложил дрова в очаге и сверху прикрыл кусками сухой коры. Тонким прутиком подпихнул кору в самую середину тлеющих угольков и, наклонившись совсем близко к золе, начал дуть, нежно, осторожно, молясь Богу, чтобы огонь занялся. На все это ушло довольно много времени. Джон услышал собственный голос, произносящий молитву. Крошечное пламя блеснуло желтым огоньком, как свеча, и погасло.
– Прошу тебя, Господи! – выдохнул Джон.
Маленькое пламя снова затрепетало, вспыхнуло и занялось. Кусок коры завился, загорелся и был проглочен огнем. Джон положил на него пару хворостинок, и наградой ему была вспышка пламени. Он быстро стал подкладывать в огонь все более толстые веточки, огонь ярко разгорелся, и Джон еще раз был спасен от наступающей темноты и холода.
Тогда он понял, что голоден. С прошлой ночи в котелке оставалось еще немного каши. Или, если ему хотелось, он мог вымыть котелок, вскипятить воды и попытаться подстрелить птицу. Больше есть было нечего.
Он пододвинул котелок поближе к огню, чтобы каша не была совершенно холодной, и подошел к двери.
Вечерело. Солнце садилось за деревья, и небо над маленьким домиком было покрыто вуалью тончайших облаков, как шалью, которую королева набрасывала на голову, направляясь к мессе.
– Как мантилья из облаков, – сказал Джон, глядя на небо.
Небо было бледное, цвета засохших головок лаванды зимой, цвета вереска летом, размытых, неярких, розовато-лиловатых оттенков.
Джон вздрогнул. Мгновенный восторг при виде прекрасного неба сменился совсем иным чувством. Ему вдруг показалось, что небо слишком громадное, слишком безразличное, что маленькому человечку невозможно выжить под этим величественным куполом. Наверное, если посмотреть на его маленький домик с высоты облаков, изящных, как испанское кружево, он покажется просто точкой, а Джон, выглядывающий из него, – меньше блохи.
Страна была слишком большой для него, лес – слишком бескрайним, река – слишком полноводной и холодной, течение – слишком быстрым и глубоким. У Джона появилось чувство, что вся его новая жизнь была не чем иным, как попыткой маленького муравья трудолюбиво переползти из одного места в другое, и что сам факт – выживет он или нет – глубоко безразличен небу, не более чем жизнь муравья была интересна ему самому.
– Со мной Бог, – сказал Джон, призывая на помощь веру Джейн.
Ответом было молчание. Не было никакого сигнала, что Бог с ним. Не было никакого признака того, что Бог вообще есть.
Джон вспомнил, как Сакаханна рассыпала дымящийся табак по реке на восходе и на закате, и на какой-то кощунственный миг подумал, что, возможно, хоть боги этой земли были ему незнакомы, эти боги отличались от английского Бога. И что, если бы Джон каким-то образом ухитрился перебраться под защиту богов этого нового мира, тогда, может быть, он был бы в безопасности от безразличного взгляда нависшего над ним неба.
– Надо было мне больше молиться, – тихо сказал Джон.
Здесь, в этой глуши, он не соблюдал воскресений. Теперь он не молился даже перед едой и перед тем, как ложился спать.
– Я даже не знаю, когда воскресенье! – воскликнул Джон.
Он чувствовал, как в душе нарастает паника при мысли о том, что он спал днем, но не знает, как долго он спал. Он не знал, как далеко вниз по реке был расположен город, и не знал, сколько времени ему понадобится, чтобы добраться туда, он не знал даже, какой сегодня день недели.
– Я не могу явиться в город, одетый таким образом и воняющий, как зверь! – сказал Джон.
Но тут же замолчал. Ясно было, что вымыться как следует он сможет только в городе. Вряд ли он отважится стирать и сушить одежду, а сам в это время бегать по лесу голым, как дикарь. А как он сможет заплатить за стирку в городе, как рафинированный джентльмен, если все его деньги предполагается потратить на оплату рабочих, которые расчистят его землю, на покупку семян кукурузы, на покупку семян табака, новых топоров, лопат?
Джон подумал о богатстве дома в Ламбете. Он подумал о слугах, работавших на него: о кухарке, которая готовила ему обеды, о горничной, которая убиралась в доме, о саде и садовниках, о жене Эстер, которая управляла всем этим. Как он мог так сумасбродно, так дико решить, что вся эта жизнь была не для него, что судьба его была где-то совсем в другом месте и с другой женщиной. Теперь похоже было, что он готов умереть в этом самом другом месте. А другая женщина для него потеряна.
– Вот-вот. Именно так, – тихо сказал он. – Именно в другом месте. Сейчас я как раз живу в этом другом месте. И я умру в этом другом месте, если не смогу снова вернуться домой.
Острый, едкий запах внезапно напомнил ему об обеде. Он повернулся с горестным воплем. Из котелка в комнату валил темный дым. Котелок перегрелся, каша прилипла к донышку и сгорела.
Джон бросился убрать котелок от огня и отпрянул, когда раскаленная металлическая ручка обожгла руку. С проклятьями он уронил котелок на пол, рука горела от боли. Кожа вздулась и побелела. Джон ощутил, как от боли по лицу полился пот, и снова закричал.
Повернувшись, он выбежал из комнаты и бросился к реке. На маленьком пляже перед домом он упал на колени и опустил руку в воду. Сначала ощущение от прикосновения холодной воды к обожженной коже было как удар кнутом, но постепенно боль стала утихать.
– Господи боже мой, – услышал Джон свой собственный голос. – Ну как можно быть таким идиотом! Ну что я за кретин!
Когда боль чуть-чуть ослабла, он вынул руку из воды и со страхом посмотрел на нее. Ручка котелка оставила белый след поперек ладони. Кожа выглядела омертвелой и быстро распухала. Джон попробовал подвигать пальцами, и руку мгновенно хлестнула острая боль.
– Ну вот, у меня осталась только одна здоровая рука, – мрачно сказал он. – И сгоревший обед.
Он снова посмотрел на небо.
– А впереди ночь.
Он повернулся и медленно пошел к своему маленькому домику. Голова была полна мыслей и страхов. Огонь все еще горел, и это хорошо. Он пнул перевернутый котелок ногой, обутой в сапог. Котелок покатился по земляному полу. Он был уже холодный, Джон провел у реки не меньше часа. Он не заметил, что прошло уже столько времени. Он поднял котелок, поставил его и заглянул внутрь. Внутри не осталось ничего, что можно было бы съесть. Каша почернела и обуглилась, превратившись почти в золу.
Джон взял котелок и снова пошел к реке, осторожно ступая в сумерках, которые наступали очень быстро. Как будто на лес набросили темный плащ. Он оставил котелок отмокать в воде, а сам пошел проверить ловушку для рыбы. Она была пуста. Джон вернулся к котелку и здоровой рукой попытался тщательно отчистить горелые остатки пищи, потом промыл в реке и начисто прополоскал.
Он набрал в котелок воды и пошел через пляж, вверх по склону невысокого холма к дому, с котелком в левой руке. Там, где перед домом деревья были уже вырублены, лес снова завоевывал пространство. Небольшие вьющиеся растения, маленькие сорняки и прочие ползучие растения покрывали землю.
Если Джон в ближайшее время не выйдет и не начнет копать, лес нахлынет снова. И его маленький домик пропадет совсем, останется только точкой на карте в конторе губернатора, как земельный надел поселенца, на котором когда-то кто-то жил, но потом этот кусок земли был заброшен и теперь ждал нового дурака, готового принять вызов и попытаться прожить посреди дикой природы.
В доме Джон перелил питьевую воду в кружку, пролив несколько капель на пол из-за того, что неудобно было проделывать все эти движения, пользуясь только одной рукой, потом бросил щепотку кукурузной муки в воду и поставил греться. На сей раз он не сводил с посудины глаз, стоял над ней, помешивал варево, пока каша не загустела и наконец не закипела, потом отставил кружку в сторону, прежде чем перелить готовую еду в миску.
Он приготовил достаточно еды, чтобы оставалось еще и на завтрашнее утро. В животе урчало. Он уже не помнил, когда в последний раз ел фрукты или овощи. Он не помнил, когда в последний раз ел какое-нибудь мясо, кроме мяса лесного голубя. Совершенно неожиданно и нелепо он вспомнил английские сливы с остро-сладкой мякотью. В саду отца росло тридцать три разновидности сливы, от редкой белой сливы с Мальты, которую во всей Англии выращивали только Традесканты, до обычной синей сливы, которую можно увидеть в каждом садике.
Он встряхнул головой. Бесполезно было думать о доме и о богатстве, которое оставил ему отец. Не было смысла думать о том неимоверном разнообразии своего наследства, о цветах, об овощах, о травах, о фруктах. Не было смысла думать и о еде, которую он не мог ни поймать, ни вырастить в этой недружелюбной стране. Все, что было у него на ужин сегодня и на завтрак следующего дня, – неаппетитная размазня из кукурузной каши. И если он не сумеет приспособиться и охотиться и ловить рыбу одной рукой, тогда это будет все, на что он сможет рассчитывать в ближайшие день или два, неделю или две, пока не заживет рука.








