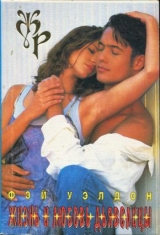
Текст книги "Жизнь и любовь дьяволицы"
Автор книги: Фэй Уэлдон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
9
Мэри Фишер живет в Высокой Башне с моим мужем, Боббо, и пишет о любви, и не понимает, что же мешает людям жить счастливо.
Собственно, с какой стати она должна думать о нас? Мы бессильны и бедны, мы никто и ничто. Мы даже не входим в число тех, кто подразумевается под словом «люди».
Наверное, Боббо иногда просыпается среди ночи, и она спрашивает, что с ним такое, и он отвечает – все думаю о детях, и она говорит: ты поступил правильно, лучше сразу отрезать, не видеть и не встречаться; и он верит ей, потому что Энди и Никола не из тех обаятельных детишек, к которым любой прикипел бы всем сердцем, а раз так, чего ждать от человека, чьи волосатые ноги обвиваются вокруг аккуратных, шелковистых ножек Мэри Фишер?
И даже если он когда-нибудь вдруг скажет: «Интересно, как там Руфь без меня справляется, а?» – она сей же миг заткнет ему рот – кусочек семги, глоток шампанского – и скажет: «Руфь не пропадет. У нее есть главное – дети. Не то, что у меня! Какая я несчастная! У меня в целом мире только и есть – ты, Боббо!»
Двое моих детей подходят и отходят, тычутся в меня наугад, в надежде, что мать их согреет и накормит, но мне нечего им дать. Откуда? У дьяволиц сухие сосцы. Дьяволицей – в полном смысле слова – не станешь в мгновение ока. Поначалу чувствуешь себя совершенно выпотрошенной – уж я-то знаю. Самоосуждение и добропорядочность успели пустить глубокие, разветвленные корни; они проросли сквозь плоть, и извлечь их безболезненно нельзя – их надо вырывать с мясом. Иногда по ночам я так кричу, что бужу соседей. А дети не просыпаются никогда, кричи – не кричи.
В конце концов я научилась заряжаться энергией от земли. Я шла в сад и поддевала вилами комья земли, и небывалая мощь входила в пальцы ног, поднималась по тугим икрам и оседала в моих, уже дьяволицыных, чреслах – как постоянное напоминание, как зуд. Это был знак: пришел конец ожиданию, настала пора действовать.
10
Карвер жил в сарае на краю Райских Кущ, возле стадиона, где он работал сторожем. Ему перевалило за шестьдесят, лицо у него было небритое и морщинистое, но глаза блестели по-молодому. На руках кожа у него была грубая и красная, зато на животе – белая, тонкая и упругая. Сарай стоял на стыке теннисных кортов и беговой дорожки и служил для того, чтобы Карверу было где хранить газонокосилки и прочий инвентарь и где находиться самому, карауля вверенное ему имущество в течение дня. В последнее время он и ночевал тут же: устраивался на каком-нибудь мате, прикрывался замусоленным одеялом – иногда спал, иногда просто лежал. Жалованье ему платили из местной казны – отчасти из милосердия, отчасти за работу. Он исправно докладывал о налетах пчел на охраняемую территорию и нещадно гонял мальчишек и влюбленные парочки.
Считалось, что Карвер повредился головой, спасая тонущего ребенка, – было это давно, на каком-то далеком побережье. По этой причине представительницы женского населения Райских Кущ, подавая очередную петицию с требованием найти ему замену, не настаивали, чтобы его попросту вышвырнули с позором, а лишь просили досрочно отправить его на пенсию. Замужние женщины, матери семейств, по дороге в школу за детьми или в магазины вынуждены были ходить мимо стадиона, поскольку именно там пролегала дорога и в школу, и в магазины, и всякий раз им приходилось ускорять шаг и прятать глаза. Иногда он просто пялился на проходящих женщин, а иногда расстегивал штаны и кое-что им показывал. И хотя ни одна из обвинительниц лично с этим безобразием не сталкивалась, у всех находились какие-то знакомые, которые это видели.
Карвер смотрел на дорогу, по которой к нему приближалась Руфь. Ему нравилось, что ее темные глаза полыхают огнем, нравилась ее могучая поступь. В отличие от прочих замужних дам и мамаш, обутых в изящные туфельки на каблучках, она не семенила мелкими шажочками. На ней были туфли без каблуков – может, потому что на ее Ножищу ни одни модельные туфли просто не лезли. Карвер не сомневался, что рано или поздно она зайдет к нему на чашку чая. Он всегда заранее знал, с кем у него возникнет близость, как знал и другое: все, что от него (и вообще от любого) требуется, когда будущий партнер зафиксирован сознанием, это набраться терпения и ждать. А любовь – и это он понял очень давно – не что иное, как способность предвидеть либо блаженство, либо муку.
Карвер умел желать – но желать не до безумия, он умел надеяться – но не до отчаяния, и ждать – но не до бесконечности. Карверу нравилось плыть по течению судьбы: то немного отнесет в одну сторону, то в другую, то вдруг бросит в водоворот желаний и надежд – словно рыбка в безмятежном потоке времени.
– Заходи, чайком побалуемся, – окликнул он ее из-за ограды теннисного корта, когда она поравнялась с ним. И она зашла.
Руфь пила чай из потрескавшейся кружки. В железной печке у дальней стены сарайчика догорали дрова, хотя стояло лето. Они устроились поближе к огню, рядышком, близко-близко как если бы на дворе была зима. Старые газеты покрывали пол сплошным ковром. Они сидели, прижавшись друг к другу. Она занимала ровно в два раза больше места, чем он, но ни его, ни ее это, по-видимому, не смущало. Глаза ее сверкали. Он вслух удивился, отчего это.
– Глаза у меня сверкают, когда я знаю, чего хочу, – сказала она.
– Чего же ты хочешь?
Ответ он знал наперед: деньги или секс – важнее в жизни нет ничего.
– Тебя, – ответила она. Его рука скользнула ей на плечо. Он наклонил голову, и кожа на подбородке собралась дряблыми складками. Стариковским, неподвижным взглядом он посмотрел ей в глаза. Он прекрасно знал определенный тип женщин – сколько их перебывало у него в свое время в его сараюшке возле теннисных кортов. Добропорядочные женщины предместья, опрятно одетые, чистенькие, которые в поисках чего-то запредельного, непотребного и поэтому наполовину мистического, семеня изящными ножками на каблучках, наведывались в его логово. Быстротечная, запретная любовь кидает друг к другу мужчин и женщин, барахтающихся и лавирующих в ручейках времени. И это нормально. Но на сей раз случай был нетипичный: ее привели к нему иные побуждения. А вот какие – непонятно.
Из родинок на подбородке у нее росли волосы. Что ж, у него волосы торчали из ноздрей. Груди ее были словно две взбитые подушки. Он опустил на них свою старую голову. Она улыбалась. Его не одолевали пустые волнения: получится, не получится. Эрекция пусть заботит молодых, а он вполне управится руками, если дойдет до дела. Но когда дошло до дела, он дрожал и плакал – желанный гость, который по собственной вине топчется у запертой двери, мерзнет на холоде, когда там, внутри, так тепло и уютно.
– Я не могу, – сказал он. – Что-то не так. Почему ты пришла ко мне? Зачем?
– Это первый шаг, – сказала она. – Я преступила первое правило.
– Что за правило? – Правила – это он понимал. Это то, что было написано на щите у входа на стадион. Правда, Карвер их не читал. Когда-то он умел читать, но теперь разучился.
– Закон дискриминации. – Смех у нее был низкий, грудной. Ему понравилось, как она смеется, и на этот раз у него уже получилось лучше.
Карверу вдруг привиделось: он, Карвер, пролетел сквозь толщу беспокойных облаков и оказался в открытом космосе. И тут он увидел Руфь – она стояла в неизвестной вселенной, совершенно нагая, от ее тела исходил мягкий золотистый свет, а вокруг, словно кружась в медленном танце, вращались неизвестные, новые звезды. Он опустил голову, зарываясь в ее сокровенное, в ее плоть, от которой пахло не естественными соками, но самим живым естеством… Силы покинули его. Он был рожден для старого мира не для нового.
Несчастный старик, он трясся от любви и желания; глаза его закатились, сверкнув белками; электрические разряды пронзили мозг, парализуя его, как бывало всегда, с самого начала болезни. Видения изнуряют старческую плоть. Он стоял на коленях. Потом рухнул на пол.
Руфь в изумлении смотрела на распростертое тело. У Карвера случился припадок падучей, и ей было жаль его, но помочь ему она не могла.
Руфь была довольна собой. Она и этот корчащийся в припадке гражданин пожилого возраста совместными усилиями создали некий фундамент, на котором должен был отныне держаться остов ее новой жизни, как мебельная обивка держится на каркасе. На каркасе из страдания и радости, унижения и торжества, возвышения и падения – что судьба ни пошлет; такая конструкция выдержит любые нагрузки, пройдет любое испытание на прочность. Правда, кое-где еще остались слабые места – один неверный шаг, и сорвешься вниз. Так что все время нужно быть начеку.
Пена изо рта и конвульсии прекратились. Карвер лежал в теплой луже собственных испражнений и мирно спал. Руфь вытряхнула из открытой пачки на столе сигареты, положила их к себе в карман и вышла, и пошла прочь по направлению к главной улице, чтобы купить арахисового масла, несколько удлинителей и заказать на утро такси, – крупнотелая, некрасивая женщина в расхожих уличных туфлях без каблуков, с хозяйственной сумкой, женщина, которая, по-видимому, должна быть благодарна за то, что имеет.
11
Так-так! С кем же Мэри Фишер успела переспать в своей Высокой Башне? Вполне вероятно, что число счастливчиков невелико. Она дама привередливая. Садовника можно исключить сразу, не то его садоводческие успехи были бы куда внушительнее, да и жалованье тоже.
Возможно, в прошлом, один-другой миллионер или какой-нибудь издатель – кто-то из нужных людей, чтобы помочь ей пробиться к успеху. Их влиятельные, седеющие головы, должно быть, не раз опускались на ее пуховые, пастельных тонов, подушки.
А вот с Гарсиа все не так просто. Думается, он может ей кое на что сгодиться, особенно если ночь черна и одинока, и нужные слова не идут на ум, и перо выпадает из рук. А он уж тут как тут: шмыг к ней в кровать, нырк в нее. Когда я споткнулась о ковер, я поймала молниеносный понимающий взгляд, которым обменялись эти двое – слуга и хозяйка, точно два заговорщика. Сначала она метнула взгляд на Боббо, но сразу после – на Гарсиа. Боббо это бы не понравилось, факт.
Чтоб они все стали импотентами! И Боббо, и Гарсиа, и садовник! Да, и садовник – за то, что он не в состоянии вырастить прямое, сильное дерево, даже такое неприхотливое, как тополь. Каков садовник, таково и дерево. Может, ему и желать ничего не надо – скорее всего, он и без моих пожеланий ничего не может.
Я желаю, чтобы Мэри Фишер покрылась струпьями с головы до ног – посмотрим, как ей это понравится. Хорошо бы запустить в систему центрального отопления вирус, скажем, плодовой гнили, чтобы он проник во все уголки ее дома – и, когда она уляжется, переплетясь ногами с Боббо, на длинном, белом как снег, диване, весь воздух будет уже отравлен коварной, незримой заразой. Чтоб ей распухнуть от гноя, чтоб ей гнить заживо! У меня в жизни было только двое мужчин – Боббо и Карвер. С Карвером мне было лучше. Боббо отнимал у меня силу. У Карвера силу отняла я.
Мне страшно. Мне теперь нигде нет места – ни среди уважаемых обществом, ни среди осуждаемых им. Сейчас такое время, что даже шлюхи обязаны быть красивыми. Мой удел как женщины – старый сбрендивший эпилептик. И я с открытыми глазами принимаю это, а коли так, я сразу лишаю себя своего насиженного места, своего стула у стены бального зала, где вместе со мной сидят вдоль стеночки еще миллионы – миллионы! – таких же, как я: сидят испокон века, с завистью и восхищением провожая глазами кружащиеся пары, никогда не танцуя, никогда не претендуя на внимание к себе, предпочитая не рисковать, дабы не испытывать унижение, но втайне всегда на что-то надеясь.
В один прекрасный день, говорит нам внутренний голос, мимо вдруг проскачет рыцарь в сверкающих доспехах, взглянет пронзительно и сразу оценит красоту наших душ, и тогда он посадит свою избранницу к себе в седло и водрузит ей на голову корону, и будет она королевой.
Но в моей душе нет красоты, и мне нигде нет места, и значит, я должна сама себе его обеспечить; и раз я не в состоянии изменить мир, я изменю себя.
Я ощущаю прилив новых сил. Ток самопознания и трезвой рассудочности растекается по моим жилам – холодная, медлительная кровь дьяволицы.
12
В субботу утром Руфь приготовила настоящий завтрак для Энди и Николы. Она разбила на сковородку все яйца, которых им должно было хватить до четверга (по четвергам в местный магазин завозили свежие яйца), и выложила весь без остатка бекон. На дне морозилки нашлось несколько кусков нарезанного белого хлеба (после отъезда Боббо уровень продуктов в морозилке опускался все ниже и ниже), и она сунула их в тостер. Она выставила на стол масло вместо маргарина и велела детям доесть весь мед – целых полгоршка. Они смотрели на нее с опаской – и ели.
У самой Руфи начисто пропал аппетит. Она только выпила черного кофе, сваренного из зерен, которые ей удалось соскрести с бугристого льда на дне морозилки.
Она скормила Гарнесу целый фунт масла, но не стала ходить за ним по всему дому, чтобы вовремя заметить, где его вырвет. Ей почему-то казалось, что он напакостит под двухспальной кроватью, на которой она так часто лежала в одиночестве. Дверь в спальню – небывалый случай – была оставлена открытой: прежде, опасаясь Гарнеса и Мерси, она этого никогда не допускала. Она дала Мерси две нетронутые банки сардин, вполне пригодных и для людей.
А вот Ричарду, морской свинке, она не дала ничего. Он прогрыз столько дыр в шерстяных свитерах, причем впереди, на самом видном месте, что она не могла заставить себя позаботиться и о нем тоже. С какой стати ублажать Ричарда? Ее-то никто не ублажает.
После завтрака Руфь не стала убирать грязную посуду и велела детям хорошенько обыскать весь дом на предмет денег. Они кинулись отгибать края ковров, заглянули в щель между плитой и холодильником, перетряхнули коробки с игрушками (до самого дна, покрытого шлепками спекшейся грязи), и детские книжки на полках, и образцы собственного творчества, грудами сваленные на столах, сервантах и в шкафах и, конечно, не забыли про складки диванов и кресел. В результате этих поисков им удалось собрать монет на общую сумму 6 долларов 23 цента.
– А теперь, – скомандовала Руфь, – шагайте в «Макдональдс» и покупайте себе, что вашей душе угодно – «Биг-Мак», «Супер-Мак», рыбное филе, яблочный пирог, молочные коктейли – пейте, ешьте сколько влезет, но при одном условии: домой вы вернетесь ровно в одиннадцать. Ровно! Ни минутой раньше, ни минутой позже.
– Нам не хватит этих денег, – проворчала Никола.
– Больше у меня нет, – сказала Руфь. – Я отдала вам все, что у меня было, запомните это. А что у меня в жизни было? Объедки и остатки.
Они ничего не поняли, да не очень-то и пытались понять и, обиженно ворча, поплелись в «Макдональдс».
Лето в том году было долгое и знойное. Солнце стояло уже высоко, выпаривая из воздуха остатки ночной влаги. И ветерок дул приличный.
Руфь обошла дом и, как любая хорошая хозяйка в такую погоду, открыла окна. Потом она зашла в кухню и вылила во фритюрницу целую бутылку растительного масла – вровень с краем – и поставила ее на слабый огонь. По ее расчетам, масло должно было закипеть минут через двадцать. Она расправила занавески в полном соответствии с замыслом дизайнера – то есть так, что они почти касались края плиты. Она включила в сеть все имеющиеся в доме электроприборы (кроме лампочек, поскольку свет мог привлечь внимание соседей), воспользовавшись удлинителями и тройниками, купленными специально для этой цели. Посудомоечная и стиральная машины, сушилка, вытяжка, кондиционер, три телевизора, четыре электронных игры, два радиатора, музыкальная аппаратура, швейная машинка, пылесос, миксер, три электрогрелки (одна была уже очень старая) и утюг. Все рычаги она вывела на максимальную мощность и затем все включила. Дом загудел, и в считанные секунды в воздухе появился пока еще очень слабый запах паленой резины. Подобные звуки и запахи были обычным делом в Райских Кущах, особенно в воскресное утро. Может быть, на сей раз они были чуть назойливее, когда ветер подхватил их и понес по Совиному проезду.
Руфь вернулась в кухню и включила газ в духовке, затем опустилась на колени, поднесла к горелке электрическую зажигалку и нажала на клавишу. Эти зажигалки устроены так, что если держать их металлическим наконечником книзу по меньшей мере секунд девять-десять, то специальный стержень накаляется докрасна и высекаются искры – и только тогда газ воспламеняется. Эта электрическая штуковина всегда действовала ей на нервы. В то утро она выждала секунд восемь, не больше. Потом она убрала палец с клавиши и закрыла дверцу духовки, даже не убедившись, что огонь зажегся.
Руфь прошла в комнату Энди. Перед уходом он рисовал, и на полу было разбросано с полсотни листков бумаги и штук тридцать фломастеров, в основном без колпачков. Она подтащила его детское кресло-пуф с начинкой из полистирола вплотную к электрическому камину, который он любил включать перед сном в холодные вечера. Стены в комнате были увешаны плакатами и вымпелами.
Кабинет Боббо, в задней части дома, укрытой от любопытных взглядов соседей, был завален бумагами. Руфь успела тщательно изучить содержимое всех ящиков, разложить все по стопочкам: это его, это ее – его жизнь, ее жизнь, все отдельно, чтобы больше они не смешивались. Две вместительные корзины для бумаг были наполнены доверху, и кроме них на полу стояли два черных полиэтиленовых мешка (дешевые, непрочные, легко рвущиеся), набитые квитанциями, счетами и письмами. Мешки стояли, привалившись к письменному столу, и были явно приготовлены на вынос. Руфь задернула занавески, чтобы солнце не било в глаза, села за письменный стол Боббо и закурила одну из тех сигарет, которые прихватила со стола у Карвера. Курила она неумело (она вообще-то не курила, разве иногда баловалась) и как будто без удовольствия, и, едва выкурив полсигареты, затушила остаток и бросила в корзину для бумаг, прямо под занавеской. Сигарету она затушила кое-как, та еще слабо дымилась. Да ведь некурящему и в голову не придет, что это опасно, верно? Ведь если огонь затушен, он обычно сам по себе вновь не воспламеняется.
После этого Руфь вышла из комнаты, оставив дверь открытой. Потянуло сквознячком. Она еще раз вернулась в кухню, где на плите масло уже начало пузыриться, и, подумав секунду – другую, великодушно позвала Гарнеса и Мерси, которые были так ошарашены небывалым вниманием с ее стороны, что Гарнес тут же кинулся в спальню и забился под двухспальную кровать, а Мерси в мгновение ока оказалась на той же кровати сверху, обуреваемая, как всегда, злобной мстительностью и страхом одновременно.
Не обращая внимания на зубы и когти, она схватила обоих и вышвырнула их на улицу. Про морскую свинку, Ричарда, она забыла. Но он заслужил такое отношение. Она стянула с кровати двухспальный матрас, подтащила его к перилам прилегающего к спальне балкона и столкнула вниз, в сад, что не прошло мимо внимания ее соседки, Розмэри.
Руфь принялась поливать матрас из шланга. Розмэри наблюдала за ней поверх низкой изгороди. Вся голова у нее была в бигудях.
– Что это вы делаете, Руфь? – поинтересовалась она.
– Вот заводи животных! Потом хлопот не оберешься, – сказала Руфь. – Не покупать же теперь новый матрас! А запах у кошек, сами знаете!
– Надо вовремя прооперировать, и тогда все будет в порядке, – сказала Розмэри и ушла к себе в дом. Но вскоре она вновь возникла на пороге со словами: – По-моему, пахнет горелым, вы не чувствуете?
– Нет, – сказала Руфь. – Если и пахнет, то кое-чем другим, от матраса.
Розмэри снова ушла к себе и почти тут же вернулась.
– Вы уверены, что нигде не горит? – обеспокоенно сказала она. – По-моему, у вас из задних окон идет дым.
– Боже правый! – охнула Руфь. – И верно!
В ту же секунду в кухне грохнул взрыв. Было десять часов утра, ровно десять ноль-ноль. Обе женщины бросились в дом Розмэри к телефону – вызывать пожарную бригаду и полицию.
– Слава Богу, детей в доме нет! – сказала Розмэри. – Где они, кстати?
– Пошли в «Макдональдс», – сказала Руфь, и Розмэри даже в такой момент не удержалась и неодобрительно покачала головой.
Руфь рыдала, причитала и цеплялась за соседку, а над домом поднимались клубы черного дыма – горел полистирол. Из-за этого пожарные не успели вовремя подоспеть на помощь Ричарду, морской свинке. Его безжизненное тельце, слишком поздно извлеченное из клетки с тлеющим сеном, было вынесено на траву перед домом.
– Он умер сразу, не мучился, – сказал пожарник, – задохнулся от дыма.
– Я так любила его, так любила! – убивалась Руфь, и прибывший на место происшествия полицейский чин сочувственно подумал: жаль ее, такая огромная и такая беспомощная – привязалась, поди, к зверюшке, а теперь вот осталась ни с чем.
– Давно пора запретить этот новомодный полистирол, – сказал пожарник. – Хватит, насмотрелись. Дома горят, как спички. Не успеешь оглянуться, а дома уже нет.
Это объяснение, похоже, было им на руку. Не то могло показаться, что своими шлангами они только подливают масла в огонь. Над Райскими Кущами клубились облака дыма, такого густого, что весь Совиный проезд погрузился во мрак. Соседки, через одну в бигудях, сбивались в кучки, хватали друг друга за руки и тревожно перешептывались.
– Пришла беда, отворяй ворота, – говорили они. – Руфь-то, бедняжка, что ж ей теперь делать-то? Ни мужа, ни дома – морская свинка и та померла.
В глубине души они были рады, что ей здесь больше не жить. Она так и не стала своей. Если она устраивала обед и созывала гостей, что-нибудь обязательно случалось. Кроме того, Энди подглядывал за девочками, а Никола, по слухам, была не прочь прибрать к рукам что плохо лежит.
Соседки стали наперебой зазывать пожарных на чашку чая, и те, скинув сапоги и каски, опускали свои прокопченные, мужественные тела на полистироловые диваны, а поскольку дети и мужья в это время суток отсутствовали, одному-другому герою удалось даже наведаться в спальню. Огонь, опасность, дыхание беды, как известно, сближают людей.
– Итак, вы хозяйка дома, – сказал представитель страховой компании. Он прибыл в десять пятьдесят пять, чтобы осмотреть место происшествия, выяснить степень вины владельца и оценить масштабы нанесенного ущерба. О пожаре его известила полиция. Сообщения о пожарах жилых домов передаются немедленно. В последнее время такие случаи участились.
– Да. Бывшая, – сказала Руфь, браво улыбаясь сквозь слезы.
– Молодец, что не унываете – так держать! И положитесь на нас, мы вас в беде не оставим. Да, сгорело основательно, можно сказать, дотла. Но, по крайней мере, все живы, это главное!
– А моя морская свинка? – жалобно простонала Руфь.
– Мы поможем вам приобрести другую, – заверил он. – Ну, не целиком, но на шестьдесят процентов можете смело рассчитывать! Если, конечно, пожар не случился по вашей неосмотрительности. Я успел на скорую руку пролистать наш с вами договор, прежде чем отправиться сюда. Он протянул ей открытую пачку сигарет.
– Курите?
Она взяла сигарету.
– Спасибо. Да, курю, особенно в последнее время, с тех пор как меня бросил муж. Нервы, сами понимаете.
– Так, может, в этом все дело? Окурок, корзина для бумаг. Не затушили сигарету как следует – и готово. Знаете, как это бывает?
– Да, может быть, – тихо сказала Руфь. – Я как-то об этом сразу не подумала, но ведь действительно, я как раз разбирала бумаги у Боббо в кабинете, расплакалась и – ох! – Она в ужасе зажала рукой рот. – Что я говорю!
– Правда всегда лучше, – заметил он, деловито записывая что-то в свой блокнот.
– Ой, Нет, не надо! – взмолилась Руфь. – Бедный Боббо, он этого не переживет!
Ровно в одиннадцать появились Энди и Никола, очень довольные тем, что им перепало неожиданное угощение, и собственной пунктуальностью. Одновременно к тому месту, где когда-то стоял их дом, подъехало такси, и Руфь, прижимая к груди черный полиэтиленовый мешок со спасенным из огня скарбом, усадила детей на заднее сиденье, а сама села на переднее рядом с водителем. Тот с беспокойством подумал, что рычаг ручного тормоза будет задевать за ее объемистое бедро. Она являла собой странное зрелище – черное от дыма и копоти лицо и пылающие огнем глаза.
– Мы едем к морю, – объявила она детям. – Навестим папочку.
Шофер в изумлении смотрел на черный остов ее когда-то любовно ухоженного дома.
– Ваш? – спросил он голосом, полным благоговейного ужаса. Дети на заднем сиденье тихо плакали, но поскольку животы у них были до отказа набиты вкусными гамбургерами, горевали они больше для порядка; так что в целом их неокрепшие души не подверглись серьезной травме, как она и предвидела.
– Прошу вас, уедем отсюда скорее! – взмолилась Руфь. – Не надо, чтобы дети смотрели на этот кошмар. Ведь это конец всей их прежней жизни!
Он с готовностью нажал на газ. Когда машина поднялась на вершину холма, Руфь посмотрела назад, на дом 19 по Совиному проезду: пустой, черный остов, который нелепо торчал посреди поселка, словно гнилой корень в белозубом, улыбающемся рте, – и ей стало хорошо.
– А как же Гарнес, как же Мерси? – скулили дети. Они не спросили про морскую свинку, а она не стала им напоминать.
– Они целы и невредимы, – сказала. – И я уверена, что соседки присмотрят за ними – они ведь так любят животных!
– А наши книжки, наши игрушки! – еще пуще скулили они.
– Сгорели. Все сгорело. Но ничего, отец купит вам новые.
– А мы будем жить у него, да?
– Где же вам еще жить, мои дорогие?
– И ты тоже?
– Нет, – сказала Руфь. – Ваш отец живет теперь с другой, и тут невозможно что-либо изменить. Но я уверена, что она примет вас с радостью, она ведь так любит его!








