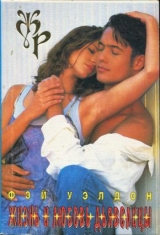
Текст книги "Жизнь и любовь дьяволицы"
Автор книги: Фэй Уэлдон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
24
Мэри Фишер живет в Высокой Башне и размышляет над тем, что есть утрата – и тоска. Она по-прежнему врет себе: так уж она устроена. Она искренне убеждена, что дождь идет, потому что ей грустно, буря бушует, потому что ее снедает похоть, а неурожай случается оттого, что ей отчаянно одиноко. За последние полвека это было самое гадкое лето, и это ей не кажется странным.
По моим понятиям, Мэри Фишер страдает не так, как другие. То, что она испытывает, называется досада. Ее угнетает необходимость в избытке иметь то, чего она иметь не желает вовсе – свою собственную мать и двоих чужих детей, и не иметь того, что ей действительно нужно, – Боббо, секса, всеобщего поклонения и светской жизни.
Мэри Фишер живет в Высокой Башне, и ей кажется, что еда безвкусна, а солнце не греет, – и это ей кажется странным.
Мэри Фишер не должна бы удивляться. Она, как мы помним, выросла в канаве, и мать у нее прирабатывала проституцией, но все это Мэри Фишер постаралась вытравить из памяти. Она упорно делает вид, что мир – не то, что он есть на самом деле, и сеет это заблуждение в умах других. Уроки жизни ей не впрок: она не хочет помнить. Она начала писать новый роман – «Чертог желания».
Боббо, сидя в тюремной библиотеке, строит новую жизнь и страдает от депрессии, несвободы и разлуки с Мэри Фишер, точнее с той частью ее тела, о которой у него сохранились наиболее яркие воспоминания. Иногда, в моем воображении, я вижу, как он пытается вспомнить ее лицо. Но черты Мэри Фишер столь заурядны, сколь и совершенны, поэтому запоминаются с трудом. У нее нет своего лица, как и положено женщине.
Что ж, время не стоит на месте: мало-помалу все приближается к намеченному мною концу. Я предпочитаю не доверять судьбе и не слишком полагаться на Бога. Я буду тем, чем я хочу быть, не тем, что Он предначертал. Я вылеплю новый образ себя самой из глины моего собственного замеса. Я отвергаю моего Творца – я сотворю себя заново.
Я сбросила с себя оковы, которые пригибали меня к земле, – оковы привычки, традиции, полового влечения; дом, семью, друзей – все естественные человеческие привязанности. Покуда я с этим не справилась, я не могла стать свободной, не могла сделать первый шаг.
Первым шагом ко Мне Обновленной стало удаление чуть не всех моих зубов. Точнее, вырвано их было не так уж много: каждый второй зуб был сточен до основания. Стачивание причиняло мне такую боль, что как бы судья ни старался, больнее он сделать не мог. Да и последующие ежедневные походы к врачу, обточка, шлифовка – тоже занятие не самое приятное; как, впрочем, и совместное проживание с судьей.
Il faut souffrir, [1]1
Приходится страдать (фр.).
[Закрыть]как я объясняла ему, если хочешь получить желаемое. Чем больше хочешь, тем больше страдаешь. Хочешь иметь все – выстрадай все. И, конечно, лишь сожаления достойны люди, страдающие просто так, не по делу. Пример перед глазами – леди Биссоп.
Мне было нужно, чтобы Боббо получил большой срок, поскольку и мне предстоял долгий срок. Я хотела, чтобы его, так сказать, на время заморозили, пока я не буду готова встретить его, как подобает.
Бывает, я сама себе удивляюсь: как я могу с таким безразличием относиться к душевному дискомфорту – не скажу «страданиям», потому что Боббо сыт, обогрет, избавлен от каких бы то ни было обязанностей, – человека, от которого я родила детей и который столько времени провел внутри меня. Самый факт, что я этому удивляюсь, тревожит меня. Я не до конца дьяволица. У дьяволицы нет воспоминаний. Каждое утро она рождается заново. Она живет лишь сегодняшними, не вчерашними чувствами – и она свободна. Какой-то ничтожной частичкой, остающейся во мне, я все еще женщина.
Дьяволица счастлива: у нее прививка против мук памяти. В миг своего преображения – из женщины в не-женщину – она сама делает себе инъекцию. Вонзает длинную острую иглу воспоминаний в живую плоть, прямо в сердце, и выжигает его. Какое-то время боль зверская, нестерпимая, зато потом – ничего.
Пусть умрет любовь, пусть отступит боль!
Посмотрите, как Мэри Фишер корчится, как она извивается на острие хранимого памятью блаженства. Как же ей больно! А тут еще в деревне судачат о ней, а она ведь все слышит. И некому отвлечь ее ласковым словом, веселым флиртом, сладостной любовной игрой. Вообще-то не столько о ней говорят, сколько ей слышится.
Там, в деревне – так, по крайней мере, считает Мэри Фишер, – говорят, что хозяйка Высокой Башни нарочно не заводит своих детей: только для себя живет, будто и не женщина вовсе. Говорят, тиранит несчастную старуху, свою мать, держит ее под замком. И детей сожителя своего ненавидит, вот уж поистине злая мачеха. Ей, разлучнице, видать, чужое счастье покоя не давало. Добилась своего – говорят, что жена любовника из-за нее руки на себя наложила, а то куда же она пропала, горемычная? Говорят, до того дошла злодейка в жадности своей ненасытной, что толкнула сожителя на преступление, а потом, то ли снюхавшись с красавчиком лакеем, то ли в отместку любовнику (он на ней жениться не захотел, раскусил ее подлую натуру), – предала его: не вызволила из тюрьмы.
Говорят, из-за таких богачек, как Мэри Фишер, которые приезжают неизвестно откуда, все цены на недвижимость взлетают к потолку: местным жителям уже не по карману жить в родной деревне.
Голос вины – вот что слышат уши Мэри Фишер; она в своем неведении принимает его за голос деревни, но это не так. В действительности она слышит себя и говорит сама с собой. А еще Энди с Николой нет-нет да и скажут что-нибудь такое, что сразу станет понятно: у них о ней мнение тоже неважное.
– Если ничего хорошего сказать не можете, – обрывает она их, – лучше помолчите. – Но Энди и Никола на это не реагируют. Они всегда все делают наоборот, назло Мэри Фишер. Не любят они ее. И она их не любит. Но что же делать, если они лишились матери, а затем и отца, и деваться им некуда, и они плоть и кровь Боббо, а Мэри Фишер любит Боббо (или думает, что любит), отдавая ему весь запас своих чувств, всю силу своего духа – любит так, что уже почти неважно, есть ли он рядом физически или нет.
Да, временами Мэри Фишер именно так и думает. Вот только вечерами, ложась спать, и по утрам, пробуждаясь, когда неудовлетворенная плоть напоминает о себе характерным зудом – не совсем боль и не то чтобы нестерпимая, скорее неистребимая, – тогда она думает иначе, тогда она признает, что да, ей нужно лишь одно: чтобы Боббо был рядом, здесь и сейчас. Так, может, поглотившее ее чувство – это плотское влечение, не любовь?
Гарсиа торжествует. Он охвачен любовью – или плотским влечением – и не к Мэри Фишер. Предмет его любви, или похоти, одна из деревенских девчонок, забеременела, и он привел ее в Высокую Башню и поселил там. Кто-то – не исключено, что это избранница Гарсиа, – перетаскал у Мэри Фишер все драгоценности. Все ее прелестные вещицы, преподнесенные ей в память о нежной страсти, очаровательные памятки искусства сексуальной дискриминации добоббовского периода, исчезли без следа. Девица эта, по имени Джоан, с наглым видом расхаживает по Высокой Башне, выставив вперед день ото дня растущий живот, хихикает по углам с Николой, а Мэри Фишер начинает страдать от собственной неполноценности – будто сама она вовсе и не женщина, раз у нее никогда не было ребенка, а теперь уж, понимает она, и не будет.
Было время, когда Мэри Фишер считала свою бездетность благом, избавившим ее от деградации, заурядности, бессмысленности материнства; теперь она так не считает. Теперь ей нужно хоть что-то – все равно что.
Ее душа и тело рвутся к Боббо. Она может писать ему одно письмо в месяц, и он ей столько же. Она пишет о любви, пуская в ход все свое профессиональное мастерство, а он пишет ей в ответ какие-то странные, вымученные письма о погоде да о тюремной кормежке, да еще беспокоится о собаке Гарнесе, кошке Мерси, и о детях – все ли у них есть?
Мэри Фишер пытается переложить заботы об Энди и Николе на родителей Боббо, но Энгус и Бренда не могут взять детей на себя – и не хотят. У них ведь нет даже своего дома, объясняют они; всю жизнь кочуют из гостиницы в гостиницу. Животные и дети в такую жизнь совершенно не вписываются. Один раз попробовали – с Боббо – и зареклись: сами видите, что из него вышло! Кроме того, считая Мэри Фишер виновной в жизненном крахе Боббо, они совсем не горят желанием протягивать ей руку помощи.
Но тем не менее они иногда наведываются, а Мэри Фишер и такой компании рада. Подумать только, до чего она докатилась!
– Для детей здесь просто рай! – говорит Бренда. На сей раз она одета во что-то розовато-лиловатое вперемежку с зеленым, во что-то даже не шелковое, как обычно, а совсем невесомое, газовое, словно желая показать всем, какая она непрактичная, какая ненадежная в житейском плане. – Такое раздолье! Грех допускать, чтобы столько места пропадало зря. И потом, детям тут так нравится! Они очень даже недурно выглядят при всем при том.
При том, хочет она сказать, что на них свалилось столько бед разом – по милости Мэри Фишер. Бренда всякий раз привозит детям жвачку, которую можно раздуть в пузырь, и она лопается, розовыми ошметками прилипая к носам, щекам и волосам, а изжеванная, потерявшая эластичность, оказывается прилепленной к нижнему краю столов и стульев, где на нее и натыкаются ни о чем не подозревающие гости.
– Бедные крошки, – вздыхает Бренда, задирая голову, чтобы посмотреть на своих внучат, ростом под потолок. Они берут у нее жвачку – отчасти, чтобы не обижать ее, отчасти пользуясь случаем позлить Мэри Фишер, и отчасти потому, что, хотя сами они без пяти минут взрослые, им очень хочется подольше оставаться детьми. Они еще помнят райское время, золотые деньки в доме 19 по Совиному проезду. И оттого они мрачнеют и замыкаются в себе. В школе оба едва успевают.
Никола надувает пузырь, и он лопается прямо над ухом одного из доберманов, и зверюга хватает ее за нос, и ей накладывают шестнадцать швов – пришивают оторванные куски, прячут внутрь поцарапанную кость. Никола плачет и зовет пропавшую мать – в первый и последний раз.
Мэри Фишер замечает, что Энди все чаще поглядывает на нее нехорошим, хищным взглядом. В его возрасте вообще не положено так смотреть, тем более на женщину, которую любит его отец, но что она может сделать? Она бы с радостью отправила обоих в какой-нибудь интернат, но это бесполезно: они все равно явятся обратно, точно так же, как когда-то ее мамаша, которая из любого дома для престарелых возвращалась назад, к ней. Они грозят, что так и будет, и она им верит. Боббо не желает, чтобы они навещали его в тюрьме.
– Пусть забудут, что я есть, – говорит он.
Мэри Фишер опасается, что понимать это следует скорее как его собственное намерение поскорей забыть, что они есть.
Старая миссис Фишер не встает с постели, ходит под себя и глотает валиум лошадиными дозами. Время от времени она вскидывается и громко говорит: «Бандитское гнездо! Вот кого надо сажать в тюрьму – держи ее!» И Мэри Фишер до того раздавлена, что слезы сами катятся у нее из глаз, и ей делается так горько – ведь в целом мире у нее нет никого, никогошеньки!
– А мы? – спрашивают Энди и Никола, не спуская цепких глаз с Мэри Фишер, куда бы она ни двинулась. Иногда ее охватывает такое чувство, будто она живет в фильме ужасов.
Мэри Фишер умоляет Энгуса и Бренду забрать хотя бы пса Гарнеса – ради Боббо, – но они неумолимы.
– Самое милое дело усыпить беднягу, – советует Энгус. – Собака без хозяина – не собака. Они же с Боббо были вот как! – И он, сцепив два пальца, показывает сплетение судеб собаки и человека.
Но Мэри Фишер не может усыпить собаку. Раньше могла бы, теперь нет. Она слишком хорошо знает, что будет чувствовать Гарнес. Я бы хоть дюжину собак извела, глазом бы не моргнула, если бы решила, что это в моих интересах. Я начала с плюгавой морской свинки – и вот, полюбуйтесь! Превратилась в дьяволицу. И я бы не удивилась, если бы в моем лице мир увидел обещанное ему второе пришествие (на этот раз в женском обличье). Как знать, быть может, я стану таким же символом для женщин, каким Иисус стал для мужчин. Он предлагал усыпанный каменьями путь на небо; я предлагаю автостраду в ад. Я несу страдание и самопостижение (вещи неразрывные) другим и спасение – самой себе. Каждая – за себя, вот мой девиз. И если меня распнут на кресте моего эгоизма, я не буду роптать. Я хочу только одного – жить по-своему, и, клянусь Сатаной, я этого добьюсь!
У дьяволиц много разных имен, и по умению вторгаться в чужую жизнь им равных нет.
25
Руфь, успешно достигнув своей цели в доме судьи и вынужденная еще около месяца ходить к дантисту-хирургу, принялась подыскивать себе жилье в Брэдвелл-парке, где, как подсказывала ей интуиция, можно было без труда сохранить свое инкогнито. Публика здесь обитала самая разношерстная – с точки зрения габаритов и внешнего вида вообще, – так что охотников смотреть ей вслед, можно сказать, не было. Брэдвелл-парк затерялся в гуще западных окраин: обширный, запущенный и безликий кусок огромного города. Здесь жили бедняки.
У Руфи на счете в швейцарском банке лежало 2 563 072 доллара 45 центов, но она предпочитала жить просто и скромно – по крайней мере, пока.
Богатые всегда на виду, бедняков никто не замечает – унылая серая пелена, скрывающая их жизнь, делает их невидимками. Руфи совсем не улыбалось привлекать к себе внимание полиции или финансовых органов, пока не пробил час. И, помимо всего прочего, в Брэдвелл-парке она наверняка не встретила бы знакомых из Райских Кущ, которые, увидев ее, воскликнули бы: «Как! Глазам своим не верю, да ведь это жена Боббо! Вы здесь? Какими судьбами?»
И Брэдвелл-парк и Райские Кущи, где Руфь жила прежде, в своей другой жизни, характеризовались как предместья, но разница между ними была огромная. Населяющие Брэдвелл-парк мужчины и женщины жили где и как придется, в то время как в Райских Кущах они помещали себя внутри аккуратненьких, со всех сторон ограниченных изгородью квадратиков. В Брэдвелл-парке было больше женщин, чем мужчин, меньше гаражей и меньше машин, всего-навсего один бассейн для общественного пользования с таким количеством хлорки в воде, что у купающихся глаза вылезали из орбит. Жители Брэдвелл-парка зарабатывали меньше, чем им хотелось бы, и здешних женщин, как правило, загоняла в угол нужда, а не путаница в собственных мыслях и чувствах – зато они могли утешать себя тем, что не просто с жиру бесятся и сами не знают, чего им надо, а имеют серьезные основания пенять на судьбу.
Руфь некоторое время стояла на улице возле дверей отдела социального обеспечения, пока оттуда не вышла подходящая кандидатура: молоденькая, до двадцати, женщина, беременная, с двумя цепляющимися за нее малышами, толкала перед собой детскую коляску, доверху заполненную пакетами с провизией. Миловидная, с пастозно-бледным лицом и безучастным взглядом. На автобусной остановке она остановилась и стала ждать; когда автобус подошел, Руфь помогла ей войти и погрузить детей, коляску, пакеты – кондуктор при этом стоял, сложа руки, – а затем подсела к ней, и они разговорились.
Звали девушку Вики. Ее Марте три годика, Полу два. Нет, мужа у нее нет и не было.
– Я хочу снять комнату, – сказала Руфь. – Не знаете, к кому бы обратиться?
Вики не знала.
– А у вас уголка не найдется? – спросила Руфь. – Я бы могла за детьми присмотреть, помочь по хозяйству. Ну, и немного деньгами приплачу – там договоримся. Главное, в соцобеспечении ничего не узнают.
Заманчивая перспектива ни за что ни про что получать деньги да еще и помощь в придачу оказалась сильнее небезосновательных опасений Вики, что ее жилище может отпугнуть кого угодно, особенно человека непривычного. И дело было сделано: Руфь поселилась в доме у Вики, в задней комнате, а спать устраивалась на раскладушке, которая в первую же ночь под ней развалилась. Комната эта почти не использовалась, потому что в ней было темно и промозгло, но Руфь несколько оживила ее яркими плакатами и все стены затянула рогожкой, чтобы штукатурка не осыпалась.
– Какая ты счастливая, что у тебя большой рост, – сказала Вики. – Тебе даже стремянка не нужна. Мне вот без стремянки никак, а у меня ее нету. А то я сама бы тут уже все в порядок привела. Правда, рогожка мне тоже не по карману. Да и вообще, с какой это стати я должна тут что-то делать – пусть хозяин сам следит за своим домом!
Вики бросила учебу в шестнадцать, быстро убедилась в том, что на работу ей не устроиться, и села на пособие. Ничего не делать было, по крайней мере, не так скучно, как вкалывать за гроши (ни на что другое она рассчитывать не могла), хотя еще неизвестно, от чего больше устаешь. В детстве Вики страдала астмой, и у нее имелась справка от врача, что легкие у нее слабые, поэтому та работа, на которую нанимались ее ровесницы в Брэдвелл-парке – большие прачечные комбинаты и химчистки, обслуживающие целые городские районы, – по состоянию здоровья была ей противопоказана. Постоянно впитывая водяной пар и испарения химических реактивов, самые молодые и здоровые легкие разрушаются очень быстро, так что Вики крупно повезло вовремя попасть в списки хроников – благодаря этому пособие ей со временем не урезали, как другим девушкам, подталкивая их быстрее соглашаться на любую, даже самую вредную работу. Короче, соглашаться на то, что есть, и не привередничать.
– Nil bastardi carborundum, – сказала Вики и рассмеялась невесело. То есть, не дай ублюдкам себя сожрать. Эту фразочку она подцепила у своего случайного любовника-студента.
В восемнадцать Вики вдруг стало себя ужасно жалко, и она подумала, что целью и смыслом ее жизни должны быть дети, и она принялась планомерно осуществлять задуманное. Когда есть кого любить – это так же важно, как когда есть чем себя занять. Стоило ей родить ребенка, отдел по благосостоянию малообеспеченных слоев населения взял на себя плату за дом, а фонд социальной помощи выделил ей талоны на электроэнергию и продовольствие, и, если бы она как следует взялась за чиновников из «Нет нужде», они как миленькие оплачивали бы ей и счета за газ, и абонементное обслуживание телевизора, и ремонт стиральной машины. Но это тоже работенка не из легких – ходить из отдела в отдел, да еще когда на тебе виснут двое детей, один другого меньше. Так ли, сяк ли, она наскребала детям еды на завтрак, но на ужин уже не хватало – или наоборот. Взамен государство требовало быть преданной ему всей душой – в отличие от любого из брэдвеллских мужей, которые вполне довольствовались телом. К сексу в Брэдвелл-парке относились в основном как к обязательной повинности, а не как к источнику взаимной радости и духовного обновления, и любой намек на интимную близость супругов воспринимался как непристойность – мужчинами и женщинами в равной степени.
Вики изворачивалась и негодовала, она честила на все лады государство и насмехалась над ним, своим кормильцем, точно так же, как иные жены поносят и высмеивают своих мужей, которые их и кормят, и холят, и любят. Второй ребенок Вики, Пол, личиком был вылитый отец – после рождения малыша тот прожил с ними еще полгода, чтобы затем выскочить однажды вечерком из дома купить пачку сигарет и больше не вернуться.
– Ты не переживай, – говорила рыдающей Вики медсестра в клинике по планированию семьи. – Ни под какую машину он не попал, и на летающей тарелке его не увезли. Все нормально, жив-здоров. Через месяц-другой сам найдется – тут же по соседству кто-нибудь его и приголубил, сердешного. Такое сплошь и рядом случается. Идет полное разрушение социальных основ общества, как теперь считают.
– Но он любил меня. Он сам мне говорил!
– Наверное, просто не хотел тебя расстраивать. Малютка Пол, согласись, у тебя не шибко спокойный, а потом, не всякий мужчина будет терпеть чужого ребенка – кстати, как там наша Марта? Золотуха прошла?
– Да было прошла, а теперь вот снова обкидало, – поплакалась ей Вики. – Все из-за него.
Марточка так привязалась к нему! Ребенок-то в чем виноват? Она, бедненькая, так ждет его, так скучает!
– Вики, – грустно сказала медсестра, – либо ты рожаешь детей в рамках системы, специально придуманной обществом для защиты женщин и детей, то есть в семье, либо ты живешь за рамками – тогда пеняй на себя и не жалуйся.
– Nil bastardi carborundum, – пробурчала Вики.
В скором времени место, освободившееся после отца Пола, занял другой мужчина – природа, как известно, не терпит пустоты в постели – и прожил с ними три месяца, пока не подыскал себе менее обремененную детьми женщину, к которой он и съехал, оставив Вики с животом.
Тут-то Руфь на нее и наткнулась.
Книги Мэри Фишер хорошо раскупались в Брэдвелл-парке. Женщины брали Мэри Фишер, а мужчины комиксы – скажем «Череп, который смеялся» или «Человек-монстр», – и всем на время становилось полегче. Большой популярностью пользовалось видео, и фильмы, состоящие сплошь из секса и насилия, составляли основу семейного развлечения по вечерам – в Райских Кущах о таком нельзя было бы и помыслить.
– Почему мне так не везет в любви? – спрашивала Вики Руфь, пока та перетряхивала ее дом – выметала из углов апельсиновые корки, безжалостно выбрасывала всякое старье, стирала занавески, не стиранные с тех пор, как их повесили, вытаскивала откуда-то совершенно новые, никем не пользованные покрывала на детские и взрослые кровати, воевала с грязью и безысходной тоской, которые ох как часто друг другу сопутствуют.
– Потому что ты всегда беременна, – объяснила Руфь.
Но ведь то-то и оно! Есть женщины, которые созданы для беременности – несмотря на все таблетки, спирали, колпачки и календари. И можно ли требовать от мужчины, чтобы он всеми доступными способами усмирял плодовитость своей подруги, тогда как очевидно, что беременность – это то, чего хочет она сама и хочет государство, готовое взять на себя заботу о ней. Когда есть кого любить и есть чем себя занять – что еще нужно человеку?
Руфь и Вики много смеялись по этому поводу, сидя перед газовым камином зимними вечерами. Вокруг – чтобы тепло не пропадало даром – были развешаны мокрые пеленки: на сушилку денег не хватало, но скоро поднаберется – благодаря тому, что ей доплачивала Руфь. Ну и жизнь! Вики слабо надеялась, что, когда на свет появится третий, хотя бы кто-то из детей – либо Марта, либо Пол – перестанут писать в штаны, но она почти ничего не делала для этого. А что можно сделать, если у ребенка так устроены почки, мочевой пузырь? Эти органы все равно не смогут работать по-другому раньше положенного времени, а приучать проситься на горшок, как советовали в клинике, бесполезно, и даже, бывает, травмирует ребенка. А тут еще в доме такой холод! Руфь иногда надевала на ноги сразу три пары мужских носков – отец Пола, в своем великодушном стремлении пощадить чувства Вики, ушел, оставив ей все свои вещи. Совсем недавно, в субботу, кто-то видел, как он, толкая перед собой детскую коляску, направлялся в магазин за покупками.
У знакомой сестры в клинике и тут нашлось объяснение.
– Встречаются такие мужчины, дорогуша, которые обожают сам процесс – беременность, рождение, младенчик в доме, а потом, когда дети подрастают, им вроде уже не интересно. Среди женщин такие ведь тоже бывают? Вот видишь, выходит, женщинам можно, а мужчинам нельзя. Несправедливо получается.
Вики жила под гнетом сильного разочарования и, главное, недоумения, отчего это все тарелки так легко бьются, кровати ломаются, долги накапливаются, а дети не только вечно болеют – то кашель, то насморк, – но еще такие горластые! Она ожидала совсем-совсем другого. Не о таком материнстве она мечтала; но у нее был бойцовский характер, и она, стиснув зубы, шла на очередную попытку. За проживание в задней комнате Руфь оплачивала стоимость бутербродного масла, которое дети намазывали на хлеб, и сгущенного молока, которое их мать добавляла себе в кофе, плюс пачка «Мальборо» ежедневно и билет на автобус до клиники, куда Вики ездила за моральной поддержкой и советами, как предупредить следующую беременность, когда разрешишься от нынешней. Но ведь может случиться, что именно следующий, четвертый по счету, ребенок окажется гением, может, это будет идеальный ребенок, а Вики сумеет стать для него идеальной матерью! (В своем третьем она успела разочароваться заранее из-за приступов тошноты по утрам.) Что, интересно, Руфь думает по этому поводу, вопрошала она, смеясь и всхлипывая одновременно. И разве предохранение от беременности не такой же грех, как аборт? Лично у нее есть ощущение, что большой разницы тут нет. А на что еще Вики могла полагаться в жизни, если не на собственные ощущения?
– Я думаю, в худшем случае мы лишимся гения, – спокойно ответила Руфь. – Впрочем, рассчитывать на гения – все равно, что готовиться выиграть главный приз в лотерее. Теоретически возможно, но на практике едва ли.
Между тем Руфь обратила внимание на то, что в католической миссии, расположенной прямо напротив здания, где размещалась служба социального обеспечения, энергичную деятельность развил некто отец Фергюсон: молодые мамаши могли оставлять там под присмотром своих детей, пока сами ходили по инстанциям, и даже немного подкрепиться – и все бесплатно. Когда Вики заглядывала сюда перехватить на ходу чашечку чая, перекинуться словечком-другим или просто передохнуть в приятной компании, возле нее тотчас возникал отец Фергюсон. Вики души в нем не чаяла. Отец Фергюсон утверждал, что Вики на правильном пути и живет как подобает Божьей дщери, а вот злосчастная клиника, которая дает советы по предупреждению и пресечению, а то и вовсе рекомендует стерилизацию, поступает дурно, точнее сказать, нечестиво. Счастье женщины и ее предназначение в том, чтобы приумножать поток душ, стекающихся к Господу. Однажды отец Фергюсон пришел проведать Вики, и Руфь пригласила его войти. Вики дома не было.
Он окинул взглядом чистенькую, прибранную, хоть и бедно обставленную комнату и сказал:
– Как тут все изменилось! Вероятно, это ваша заслуга?
– Моя, – ответила Руфь.
– Мне нужна экономка, – сказал он.
– Так ведь и Вики она нужна, – напомнила Руфь.
– Вики сама справится, – сказал он. – Какие у нее заботы? Только дети. У меня вы хоть жалованье будете получать.
Руфь сказала, что она будет иметь это в виду.
Отец Фергюсон был худощавый, аскетического вида мужчина, словно созданный для обета безбрачия. Он смело устремлялся в бушующий океан женской плоти – всех этих грудей, животов, потных подмышек – и ни разу не спасовал, не повернул малодушно к берегу. Его уши, настроенные на музыку сфер, изо дня в день подвергались испытанию: их терзали пронзительные, как крики чаек, приступы женского смеха и женских слезливых истерик – но он их мужественно не затыкал.
Рано утром, во вторник, когда земля была еще крепко скована морозом, Руфь вышла от Вики, чтобы в последний раз встретиться с мистером Фиртом, дантистом. Она посещала его под именем Джорджианы Тиллинг. Дорога в один конец занимала два с половиной часа. Одной из примечательных черт западных предместий является острая нехватка общественного транспорта и непомерная дороговизна тех немногих транспортных услуг, которые предоставляются жителям. Руфь должна была сперва полмили идти пешком в гору до ближайшей остановки автобуса, затем полторы мили ехать до ближайшей станции метро, и потом еще два раза делать пересадку с одной линии на другую, и только тогда она попадала, куда ей требовалось, а именно в ту часть городского центра, где практиковали самые дорогие и преуспевающие врачи и дантисты.
В хирургическом кабинете мистера Фирта плавали тропические рыбки, и на стене, в которую утыкался взгляд пациента, возникал занятный, постоянно меняющийся узор. Обезболивание мистер Фирт проводил с помощью акупунктурного метода и гипноза. У мистера Фирта были впалые щеки и выступающая вперед челюсть, а сам он был любезный, ухоженный и моложавый.
Руфь устроилась в его новом кресле и нашла, что оно неудобное – слишком короткое для нее. Мистер Фирт осмотрел ее рот.
– Поздравляю, мисс Тиллинг, – удовлетворенно сказал он. – У вас просто талант к выздоровлению, редкий талант! Теперь вашу челюсть можно уменьшить на целых семь сантиметров; обычно считается, что два с половиной это предел, но последние достижения в лазерной технологии и микрохирургии делают возможным то, о чем прежде нельзя было и помыслить. Вы войдете в историю пластических операций! Понятно, для этого нам пришлось удалить в три раза больше зубов, чем мы обычно это делаем, – чтобы затем можно было уменьшить челюстную дугу пропорционально по всей длине. Думаю, мне было больнее, чем вам самой: удалять такие здоровые, крепкие, упрямые зубы ради внешности, а не во имя здоровья – для зубного врача это сущее наказание. Однако, хочешь не хочешь, надо идти в ногу со временем. Надеюсь, вы согласитесь со мной, что иглоукалывание – эффективный и совершенно безвредный способ для снятия болевых ощущений.
– Лифно я никакого эффекта не пофуфстфофала, – сказала Руфь, и, сплюнув в металлическую плевательницу, в водоворотик розоватой воды, добавила: – Как вам известно не хуже меня.
Мистер Фирт не преминул отпустить еще несколько замечаний – по поводу антиобщественной сущности косметических операций, из-за которых специалисты высочайшей квалификации попусту тратят свое драгоценное время и умение, а также по поводу тщеславия и легкомыслия тех женщин, которые их на это толкают, – после чего вызвал из приемной свою длинноногую светловолосую секретаршу, чтобы та приняла от Руфи деньги. Руфь заплатила мистеру Фирту 1761 доллар, в том числе 11 долларов его миниатюрной старательной ассистентке, которая завершала обработку торчащих из десен острых краев и подгоняла временные коронки. Руфь объявила мистеру Фирту, что постоянные коронки она будет делать в другом месте.
– Как знаете, – сказал он. – Я вам указывать не могу. Только не удивляйтесь, если вас обманут. Сдерут деньги, а взамен поставят стандартные жемчужные зубки – безо всякого учета вашей индивидуальности – только людей смешить!
– В таком случае я подгоню свою индивидуальность под новые зубы, – отрезала Руфь. – Всего хорошего!
Выйдя от дантиста, Руфь отправилась на прием к мистеру Рошу, самому знаменитому в городе хирургу. Его конек был исправление носов. Когда-то он начинал как гинеколог, но бремя ответственности – шутка ли, постоянно давать и отнимать жизнь! – показалось ему непосильным. В сравнении с этим косметическая хирургия было занятие куда более легкое и благодарное.
По крайней мере, так он думал до недавнего времени. Но тут на его голову свалилась Руфь, развернувшая перед ним поистине грандиозную, наисложнейшую и даже рискованную программу. И он призвал на помощь своего протеже, мистера Карла Чингиза. Когда Руфь пригласили пройти в кабинет, она застала там обоих.








